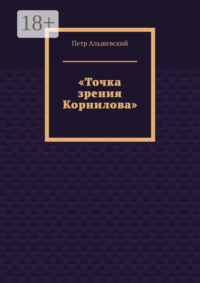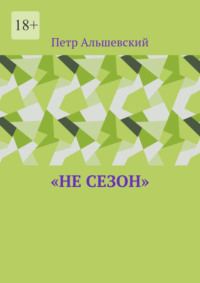Полная версия
«Постояльцы черных списков»
Марина Егорова только что вернулась из деловой поездки, и парочка вертких шумных ребят отнеслись к ее возвращению с немалым восторгом; повиснув на ее красивой шее, они в два сбивающихся голоса нетерпеливо призывали Марину пройти в отцовский кабинет.
Она им подчинилась. Дети соскочили с ее шеи и вбежали в кабинет своего отца еще раньше ее – Марина устало вошла за ними и увидела, что ее первый и пока последний муж болтается в петле.
Лицо у него безучастно, расположение глаз такое же, как и было, но с живым Николая уже вряд ли перепутаешь; его слова… слова моего Коли, гордеца, зануды, миниатюрного отморозка – придерживай меня изо всех сил, говорил он, а не то я вырвусь, пойду гулять по кладбищу, задирать колени до облаков и затягивать демоническую балладу «Возьми меня сходу».
Николай над многими, жена Николая у его ног, их дети не разделяют ее существенного недоумения. Им шесть и четыре: пока еще искренний возраст.
– Папа, – сказал сын, – уже второй день, как в болтается в петле, но мы его не пробовали снимать. Хотели, чтобы ты сама увидела его в ней. Там. Нам показалось неправильным лишать тебя такого сюрприза. – Невинно улыбнувшись, он посмотрел на маму – Ты ведь не будешь спорить, что сюрприз?
– И какой… – пробормотала она.
– Хороший? – спросил сын.
– Ну, если говорить не об отце, а о вас…
– О нас, – сказала дочь.
– … то с вашей стороны… он вполне… нормален, – закончила фразу изумленная Марина Егорова.
Дети полностью согласны с ее оценкой: нормальный это сюрприз, мамочка, не хуже, не лучше, просто нормальный; пойдем, Николай сейчас же… отдать концы! дурман-обогатитель приглушает заезженные призывы Конвейера, и я неотразим, когда не берегу себя – их повесившийся отец был немного знаком с Вадимом «Дефолтом» Гальмаковым.
Как-то раз в день поминовения усопших у Николая с «Дефолтом» не хватило денег на одну и ту же проститутку.
«При наличии средств я бы имел честь угостить вас, Вадим, лягушачьими лапками…».
«Мерзость не ем».
«Они по вкусу, как цыпленок, и вам…».
«Цыпленка ем. Мерзость нет».
Шаболовская – район для Гальмакова не чужой, но прежде здесь ходили до метро другой дорогой: ныне все идут, как раньше никто не брался; Вадим «Дефолт» вместе со всеми не ходок, он собирается идти до метро своим прежним путем: новый путь, конечно, короче, но не со всеми же мне ходить, раньше ходил, но теперь, после того, как я начал изучать итальянский и сухо присмотрелся к безбрежно озаренной вселенной, я кое-что понял. Уяснил и разжевал.
Вадим Гальмаков идет своим прежним путем; попирает ногами обрезки трубы, ни от кого не скрывает своего Я, до метро не доходит – стройка, все огорожено, перекопано, но Вадим что-то понял, и на одну дорогу со всеми его не столкнуть; «Дефолт» Гальмаков перебирается через ограждение, яростно бредет посреди незаконченного строительства; скоро ночь, и на стройке он один, Вадим «Дефолт», понятное дело, куда-то падает и лежит, одышливо думая: все домой, а я в больницу, но не со всеми же мне ходить, я отныне и вовеки не стадный, слава богу, я кое-что понял… вызову по мобильному телефону скорую помощь и в больницу. Не самому же мне переломы подсчитывать – навозный жук обычно находит свою любимую на куче навоза, а я не пролил ни капли крови за претворение в жизнь либеральных идей и мобильный у меня отчего-то не работает; от удара ли, от чьей-то верховной нелюбви? благословляя свое мистическое отдаление от масс, Вадим Гальмаков начинает задумываться о самом худшем, на улице же зима, крещенские, народ, значит, домой, а я, вероятно, не в больницу – и крика никто не услышит, и кровь, оставшуюся у меня в полном составе, никто суетливым растиранием не взбодрит; не в больницу я, вероятно – не в больницу… на погост. Все домой, и я, по большому счету, тоже. Рано или поздно, но все ко мне присоединятся, все, все, никаких поблажек и исключений; Вадим «Дефолт» Гальмаков так не думает: у него до всех остальных не просматривается и вскользь проходящего интереса.
Ненавидит он тех, кто все. Всех ненавидит.
Седов на ненависть к чужим людям не полагается, и вчера у него было объяснение с вольной шовинисткой Еленой Балаевой – ожидание, объяснение, сильные эмоции, смех – упадок. Сегодня Седов пуст.
Выйдя из подъезда, он царапает подошвами осенний парк. На небе волокнистая наледь, запах дезинфекции характерен для дольнего мира – да не отощает мое воображение: Седов останавливается возле бесконфликтно читающей девушки. Она упивается романом Айрис Мердок и скоблит двумя ненакрашенными ногтями картонную закладку; Седов прекратил движение не ради компании, от усталости ему свело правую ногу – зажуй облаками, выбор орудия пыток за тобой, Елена, мегера, Балаева, ее девственная плева лопнула, как пузырь, неприязненное снисхождение и спонтанные вылазки в консерваторию, мой долг не исполнен, пока я жив; девушка посмотрела на его доведенное до перекоса лицо и поинтересовалась не может ли она ему чем-нибудь помочь.
Седов ответил, что не может. Отвечая приветливо и не окончательно – с надеждой еще понадеяться.
Никто не избавит тебе от кармы. Разум пошел за свои пределы и не вернулся: они разговорились.
О братьях Чеховых, о тусклом закате династии Сасанидов, и Седову неотвязно становилось теплее; нравилась ли ему девушка, не нравилась – она ему не нравилась – Седов не задумывался. Он гулял с ней по павшим листьям и беспрерывно курил «Lucky strike».
Ровно в три часа двадцать шесть минут он уже отошел от вчерашнего.
Похмелил душу.
Ее не мешало бы похмелить и израненному фантазеру- скитальцу Ерофею Никодимовичу Антипину, жившему в семидесяти километрах от Вологды и прыгавшему вместе с жабами каждый более-менее значимый церковный праздник.
Уверенностью в своей вере он оброс, как бородой, и для ее окончательного обретения ему не достает лишь одного – сорока дней и ночей жестокого поста, подобно тому, что выдержал Спаситель на высоте четырехсот метров над уровнем моря.
Заслуживающих внимания гор в окрестности той деревни, где Ерофей Антипин пятьдесят два года сыпал в щи замерзший пот, как не было, так и вряд ли появятся, но лес вокруг нее есть, и Ерофей Антипин, уходя в лес, удаляется из деревни, чтобы сорок дней и ночей изводить себя жестоким постом – чтобы обрести, если не веру, то хотя бы окончательную в ней уверенность.
Чтобы побороться. Чтобы противоборствовать искушению дьявола без угнетающих помех цивилизации духа.
Разомкнись! И не смыкайся! кто бы ты… кого бы я… сохраняя дистанцию и с человеком, и со зверем, Ерофей Антипин живет в лесу. Иногда даже находит еду – с ягод и корений акробатический рок-н-ролл особо не потанцуешь, но Антипин уходил в лес не танцевать и не звенеть стаканами с яблочным первачом, а закреплять уверенность в обретении веры.
Сорок дней. Позади – сорок дней, столько же ночей: сорок пять, два месяца; Ерофей Антипин назад в деревню не спешит. Пока в округе светло, он созерцает внутренности тишины, а, как стемнеет, забирается в тесный шалаш – колет об лоб земляные орехи и почти на равных молится Феодору Стратилату, настолько резво осеняя себя крестом, что за минуту получается более полутора сотен раз.
Погода… подпустив в свое дыхание расшитые снегами холода, она выперла Ерофея Антипина из леса. Попросила на все четыре стороны – не прекращая чувствовать за собой неопределенной большой вины, Антипин поперся обратно в деревню.
К людям. Настроение с каждым шагом прижимает Ерофея к земле, глаза, не глядя вперед, набухают горькими слезами – когда послышались человеческие голоса, и огни его деревни рассеяли уютный мрак, Ерофей Антипин совсем растерялся.
Спаситель наш, подумал он, постился близ Иерихона, а сей населенный пункт неспроста называли городом пальм: тепло там, наверное.
Было бы здесь весь год тепло, я бы вовек в деревню не вернулся: ел бы, что мирозданию для меня не жалко и Троицу на пару с совой воспевал. Пел бы ей выстраданную славу и людей бы своим бдением не тревожил – не раздражал бы их попусту…
Удрученность и смятение, пораженческие настроения; Мартынов сказал бы ему: «не отрывайся далеко от земли, Ерофей: на полметра приподнялся и этого уже достаточно» – Мартынов берется существовать, основываясь и на этом, и на другом, и черт знает на чем; мир всем живым, сохранения спокойствия всем остальным, люди разные, дело решенное, решенное по-разному, знаменитый футболист Паоло Джанивери верит в себя не меньше, чем в Господа, и по окончанию ничего не решающего матча снедаемые любопытством репортеры не позволяют ему уйти с поля – взяв Паоло в плотное кольцо, они навалились, ощерились, и рвутся расшатать своими микрофонами его передние зубы.
– Паоло! Паоло Джанивери!
– Отстаньте, – пробиваясь сквозь них, пробормотал Паоло. – Уйдите… Пошли к дьяволу, вам говорят!
– Всего один вопрос! Паоло!
– Ну чего еще?
– Вы сегодня первый раз в жизни били пенальти! И не забили! Лень было?! О женщине подумали?
Паоло Джанивери стоял перед ними, как скучный белый медведь после подтвержденных цифровыми выкладками уверений знакомого полярника касательно ожидаемого со дня на день глобального потепления – еще отчетливее помрачнев, Паоло Джанивери угрюмо пробурчал:
– Баста…
– О чем вы, Паоло?
– Пусть бьется в истерике тренер, – сказал Паоло, – пусть умоляют тиффози, но я ни за что больше не подойду к точке.
– А сегодня зачем подходили?
– Затем… Оба наших пенальтиста травмированы, вот команда мне и поручила. Я разбежался и показываю вратарю этого говенного «Лечче», что буду бить слева от него. Но показываю специально, чтобы он подумал – в другой я буду бить. Показываю и бью, куда показывал, но с расчетом, что вратарь поймет, что я его обманываю и прыгнет в другой. А после игры это ничтожество Колинелли ко мне подходит, лыбится и говорит: «Балда ты, Паоло, не думал я, что ты такой ослина – куда показал, туда и ударил». И это ничтожество посмело меня – меня, которому устраивал овации не только «Сан-Сиро», но и «Хайбери» с «Местальей», ослиной обозвать… Не пытайтесь приклеить ко мне ярлык человека, не признающего своих ошибок, но какое же он все-таки ничтожество…
– Но пенальти-то он взял.
– От того и взял, что ничтожество. – Протискиваясь в раздевалку, Паоло Джанивери не переставал уничижительно бурчать. – У думающего вратаря никаких бы шансов не было…
Были бы они у Седова? Исключительно в очень маленьких воротах. Таких, чтобы он полностью их перекрыл – Седов четвертый день в прострации и расслаблен; его переполняет небесная гнусь, он не использует тунгусов в качестве метеоритов: она возвращается. К Седову.
К нему возвращается женщина, не вызывающая чувства доверия. С силиконовыми губами.
Ревностная эксгибиционистка Вероника Кошелева.
Она возвращается из туалета, Седов выковыривает из овощного ассорти нелюбимые им цуккини, в ресторане поет Ширли Бэсси. Не на сцене. На уме у Седова только одно: наскрести бы денег расплатиться.
Седов уже не ставит раскладное кресло посреди МКАДа. Раньше ставил – какие же это были времена: женщины раздевались и оказывались не мужчинами, интересная врач-стоматолог ставила ему штампованную коронку, а он щурился и причудливо трепал ее за грудь, сейчас все уже по-другому.
– Опять цуккини выковыриваешь? – спросила у Седова вернувшаяся дама. – Не приелось?
– Не люблю я их, – сказал Седов. – Не переношу и никому, никому относительно этого пыль в глаза не пускаю. А тебе я расскажу один случай. Тогда я обедал в полу-ресторане возле театра Маяковского – кому он принадлежал, я не знаю, но на кассе там был черный…
– Негр?
– Наш черный, грузин, наверное. Я выпил сто грамм, закусил очень вкусным и недорогим харчо, и перед тем, как оттуда уйти, пошел в туалет. Подошла моя очередь, но я не заторопился – у меня хорошее настроение и я начинаю всех пропускать. Парня, девушку, приземистого мужика с толстой жилой на лбу. Но этот мужик задерживается в туалете дольше, чем я предполагал. У меня уже поджимает, и я стучу ему в дверь – стучу, бью в нее ногами, пытаюсь сломать, грузин встает из-за кассы, он меня оттаскивает, я ору ему нечто крайне националистическое – я никогда не ощущал себя в такой степени расистом.
Вероника его слушает. На правом колене ее брюк застыла малиновая пчела – некоторым людям хочется о чем-то вспомнить, Седову хочется о чем-то забыть, но он не помнит, о чем, и не вносит свою лепту в федеральную программу «Дети Севера».
– Это еще ладно, – закурив взятую из ее пачки сигарету, продолжил Седов. – Внимай дальше: неделю назад я был в Алтуфьево. В ночном клубе. Меня там страшно поносило…
– Не за столом же об этом, – поморщилась Вероника.
– Все равно аппетит из-за этих цуккини ни к черту. Итак, меня поносило и я или сидел в сортире, или ошивался где-то рядом с ним. На меня уже стали обращать внимание: некто молодой и томный в кожаных штанах спросил у меня: «сколько?». Я переспросил: «что сколько?». И он, приближаясь, сказал: «как будто ты не понял… Сколько стоит, чтобы ты у меня отсосал? Или тебе это так необходимо, что ты сам за это платишь?». Я буквально охренел… Когда я прошлой весной услышал на Тверской: «мальчика не желаете?», я и то испытал гораздо меньший шок. – Седов с отвращением смел под стол очередной цуккини. – И как, по-твоему, я поступил около того туалета?
Кошелева не знает. Ее пристрастие к Седову все еще скоропортящийся товар: расчетливый чванливый гном в смирительной рубашке.
Его смирительная рубашка – ее нетерпение жить.
Жить не одной.
– Ты набил ему морду? – предположила она.
– Нет, – ответил Седов.
– Неужели отсосал?!
– Тише ты… Я у него, разумеется, не отсасывал. Снова войдя в туалет, я закрылся в кабинке и долго там сидел. И основном, не испражнялся, а думал. О том, что я сам виноват в моей жизни. О смерти на второй завтрак. О святом Федоре на крокодиле Холере. И о тебе… О тебе я тоже думал.
– Обо мне без тебя?
– Этого, – усмехнулся Седов, – нам с тобой не избежать. Я не plastic fantastic lover, а ты не та, кто, пригревшись на моем животе, будет встречать закат – мой. Моего солнца.
Веронике Кошелевой стало почти смешно.
– Солнца… – насмешливо протянула она. – Ты его еще ни разу так не называл.
– Тебе не называл, – поправил ее Седов.
– А другим?
– Что же это такое… – разозлился Седов.
– Ты о чем? – спросила она.
– Опять цуккини попался.
Седову не смешно. Если он когда-нибудь и спугнул удачу, то непреднамеренно, но удаче этого не объяснить, она уже далеко и преследовать ее бесполезно; Седов ворочается на Ленинградском проспекте рядом с подложенным к нему плюшевым бегемотом, жизнь идет, идет, идет… женщины уходят или не приходят – жизнь идет. Идет, идет… Как ледокол. Сквозь мечты и тревоги.
Заговоривший с Седовым в Алтуфьево и пренебрегающий христианским долгом Владислав Никонов предпочитает контролировать состояние своего духа.
Контролировать вряд ли. Отслеживать получается – Владислав выскальзывает из ночного клуба в нега тщеславие ложное насыщение Упанишадами; Владислав, как и прежде, в Алтуфьево: так… состояние моего духа у меня неплохое. Район довольно пугающий, но с моим духом все обстоит нормально.
Я заворачиваю за угол. Не в курсе, куда продвигаюсь. Состояние моего духа у меня как после «Акустики» Гребенщикова.
Мой он дух – ничей больше. В нем словно бы распускается сакура. Кто-то ходит за вдохновением на кладбище, но я на кладбище не хожу: мне пока не к кому и желания нет. Приземленное у меня состояние духа – приземленное в том смысле, который является для меня основополагающим в моем нахождении на земле.
Я на земле, во мне мой дух. В нем распускается сакура и позванивают дюралевые колокольчики. Отсоси у меня тот мрачный мужчина, было бы еще приятней, но все и так слава богу. Подобному состоянию духа позавидовали бы и подслеповатые райские птицы.
Но вот что-то похуже. Жаль, что я лишь слабо умею его контролировать. Но отслеживать могу: не очень у меня состояние моего духа. Район здесь и вправду гиблый и за последние пятнадцать-двадцать секунд состояние моего духа окончательно ушло в ноль. Я бы сказал, что оно у меня теперь ниже нуля.
На «Акустике» Гребенщикова мне больше всего нравятся «Десять стрел» и «Моей звезде не суждено». Но пустое… не к месту, голимая лажа, воспоминания о великолепных песнях моему духу не помогают, и что я забыл в этом районе: и духу сплошной урон, и мне самому…
– Перстень мне, мобильный телефон Жорику, – сказал Владиславу Никонову один из окруживших его гопников. – Куртку тоже снимай.
– Хорошо… – безропотно вздохнул Никонов.
Меня увезут в труповозе, и ты не помашешь мне в след. О чувствах почившего в бозе подруга не сложит сонет.
Владислав Никонов в Алтуфьево не вовремя, случайно, в последний раз; он без куртки, перстня и мобильного телефона, и ему ничуть не легче, чем постоянно страдающему в тех местах Александру «Табаки» Сигалину.
Таким, как Александр, нельзя разрешать покидать палату.
Воздержанный цветовод Сигалин согревает за пазухой высеченную изо льда горлицу и пишет экстремальные поэмы.
О взаимоотношениях демона смерти со своим сегодняшним клиентом – он пришел забирать его жизнь, но обреченный человек начинает садиться в шпагат и делать широкие взмахи руками; демон спросил у него: «зачем тебе это?» и плодовитый провокатор Велимир Гайц ответил ему: «путешествие будет опасным и я хочу быть в хорошей форме. Если они решаться набрасываться по одному, шансы непременно появятся».
Сигалин писал и о выведенном на плац ефрейторе Буциле.
Германа Буцила готовились расстрелять, и он не противился, по-приятельски сказав руководителю расстрельной бригады: только не стреляйте в мою тень, она ни в чем не виновата, мне бы очень хотелось, чтобы она не разделила моей судьбы. Она не разделит ее до поры, до времени, но пусть уж своей смертью.
У Александра «Табаки» Сигалина была и незаконченная поэма под названием «Перекомплектность», говорившая об общении одноухого швейцара Германа Волочка с латышским радиоприемником. Их общение ни чем не подходило под определение одностороннего: приемник передавал для Волочка симфонические концерты, держал в курсе происходящих в мире событий, а одноухий швейцар общался с ним тем, что его выключал.
Александр Сигалин зачитывал свои поэмы самому себе, и что-то ему нравилось, от чего-то его воротило; ничего не обещающим зимним утром Александр не сдержался и отнес их в одно из издательств.
К его удивлению, их там признали неплохими и, частично напечатав, заплатили «Табаки» Сигалину какие-то деньги. За его невнятное раскодирование вечного.
Восторженно приветствуя навалившееся на него самодовольство, Александр Сигалин отправился с полученными в издательстве деньгами купить себе салатного соуса с паприкой, и на него напали все те же гопники; подпортили отмеченное иллюзорным сиянием лицо, отобрали копеечный гонорар, Александр «Табаки» Сигалин прекрасно понимал, что во всем виноват лишь он сам.
Больше он душой уже не приторговывал.
Кому есть дело до меня, когда я чахну без гитары. Забыв на службе, где мой я. Роняя в пол: «Ну, что за нравы…»; дождливой пятницей проходящего впустую августа 2002-го Александр Сигалин спешно бежал домой: его пронзила мысль и он, забрызгав грязью косолапого влюбленного, сосредоточенно крепившего к ясеню крепкую веревку, пронесся от автобусной остановки до подъезда. Затем, пропечатав паркет двойным натиском мокрых подошв, от входной двери до компьютера; Александр Сигалин включил второй Пентиум, отыскал файлы с поэмами и выбросил их содержимое в корзину.
«Хотите ли вы очистить корзину?».
«Да, хочу».
Ощущая небывалое вдохновение, Александр «Табаки» Сигалин завершил процедуру изгнания.
Изгнания бесов, мешавших ему просто жить, не думая о постоянно разрастающейся ране, рожденной его бесперспективным несогласием с общими устремлениями – Александр Сигалин заканчивал быть творцом. Он ощущал, что внутри у него происходит долгожданное очищение.
Очищение от вымысла.
Поэмы стерты, шприцы выброшены, рыбки покормлены: нерядовая сложность духовной организации Александра Сигалина, возможно, брала свои истоки в том, что он никогда не спал с женщинами. Не то, что бы он был против того, чтобы с ними спать, но вот не спал: не доводилось.
Прочитав в серьезном журнале длинную поучительную статью о брачных играх енотов, «Табаки» решил предоставить себе призрачный шанс хоть как-то примириться с судьбой и привел на квартиру одну из женщин, всего лишь женщин. Всего лишь, однако Александр Сигалин в меру отпущенных ему сил старается довести дело до кровати – доводит, снова старается, сдается…
Сдавшись, Александр Сигалин кричит.
– Когда я начинаю пить молоко, – прокричал Александр, – оно в норме! До первого глотка оно в норме, но когда я делаю второй глоток, оно уже кислое! Но я не о молоке! Если я хорошо себя чувствую, я и кислого выпью! Но тут еще и это!
– Со всеми бывает, – попыталась успокоить его Анастасия Шаркинская. – Не переживай, тебе же…
– Еще и это!
– Рано расстраиваться – в следующий….
– Еще и это!!!
Теперь, похоже, все.
Don t get back in your bed, Александр. It ́s useless to be in the mixed emotions – everythinǵ s clear.
Флегматичность выжата, как лимон, и я пока волнуюсь, я еще есть; у детородного органа Виталия Лошадина сходное недопонимание с женщинами, но только в Берне. Или в Женеве.
Его краткосрочные возвращения на родину давно не нуждаются в особом анонсировании; Виталий Лошадин вырос на «Соколе» порочным домашним мальчиком, и у него по сей день при мимолетных воспоминаниях о том, как по Чапаевскому переулку за ним бежали две полуголые монахини нервным тиком искрятся зрачки.
Скрипач Лошадин, если и не великий, то по крайней мере многократный лауреат и народный артист, и на данное его выступление реклама была повсюду: растяжки на улицах, телевизионные упоминания во втором часу ночи; на каждой афише и в каждом ролике публике обещали некие неожиданные интермедии, и поклонники Виталия Лошадина забили консерваторию не без предвкушения чего-то изысканного, но на сцене нет не ни оркестра, ни одинокого рояля; вы видите… я вижу… намечается… не говорите… с сорокаминутным опозданием на всеобщее обозрение вышел сам Лошадин, и вместе с ним на сцену поднялись двое патлатых мужиков с бас-гитарами.
Встав в углу, они первое время бездействовали. Вполглаза посматривая на них, Виталий Лошадин играл первый концерт Паганини – ре-мажор, сочинение шесть; играл бесподобно, божественно, но вдруг как заорет:
– Басухи, глушите меня!
Те мужики лупанули по струнам, Виталия Лошадин играть не перестал; его совсем не слышно, но в строго определенном месте бас-гитары замолкают и потрясающе исполняемая музыка, проходящая через незримые поры-заслонки ответственного за этот участок тщеты ангелоида, вновь доносится до самых окраин зала. Но Лошадин недаром обещал сюрпризы и находки – никого не обделяя в возможности оценить его совершеннейшую технику, он снова выкрикнул свой приказ:
– Басухи, глушите меня!
Везде… кто, кто везде, народ… как народ? с кем он сейчас? что он об этом думает? народ все не расходится. «Когда еще билеты на достанешь – Лошадин все-таки».
«Фигура».
«Не говорите…».
«Почти гений».
«Какие тут могут быть вопросы…»; не вслушиваясь в раздававшуюся отовсюду дикость, незашоренный кондитер Маркевич и бесстрастный оператор линии пивного разлива Леонидом Самсоновым убраться себе с концерта не препятствовали.
«Сансара» Самсонов уже с сигаретой – он курит даже во сне, с размахом прикуривая первую сегодняшнюю от последней вчерашней.
Юрий Маркевич с пакетом жевательного мармелада и с кислой улыбкой спящего: что изменишь, кого освоишь, какие там поэтические вечера и брюки клеш, курить я бросил еще в феврале, деньги на сигареты у меня есть, но здоровья на них, увы, не достаточно.
Курить Маркевичу хочется, и он грустно смотрит на «Сансару» Самсонова, на его безостановочно перекладываемые из пачки в зубы сигареты и ему неприятно, Маркевич завидует: затянусь, подумал он. С одной затяжки, пожалуй, и не подохну. Не присоединюсь к Шиве в его вечной медитации.
– Скрипач Лошадин, может, и титан, – сказал он, – но при этом он еще и полный мудак. А ты, Сансара, это… Дай мне затянуться.
Он его попросил, и Леонид Самсонов почувствовал некоторую неловкость; ему для Маркевича не жалко и целую, а с учетом того, что он знает насколько Юрию Маркевичу это вредно, то и тем более – у него же их много. Для «Сансары» Самсонова не краеугольно, если их станет на одну меньше.
– Я тоже про этого Лошадина ничего хорошего сказать не могу, – признался Самсонов. – Я планировал идти на него вместе с женой, но она внезапно передумала. Привязать бы ее к пароходному колесу и… Но когда она поменяла планы, я в своем желании идти на Лошадина только укрепился. Три часа без жены – это для меня, как для нищего матроса обнаружение золотого перстня в сокровенном месте любимой женщины. Ты же держи целую – у меня их много, а для тебя…