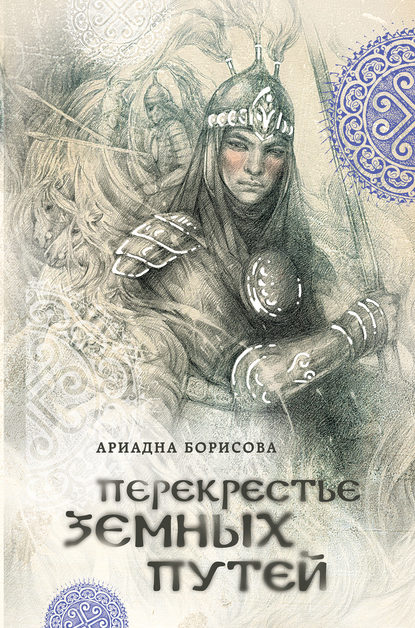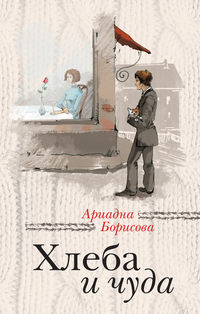Полная версия
Перекрестье земных путей
С братом давно уже творилось неладное. Нынче стало еще хуже. Ох, как же неузнаваемо изменился он в другой семье! Не лжет ли о Сата? Если лжет, то зачем? А если нет, почему решил сказать об этом, наверняка зная, что тогда волшебная сила камня исчезнет?
Вот и настала пора вопросов. Илинэ задавала их один за другим и видела, что Атын не замечает старательной строгости ее лица. Не то чтобы не слушает, но и не слышит, поэтому ждать ответов нет смысла.
Он и не слышал. Успел запамятовать о постыдных грезах и даже болючей царапине на шее. Забыл обо всем, кроме одного: он должен немедленно отдать Сата. Будто само провидение в темя нашептало.
– Это очень сильный Са… – проглатывая слова, заговорил быстро, – орлиный Сата. Я нашел его, когда залез на скалу с Болот… помнишь? С тех пор он у ме… А теперь отдаю тебе.
Брови Илинэ приподнялись:
– Зачем?
– Он приносит беду, если попадает в руки недоброму человеку. Или существу.
– Какому существу?
– Мне нельзя его хранить! Камень увеличивает чувства, а я… плохой человек! – теряя терпение, вскрикнул Атын.
Илинэ передалось его смятение:
– Ты не плохой.
– У меня есть враг. Такой же, как я… То есть я – сам себе враг, понимаешь?
Атын вложил кошель девушке в ладонь.
– Что мне делать с Сата? – она совсем запуталась.
– Просто спрячь подальше, как только придешь домой. А лучше – не дома.
– Но куда?
Она все еще ничего не могла сообразить! Неужели все женщины так глупы?! Самое подходящее время для щелбана! Атын расстроился, а больше того, разозлился. И тут Илинэ радостно воскликнула:
– Ой, я знаю, где спря…
– Молчи! – закричал он, подскочил и больно притиснул к себе ее голову. Чуть не задушил, зажав широкой ручищей… Тут же выпустил, но Илинэ поняла – все серьезно. Слишком серьезно и по-настоящему страшно. Надо было бежать сразу, как только она об этом подумала.
– Прости, – пробормотал Атын. – Я – дурак… Потом все объясню.
– Да, да, – шептала она, пятясь.
Он дышал тяжело и прерывисто:
– И вот еще что: если я когда-нибудь начну требовать камень, не отдавай его мне!
– Да…
– Не говори, где спрятала!
– Да, – пообещала она.
– Ни за что! Даже если буду угрожать!
Она, наконец, побежала.
Он уставился на тропу у подножия склона, хотя Илинэ давно скрылась. Бичевал себя самыми черными словами. Какое могло быть провидение, какой шепот в темя! Стукнуть бы хорошенько по этому глупому темени, да некому!
Только в конце разговора Атын сообразил, что Соннуку ничего не стоит догадаться, кому он поручил спрятать Сата. Скоро близнец наверняка начнет преследовать девушку. Может заявиться и белоглазый!
В голове с готовностью зазвучал ненавистный голос: «Сестричка обещает стать красоткой… милая крошка, названная истинным именем Большой Реки… Ей никогда не понять человека-мужчину, у которого совсем другой, подлинный мир – грубый, мощный, прекрасный в своем величии…»
Как посмел Атын, уже битый игрою с чужой жизнью, рисковать Сюром дорогого ему человека? Почему не догнал Илинэ, не забрал Сата обратно? Зачем всучил ей этот проклятый камень, который приносит несчастья?!
Все сказанное и совершённое, чего нельзя было ни вернуть, ни поправить, беспощадно раздирало заблудшую душу в клочья.
* * *Атын сдержанно кивнул домашним, будто из коровника пришел, а не в горах был едва ль не седмицу. Молча пообедал со всеми и снова закрыл за собою дверь, уходя.
Темным взором проводил Тимир статную спину пасынка. Умеет, гаденыш, невозмутимость выказать. Вымахал в детину, хотя всего-то семнадцатая весна ему. Руки крупные, словно нарочно для кувалды литые. На шею хоть сейчас бычье ярмо вешай и полные сани дров из леса вези. Кому скажешь – не поверят, что все это ядреное добро нажито в домашней суетне, какую и трудом стыдно назвать. Работа ли – дом-двор прибрать, походить за скотом, подоить-накормить, навоз вычистить? Бабьи хлопоты! Тимир аж сплюнул в досаде.
Кузнецы вначале недоумевали, почему хозяйский сын не просится в кузню. Потом привыкли считать его кем-то вроде дворового работника… Э-э, да чего толочь запоздалые мысли! Раньше надо было думать, когда стыд крушил, что осрамит мальчишка, не показав наследного умения. Боязнь влезала – ну как узрят неродство приметливые кузнецы? А теперь поздно парню ремесло догонять.
Тимир все чаще искал сходства Атына с черным отшельником Сордонгом. И не находил. Ничего у них не было общего, кроме носа с горбинкой.
Намедни неприятно царапнула сердце, издевкой примнилась похвала Бытыка: «Экий орел у тебя подрос!» Потом пригляделся – оказалось, что нос с горбинкой и впрямь придает парню независимый вид. Кузнецу вдруг страстно захотелось поверить, что этот молодец, приятно привлекающий взоры, – его родной сын. Но тогда же пришла и другая, трезвая мысль. Восемнадцать весен назад в Уране еще ярилась упругая бабья сила. Могла ли она, высокая и дородная, мужу под стать, миловаться с немощным, неряшливым старикашкой? Полно, Урана, с ее склонностью к красоте и опрятности, рядом бы с ним не села. Должно, старый сводник только сблизил бабу бесплодного кузнеца с доброхотом, согласным пособить зачатию…
Долго пекло желание узнать имя соперника. Душу сжигала жажда сполна сквитаться за все весны унижения. Но не стал требовать от жены настоящей правды. К чему она, эта правда, эта новая боль, когда со старой только-только с грехом пополам начал смиряться? Без того Урана хворью наказана.
Покорность судьбе претила Тимиру, встревала в его властную суть как кость поперек горла. А все же кузнец предпочитал жить с болезненной костью, поскольку противоречащего самолюбию стыда в нем было больше. Или маской стыда прикрывалось в нем самолюбие?
Так или иначе, Тимир подозревал, что Дилга нарочно продолжает тыкать его мордой в лужи чьей-то вины, будто кутенка. Должно, коварному богу судьбы любопытно поглядеть, хватит ли у гордыбаки терпения…
Безропотно перегорело в Тимире ожидание ребенка от Олджуны. Он ее в этом не упрекал. Сам виноват: следовало хорошенько подумать о выборе баджи, не жениться на первой попавшейся. Соблазнила молодым здоровьем, лживой невинностью!
Понятно, почему оказалась бесчадной. Худое кровное родство не смоешь водой целой реки. Сытыганский род душегубов, блудниц и сумасшедших давно проклят…
Лукавый ньгамендри растравил тихо тлеющую в сердце рану. Всадив в молот тягостную злость на шамана, Тимир отложил работу и отправился поглядеть петли на заячьих тропах.
Морозец крепко схватил тропу, но рано было сторожить ловушки на соболя, стрелять белок и бурундуков для приманок. Осень не торопилась уходить из леса, и Тимир не стал спешить. Пока Мойтурук носился по дымчатому паволоку, принюхиваясь к волчьим поскребам, кузнец отпустил коня на подгорном лужке и присел на удобный валун. Любовался сквозным перелеском, где в дырявых рябиновых купах рдели в закатных лучах низки ягодных бусин.
Злость отпускала острые когти, вонзенные в сегодняшнюю душу. Думал о соболиной охоте с Мойтуруком, когда выпадет снег неглубокий, чтобы собаке было бежать хорошо, но и не мелкий, чтобы лошади не скользили. Пес вырос добрым подспорьем добытчику. Наловчился отыскивать и загонять зверьков на деревья, успевай только лук рядить.
В начале Месяца кричащих коновязей соболь играет свадьбы и протаптывает в снегу пахучие тропинки. Мойтурук их живо находит, но бегать с собакой в сугробах не больно сподручно. В ход идут черканы, неприметно установленные на тропах.
На обратном пути пес громко залаял. По рухлядным Мойтурук подавал другой голос, а тут лай был тревожным. «Хищник», – понял Тимир. Конь на бегу прижал к голове уши, скосив в сторону паволока вытаращенный в испуге глаз.
Снизу на ель тяжело поднялся ворон, раздосадованный нежданным появлением собаки и человека. Мойтурук неистово призывал к чьему-то недавнему пиршеству. На земле в отдалении друг от друга валялись голова и освежеванное туловище белой собачонки. Ворон не улетал. Ждал ухода непрошеных гостей и с наглым бесстрашием вертелся на ветке.
Тимир поежился. Говорят, ворон – дух-предок девяти шаманских родов… Но собачку задрал, конечно, не он. Приглядевшись к птице, кузнец понял, что это не ворон-зимовщик, а ворона. Скорее всего, птицу подранили, не смогла улететь со стаей в Кытат. Ворона казалась необычайно крупной, клюв как долото…
Видимо, неведомый хищник выпотрошил добычу второпях. Пожирал вместе со шкурой – значит, голоден был. Но почему не доел или не закопал хотя бы в палые листья, оставил столь роскошные объедки зверькам и птицам?
Кузнец кивнул вороне: не мешаю тебе, и отъехал.
По пути Мойтурук зарычал страшно, хрипло, дыбом поднял мощный загривок. В кустах промелькнула пепельная тень. По краю паволока, как-то странно вихляясь и подпрыгивая, бежал огромный волчище.
Тимир сердито прикрикнул на пса, готового кинуться вслед.
Волки издавна делили долину с людьми. «По негласному уговору, вот так вот, э-э-э», – говаривал старый Балтысыт. Серые не допускали к Элен сородичей из других лесов и сами не трогали скот, принадлежащий двуногим соседям. Волк, что посмел загрызть собаку, явно не знал местных обычаев. Может, задавил собачонку у какого-нибудь аймака и принес сюда.
Стало быть, близ человеческого жилья бродит опасный зверь. Это была весьма неприятная новость.
Небесные ярусы незаметно заволоклись сплошными облаками. Выпал долгожданный снег. Небо опамятовалось, вспомнило о грядущей зиме и спешило убрать обнаженную землю в белую шкуру мягче нежной шерстки на пуповине рыси. Недаром небо вчера вечером багровело – знать, вываривало снежный суорат.
Невинная снежная прохлада успокоила Тимира. Ездил-шагал по лесу умиротворенно, отдыхая душою. Домой повернул коня только в сумерках. Подъезжая почти уже к ночи, увидел свет в кузне. Кто-нибудь из ковалей мог лить красную медь либо выполнять срочный заказ…
Что-то слишком часто в последнее время ночная работа не давала роздыха кузнечным инструментам. А если неугомонная ребятня наловчилась ковать без взрослого надзора? Драгоценного угля зазря нажгут! Вещи попортят, сами поранятся, не сумеют правильно рудную нечисть изгнать… Ох, и задаст сейчас своевольникам хозяин кузни!
Дверь открылась бесшумно. Голый по пояс, в кожаном фартуке, кузнец стоял спиною к двери и не заметил вошедшего. «Чанг-чанг! Чунг-чунг!» – весело стучал молот. Отсветы красного огня кувыркались и вспыхивали на тугих мышцах ладно скроенного костяка.
На наковальне пламенела полоса железа. Блестящие от пота руки поднимались с оттяжкой, тратя мощи при замахе ровно столько, сколько требовалось для ковки. Тут и непосвященный бы понял, что видит перед собою изрядного умельца. Тимир мог ходить позади сколько угодно: молодой человек был столь увлечен делом и углублен в себя, что ничего вокруг не видел и не слышал.
Но не до ходьбы-шума было главному кузнецу. Устойчивые ноги ни разу его не подводили, а тут дрогнули и подломились в коленях. Не сводя с ночного мастера потрясенных глаз, проехался вниз по ребристому косяку двери. Едва успел нащупать сиденье скамьи у порога, не то сверзился бы на пол. А как уселся, так и остался сидеть безмолвно, растерянно, только смотрел и смотрел. Дай волю, упросил бы госпожу-утро повременить, чтобы за всю ночь всласть наглядеться…
Рука наткнулась на что-то твердое в ровдужном лоскуте. Развернул – пластинка гладкая, маленькая, меньше ладони. Поднял ближе. Отраженный свет сальной плошки резанул по глазам. Тимир еле вскрик подавил – очутился лицом к лицу к себе самому!
Изделие было чище бронзового отражателя исчезнувших с Земли кузнецов орхо. Видно, сработал его владелец искусного секрета, наследник великих кузнечных кровей. Тимир дохнул на пластинку, наблюдая, как медленно сходит пар с матовой поверхности. Словно с воды, пущенной литься по черному серебру, да вдруг застывшей никогда не тающим льдом. Завернул в лоскут удивительное глядельце и положил обратно.
Разгоняя размягченный после ковки булат верхним клином бойка, Атын не видел отца даже сбоку. Поворачивал огненную полосу на ребро, сужал ее и удлинял подбойником, послушным ударам кувалды. Пылким осиным роем летали вокруг красные и белые искры.
Урана не лгала! Ухищрения ее со снадобьем Сордонга… Ворованный батас, отданный отшельнику за чудодейственные капли… Лицо честное, долу опущенное – испуганное, виноватое… Ох, Дэсегей! Все, что говорила жена, – правда. А главное – сын. Сын, продолжатель великого рода!
Тимир вытер слезящиеся глаза. Казалось, в этом искристом свете они начали очищаться от песка давно брошенной кем-то горсти. Они наконец узрели в Атыне истинно самородного мастера. Про таких говорят «с молотом рожденный»! А он-то, Тимир, пустоголовый ревнивец, себялюбивый глупец… Что ж он-то натворил за пять безрассудных весен! Все эти годы хладнокровно, неторопливо убивал любимую жену, которая подарила ему прекрасное дитя! Он, сравнимый с безумным батасом, резал собственный черень! Он своими руками крутил ремень несчастья, чинил надменные запреты наследнику, который есть и будет выше его в мастерстве и лучших человеческих свойствах!..
Так ужасался себе Тимир, гостем сидя в прародительской кузне.
Поверх обвиняющих мыслей всплывали другие. Незнакомое, радостное волнение перехватывало горло.
Внешне парень был точно таким же, каким Тимир помнил себя в зеленых веснах. Узкий торс, тугие бедра, высоко поставленные могучие ноги – кованые, говорили люди. Как прежде-то не замечал? Ох, и счастье, что правда маслом всплыла над черной неправдой-водой! Теперь Тимиру не будет страшен последний выдох в мехах не втуне прожитой жизни. Есть кому воткнуть в могильный холм кузнечную лопату, когда промчится последний жизненный круг!
Атын оборотился, вытирая о фартук запачканные окалиной руки. И остолбенел. Два кузнеца, пожилой и юный, глядели друг другу в глаза целую вечность. Парень первым нарушил гулкую тишину:
– Зачем ты здесь?
– Затем, что я – твой отец.
– Ты мне не отец! – дерзко выкрикнул Атын. – Лучше никакого, чем такой, как ты!
– Я – твой отец, – сказал Тимир спокойно и твердо. – Я понял это только сейчас. А до того, это правда, полагал, что ты – дитя другого человека. Но теперь уверен: ты – мой сын, и готов просить прощения за каждую обиду, нанесенную мною.
– Если начнем считать обиды, среднего осуохая не хватит, – усмехнулся юноша и, повернувшись спиной к двери, опять взялся за молоток.
На наковальне рдел будущий меч. Славная была работа. Будто только и делал Атын сызмальства, что оружие ковал. Тимиру вспомнилось: «Доброе серебро узнают по плавке, доброго кузнеца признают по ковке».
– Ты – коваль, а не воин. На что тебе меч?
Сын промолчал, но спина его дрогнула. и плечи настороженно сжались. Тимир подождал немного и снова вклинился в паузу стука:
– Эй, имеющий джогур кузнеца! К чему тебе боевой болот?
– Будет чем с демоническими звездами порубиться с Каменного Пальца, если главный жрец разрешит.
– А серьезно?
– Пришла пора освободить землю от одного негодяя, – вздохнул Атын, не оборачиваясь и не прекращая ударов.
– Грозил он тебе?
– Нет… Но мой меч скоро будет готов.
Ответ понравился Тимиру. Ишь ты, «меч скоро будет готов»! Ему теперь все нравилось в Атыне. Родная плоть и кровь, сын утраченный и вновь обретенный! Такой же горячий и гордый, как он сам! А еще Тимир отметил, что голос парня возмужал, сделался несгибаемым, как у настоящего человека-мужчины.
– Не я ли тот, кому твоя ненависть обряжает Ёлю? – поинтересовался весело.
– Не ты.
– Кто же?
– Тот, у кого глаза недобрые.
– Что за человек?
– Надеюсь, не понадобится, но на всякий случай, – сказал Атын. – Если его приведет Такой же, как я.
– Такой же, как ты? – удивился крепко озадаченный Тимир.
Он ожидал объяснений, но сын не стал ничего объяснять. Быстро убрал за собою, подхватил со скамьи отражатель лиц. Молча вышел из кузни, бочком обогнув колени сидящего у двери отца, как досадное, но неизбежное препятствие.
Домм четвертого вечера
Когда падал снег
Недюжинный ум и отменное чутье нестарого волка, его промысловая сноровка и навык предводителя были сокрушены собственной хворою лапой. До прошлой весны он верховодил красивой стаей, обитающей далеко отсюда. Дерзкое везение сопровождало его до тех пор, пока в набеге на лошадиный косяк дурно хрястнувшая спина не испытала страшный удар судьбоносного копыта. После поврежденный хребет кое-как зажил, но беспрерывное нытье в правой задней лапе болезненно поджало ее, и щадимая конечность отказалась трудиться в беге наравне с другими. Поэтому все, что делало полнокровной и яркой жизнь вожака – удача, охотничья хватка и умение повелевать, – оказалось позади.
Злополучная лапа одним махом выкинула его из владык в изгои. Стая не оставляет подбитых вожаков живыми. Чудом повезло: волки гнали косяк и покамест не стали рвать раненого. Бросили в густоте камышей, куда он улетел от удара, а чуть погодя мимо промчались двуногие на гулко топающих лошадях. Стая не вернулась отдать дань последнего уважения вождю. Он выжил.
Хромой волк зря ушел из родных мест. Он сожалел об успешной и добычливой жизни настолько, насколько позволяла жидковатая звериная память, ибо от былой жажды власти ничего не сохранилось. Кто ведает, откуда оно берется, это нравное чувство, где кроется – в голове или животе?.. Обрывистые мысли бывшего вожака до подобных тонкостей не доходили. Но уж то, что теперь ему не набить порожнее брюхо досыта, он понял сразу, едва лишь напряженные ноздри перестали чуять привычный запах черты, им же некогда помеченной. За этой гранью простирался чуждый, враждебный мир.
С великим усердием и надеждой отверженный караулил зайцев на изгибах кривых троп. Готовился, если что, собраться с силами и взвиться в отчаянном прыжке, оттолкнувшись тремя послушными лапами. Помнил о том, как по весне удалось задавить сукотную, тяжкую в скоке зайчиху. На зубах его с тех пор не хрустело крупнее костей. Тоскующая утроба вынуждена была довольствоваться сусликами и мышами. Летом не гнушалась переваривать лягушек и луговых насекомых, что больше всего угнетало почему-то не голову, а лишенную всякого рассудка недужную лапу. Она неумолчно требовала для излечения настоящего мяса. Не могла понять, привереда, что сама сдерживает добрую охоту. Ведь не догнать хромому волку по черной тропе даже старую больную косулю.
Одинец шел на север. Притянутое увечьем добавочное чутье подсказывало, что там его ждет неведомое спасение. Влекущее место было похоже на громадную дыру, которая колыхалась в воздухе, как поставленное набок озеро. Волк не дивился тому, что оно не проливается, не пытался осмыслить, кто и зачем понуждает его из последних сил тащиться в неизвестную даль. Он слепо и безудержно повиновался могучему зову.
В долине ему не нравилось. Вторгшись в чужие владения, он чувствовал себя неуютно, но голод стал невыносимым, и пришлось задержаться. Волк прилежно запоминал узоры извилистых троп и старался не выдать себя здешним обитателям – каверзным лисам, а главное – сородичам. При нынешней осмотрительности это оказалось не столь уж сложно.
Окаймленная горами долина была обширна, но издавна гнездившаяся в ней стая предпочитала охотиться на ветвисторогих за горным поясом. Семейство из семи разновозрастных волков водила матерая волчица. Тройка прибылых предвкушала торжество первой большой охоты. Недоросли нетерпеливо ждали прощания с логовом и родными угодьями до весны, а может быть, насовсем. Напоследок волки шастали по просторным болотинам и поемным лугам, оттачивая охотничьи приемы на кабаргах. Те изредка опрометчиво спускались со скал лакомиться хвощом, что остается в падях зеленым всю осень и даже под снегом.
Влачить боязливую жизнь одиночки тягостно всякому созданию. Безжалостная правда звериного бытия притупила чувства и обострила ощущения калеки. Умудрила его отказаться от душистых метин, как бы ни ломал соблазн оставить во временном прибежище весть о своем гостевании. Страшась встречи с хозяевами низин, он поневоле приближался к жилью двуногих, откуда смачно и гибельно несло навозом. Так было безопаснее, а скудоумные псы не брехали – одинец быстро разгадал пределы возможностей их обоняния.
Днем он отдыхал в расщелине горного кряжа. Ночами же, следуя прихотям ветров, бродил по меже, тщательно выкроенной им в паволоке у прозрачного рябинового перелеска, вне досягаемости слабоватого собачьего и мощного волчьего нюха. Готовый мгновенно раствориться в спасительном сумраке, всеми порами вдыхал морозную тишину. Летучий коровий дух доверчиво носился в воздушных струях над всей долиной и порою сводил с ума, но умноженная страхом осторожность пока что преобладала над безумным желанием забраться в коровник и всласть вкусить горячей живой плоти перед неизбежным концом.
Волку повезло, когда он, мучимый голодной бессонницей, отправился на свое место днем и, как обычно, засел стеречь за кустами на взлобке у заячьей тропы. Вначале до напряженного слуха издалека донесся голос маленького двуногого. Потом верный нос почуял кисловатый аромат человечьей кожи, смешанный с псиным душком. Двуногий детеныш, бесчувственный к каким бы то ни было подозрительным запахам и звукам, храбрый от неведения страха и боли, горланя веселую песенку, бежал по тропе. За ним поспешала худосочная белая собачонка.
Волк пригнул тряские уши к затылку. Проехался на поджатом хвосте по пригорку, покрытому льдистой коркой листвы. Рад был бы с головою нырнуть в стылый дерн сквозь палые листья. Но вдруг, мешкая, приподнялся и уши вновь навострил. Потянулся к следам, благоухающим жарко и густо, как свежая кровь. Походил по ним, чувствуя, как снисходит к нему невозмутимость. Манящая слабость и легкомыслие этих двоих, не приспособленных к суровой жизни в Великом лесу, выветрили из головы остатки страха.
Подобных надо уничтожать до того, как наступит время их любви и продолжения рода. Тогда они не оставят потомства, которое может унаследовать предосудительную немочь, пустую в охоте и бытии, опасную для дальнейшего благополучия родовых колен. Если не чьи-то клыки и когти, то сама жизнь все равно раньше срока раздавит хилые капли Сюров по велению беспощадной звериной правды. О ней ли не ведать хромому волку!
Одинец сглотнул слюну… Он хотел есть. Он жаждал жизни не меньше беспечного детеныша и никчемного пса. Возможно, сильнее, потому что знал ярость борьбы за нее. Для поддержания своего измученного Сюра ему была жизненно необходима целебная плоть кого-то из них.
Увидев волка, детеныш пронзительно закричал, а собака зашлась в истошном лае. Хищник помедлил и ощетинился. Человеческий голос резал слух. Вопли подхлестнули одурманенную голодом память и напомнили о других двуногих, грозных и сильных. Они скакали на топающих лошадях, эти чудовища, чьи верхние конечности заканчивались убийственными жалами и смертоносными палками.
Детеныш помчался как мог быстро, продолжая кричать. Волк сомкнул челюсти на тощей шее поздно опомнившейся собачонки. Он уже забыл о детеныше и угрозе появления его взрослых родичей.
Маломощная добыча недолго сучила лапками. Из разодранного горла хлынула блестящая кровь и разлилась по земле густой лужицей. Багрово-сизые, умопомрачительно сочные внутренности душисто дымились в морозном воздухе рябинового паволока. Урча и повизгивая, одинец торопливо глотал мясо вместе со шкурой. Он купался в вожделенной крови и плоти, вкушая блаженство. Он ощущал себя заново явленным в первый на Земле день охотничьего рождения, который только что открыл бесконечный круг поглощения и воссоздания. Жизнь в хромом волке ликовала как никогда, и не было на свете ничего вкуснее ее.
Но вот уж немилость судьбы и случая! Послышался лай крупной собаки, и, прежде чем волчью голову стеганул жгучий ужас, одинец понял, что счастье кончилось. Явились-таки двуногие. Подобрав непокорную лапу, калека запрыгал прочь. Славное место сулило ему глотки́ потерянного здоровья с каждым куском, и так внезапно, так горько обмануло его кажущимся безлюдьем. Волк еле добрался до потаенного убежища в расщелине кряжа и принялся выкусывать песью кровь с шерсти. Будь он человеком, он бы заплакал.
Погодя обнаружилось, что жилистое мясо собачонки не в состоянии восстановить силы, траченные на испуг и побег из вероломной межи. Волк опустил морду на передние лапы и попробовал задремать. Но и тут ближняя тропа зазвенела от поступи двуногого. Отзвук шагов дробью раскатился в ущелье. И тотчас с вкрадчивым шорохом, заглушив все шумы, посыпались хлопья пушистого снега.
Одинец взволнованно клацнул зубами, ловя знойной пастью прохладные снежинки. Подразненное собачонкой брюхо сводило мучительной судорогой неудовлетворенной жажды. Брюхо требовало и лишало рассудка. Оно алкало довершить прерванный праздник, чего бы это ни стоило растревоженному хозяину, и превращало его смятение если не в отвагу, то в безрассудство.