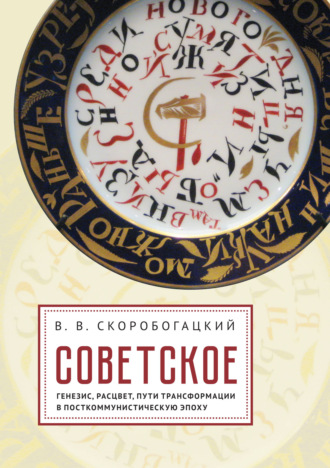
Полная версия
Советское: Генезис, расцвет и пути его трансформации в посткоммунистическую эпоху
А что же наш 84-й год? Он стал точкой перелома, оттолкнувшись от которой, советский мир сменил режим своего существования и перешел в новую фазу, меняя внешний облик и поставив под сомнение свою имманентную связь с коммунизмом. «Советы без коммунистов» – этот лозунг матросов Кронштадта, восставших в марте 1921 года против диктатуры большевиков, – получил новый шанс на историческое осуществление. Реконструируя логику начавшихся тогда перемен, можно предположить, что основной стержень перемен заключался в освобождении (условно говоря) духа советского от обветшавших, несовременных макроформ его конституирования, в решительном их обновлении в соответствии с двумя факторами. Во-первых, с теми вызовами, которые рождал переход миросистемы от индустриального к информационному обществу, к состоянию глобализации. Во-вторых, с разветвленной институциональной инфраструктурой советского мира, охватывавшей все пространство социальных структур и связей, начиная от макроуровня с различными формами публичной общественной жизни и заканчивая микроуровнем частной жизни индивидов с их душевным миром, склонностями, желаниями и интересами. Коммунизм оказался архаизирующим компонентом советского мира, сковывающим его внутреннее развитие и создающим препятствия в установлении широких и устойчивых связей с внешней средой, без чего модернизация советского мира была невозможной. Он стал чем-то наподобие балласта, который сбрасывают с воздушного шара, когда тот начинает терять высоту.
Социализм и община в России
Иными словами, 1984 год обозначил рубеж, который далеко не сразу был опознан в своем действительном значении – как граница уходящей эпохи. За его порогом кажущееся естественным, прирожденным тождество советского и коммунизма распалось, и обнаружилось, что коммунизм (как идея и как стратегическая цель мирового развития) чужероден тому местному началу – советам, которое, как писал Ленин, имело чисто русские корни и было рождено революционным творчеством масс.
Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения, они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут[29].
Коммунизм же – заимствование для России, и даже если эта идея отражает эсхатологические ожидания угнетенных, то корни этой эсхатологии уходят в культурно-религиозную почву Запада, в сектантские движения народных масс города позднего Средневековья, направленные против католической церкви.
И. Шафаревич, анализируя исторические корни этого феномена, который он назвал «хилиастическим социализмом», подчеркивал деструктивный характер подобных движений, вожди которых не стремились к установлению социальной справедливости. Исходя из факта несправедливого устройства общества, они делали вывод, что мир захвачен силами зла, и призывали к разрушению этого мира[30].
В противоположность этому религиозное сознание масс ни в русском Средневековье, ни позднее, в петербургской империи XVIII и XIX веков, не содержало в себе социальных утопий, призывавших к разрушению наличного общества или к его переустройству в соответствии с заповедями Ветхого или Нового Завета. Поиск же мест, где возможно «Царство Божие» на земле, предполагал уход, бегство из этого «неправедного» мира в неведомые области – Беловодье, Опоньское (Японское) царство, Даурию, Китеж-град, Рущук и другие «счастливые земли». И как духовный аккомпанемент этих настроений складывались утопии «места», близкие по общему замыслу «Утопии» Т. Мора, но не заключавшие в себе ни коммунистических, ни протополитических тенденций. О том, что идея социализма чужеродна как русской истории, так и строю сознания того класса – интеллигенции, – который стал носителем и проводником этой идеи, неоднократно писал Г. П. Федотов:
Совершенно ясно, что в социальных и политических условиях России не было ни малейшей почвы для социализма, ибо не было капитализма, в борьбе с которым весь смысл этого европейского движения. Реально, исторически оправдано одно: борьба интеллигенции за свободу (свободу мысли прежде всего) против обскурантизма упадочной Империи. Борьба за свободу связывалась с горячим, иногда религиозным народолюбием, но отсюда если и вытекала революция, то уж никак не социализм. Социалистическая формула была подсказана западным опытом как формула социального максимализма[31].
Проектирование народных социальных утопий «места» особенно усилилось после Раскола, породившего «крутой разрыв с миром и церковью»[32], когда массовые поиски нового праведного мира легли на традиционную основу русского цивилизационного процесса – колонизацию. Основной силой этой колонизации было крестьянство, что исторически придавало русской цивилизации, по определению В. О. Ключевского, характер деревенской, в отличие от городской цивилизации Запада. «“Колонизационная” традиция крестьянства трансформировалась в идею обретения “нового мира”, приобретающего, помимо религиозного, еще и цивилизационный контекст. Жажда нового мира не была актом пассивного ожидания Мессии группой погруженных в религиозную экзальтацию людей. Это ожидание было активным деланием “нового мира”, представлявшимся как сотворчество человеческого, праведного начала с Божественным началом. Этот “новый мир” как первоначальный островок правды должен был расширять свои позиции, отвоевывая у мира, затянутого в дьявольские сети, новые и новые пространства. Подобная сверхактивная позиция складывалась стихийно, она как бы вырастала из цивилизационной традиции крестьянской колонизации, постоянно создававшей все новые и новые островки альтернативных отношений на заново освоенных пространствах»[33].
Массовые же движения, которые были направлены против существующих порядков (восстания под руководством Болотникова, Разина или Пугачева), не имели (по крайней мере, для основной массы участников) ни религиозной окраски, ни религиозной подоплеки и носили характер смуты, то есть бунта против самодержавного государства – московско-русской Мегамашины, закрепостившей и обратившей в холопское состояние все сословия русского общества, не только крестьян, но и городское население, помещиков-дворян и даже боярско-княжескую аристократию, и поставившей себе (государству то есть) на службу церковь. Даже если предположить, что немалую роль в развязывании восстаний Разина и Пугачева сыграли староверы, то цель этих выступлений, выражавшая господствующее настроение масс, была вполне мирская: разрушение государства – той крепостной цепи всеобщей зависимости, которая сковала все русское общество, – и высвобождение из-под гнета государства как общества, так и церкви, согласно представлениям староверов, захваченной никонианами при поддержке царя-антихриста.
Характерно при этом, что крестьяне, примыкавшие к бунтам, никогда не шли за своими вожаками до конца. Марксистские историки с сожалением констатировали, что революционный потенциал крестьянских масс был крайне неустойчив и спорадичен[34]. Их интересы ограничивались местным театром действий, после первых успехов повстанцы из крестьян быстро рассеивались по округе и с неохотой следовали за казачьим авангардом, принуждавшим их к походу на Москву – свергать центральную власть. Не «исправление» государства, а наведение справедливого порядка в малом мире сельских общин было целью крестьянских возмущений.
С точки зрения С. М. Соловьева, в роли зачинщиков и активных участников этих смут выступали представители так называемого антигосударственного сословия – обитавшие на границе между Русью и Степью казаки. Выступая основной силой колонизации Степи, они находились в тесном взаимодействии с варварской полудикой периферией, усваивая ее нравы, привычки и превращаясь в хищников, время от времени набрасывавшихся на приграничные территории страны:
Русскому обществу, которое образовалось посредством колонизации, необходимо было выдержать сильную борьбу, с одной стороны, с азиатскими кочевыми ордами, а с другой – с теми одичалыми передовыми отрядами, которые хотя иногда сами оказывали большую помощь государству, ратуя против степных кочевников, но вместе с тем, будучи полудикарями, враждебно смотрели на установление государственного порядка и, со своей стороны, не менее азиатских орд причинили бедствий юному государству. Вредная деятельность этого пограничного народонаселения сказалась преимущественно в начале XVII века, когда на государство русское послано было страшное испытание[35].
В ходе русской Смуты отчетливо выявился антигосударственнический и одновременно разрушительный по отношению к основам цивилизации характер этого движения – те черты русского бунта («Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»), которые были поэтизированы в фольклоре[36] и закреплены в народной культуре в виде ментальных установок. Три казацких войны против государства (под предводительством Разина, Булавина и Пугачева), последовавших после Смуты, послужили делу закрепления этих установок в качестве общенародных. С этого момента отрицательное отношение к государству и цивилизации «отрывается» от своего конкретного социального носителя и становится составной частью сознания и культуры народных масс.
Продолжением государства в жизни народа была община, воплощение духа государственности и цивилизации на уровне социальной «почвы». Русская община – итог исторического развития.
В ней господствуют не естественные отношения, а гражданские. Это не зародыш общественного развития, а плод его. Это результат прошедшей истории народа, образовавшего из себя великое государство, в котором государственные начала проникают до самых низших слоев общественной жизни. Ничто не ускользнуло от внимания наших законодателей. Правительственными мерами и распоряжениями устроены и поземельные отношения общины, и гражданские, и хозяйственный их быт, и внутреннее управление. Все это учреждения относительно новые, получившие окончательное свое образование только в последней четверти XVIII века, вместе с другими областными учреждениями[37].
Соловьев опровергает концепцию общины, восходящую к книге прусского чиновника А. Гакстгаузена (1847). Согласно последней, во многом повлиявшей, кстати сказать, на взгляды Энгельса по вопросу об исторических перспективах капитализма в России, русская община признается рудиментом древнего первобытного прошлого. Согласно этому взгляду, община предшествует историческому развитию русского общества, накладывая на него специфический отпечаток, отделяющий русскую цивилизацию от западной и предопределяющий историческое «запаздывание» России, ее отставание от европейского «образца».
Относительная новизна этого явления, согласно С. М. Соловьеву, удостоверяется также тем обстоятельством, что сам термин «община» – слово новое, его не было в старину[38]. Можно предположить, что с упрочением этого института возникает более или менее надежная преграда на пути социальных стихий, подспудно или открыто подтачивавших основы цивилизации в России, и без того неглубокие и непрочные. Это замечание Соловьева важно в свете споров о том, является ли община в России явлением новым или древним. Взгляд, согласно которому А. Гакстгаузен нашел в России середины XIX в. первобытную форму социальной организации, находит продолжение в тезисе о том, что длительное сохранение древнего института в глубинных структурах русской истории – чуть ли не главная причина, вызвавшая ее отклонение от европейской траектории развития, оставившая, по крайней мере, русский сельский мир на границе цивилизации и варварства. Вследствие этого исторический прогресс в России (так, в отличие от Маркса, писал Энгельс в одном писем своим русским корреспондентам) возможен только при условии быстрого отмирания этого реликта в условиях капитализма, индустриализации и урбанизации. Так, П. Ткачев, принципиальный оппонент Энгельса во многих других отношениях, разделял подход последнего к общине и выводил необходимость диктатуры революционного правительства после свержения самодержавия из того обстоятельства, что община, с его точки зрения, была консервативным, тормозящим началом русской истории: «Очевидно, в ней самой (общине. – В. С.) не содержится никакого стимула к прогрессу, к развитию; этот стимул должен быть дан ей извне»[39].
Необходимо поэтому различать два «явления» общины в русской истории. Первое – общий для индоевропейских народов институт, складывающийся в условиях перехода от родового уклада к цивилизации, который в домосковской Руси получил название «волости». Эта форма отмирала вместе с укреплением корпоративной социальной организации (московско-русской Мегамашины) начиная с конца XV века и не переросла в институт местного самоуправления (коммуну). А ее второе «явление» и есть та «община», которая формировалась в корпоративном обществе-государстве в течение нескольких столетий и была открыта в 1840-е годы Гакстгаузеном, Герценом и другими под новым названием. Это была низовая форма корпоративной социальной организации, «отпечаток» государства в структурах сельской жизни, который нес на себе следы своего происхождения и разделил с государством его историческую судьбу.
Ленинская констатация – советы как форма народовластия рождены в результате исторического творчества революционных масс – свидетельствует о том, что к началу ХХ века институт общины, сложившийся как посредник между «полуправным» крестьянством, жившим в особом, усеченном по сравнению с остальными социальными группами и слоями правовом пространстве, и государством, вступает, особенно после земельной реформы 1861 года, в полосу кризиса, дряхлеет и распадается вместе с породившим его государством; что на смену ему приходит форма, прямо направленная против существующей государственности. В этом отношении надо оценить прозорливость Столыпина, заметившего эту деградацию общины и предложившего компромиссный выход: высвободить из-под общинной (а косвенно – и государственной) опеки тех ее членов, кто могли опереться на собственные силы и двигаться в жизни самостоятельно, следуя своему выбору. В судьбе общины предугадывалась судьба и государства, и, говоря в целом, всего строя русского общества. Возможно, эти предчувствия и сделали Столыпина, во многом против его воли и вопреки его мировоззрению, сторонником перемен в устройстве государственной власти. Став главой правительства в критической для самодержавия ситуации революционного подъема в обществе, он в течение нескольких лет последовательно и методично вводил в политическую и государственную жизнь принципы конституционализма, способствуя возвращению общества и государства в русло мирного развития, направляемого приоритетами политической стабильности и экономического роста.
Споры о русской общине, ее исторической роли в развитии страны шли, начиная, пожалуй, с 1840-х годов, с дискуссии между западниками и славянофилами. Историософская постановка этой проблемы сделала невозможной ее решение при помощи фактов и научных аргументов. Сам ракурс ее постановки – судьба России – придавал проблеме общины космический и неотмирный, трансисторический характер Божественного предустановления, меты, нанесенной рукой Бога на чело России. Здесь, как писал Тютчев, нельзя было понять умом и отмерить общим аршином, оставалось только верить. Признание вслед за А. Гакстгаузеном общины праисторической формой организации русской жизни на всем ее протяжении, от первобытности до современности, было дополнено убеждением, что эта форма несет в себе начала общежития, определяющие строй жизни в новой цивилизации, что она заключает в себе код будущего социалистического общества. Так из смешения европоцентристских и «местных» представлений сложился исходный пункт социалистического мировоззрения, скорее даже культа народопоклонничества, сложился символ веры русского социализма.
Гимн общине (в 1849 году) создал первый русский социалист – западник Герцен. С его точки зрения, русская община помогла народу выжить в условиях татаро-монгольского ига, она выстояла перед лицом грозной государственности – московского царизма и петербургского имперского самодержавия и определяет основы жизни общества не только в историческом прошлом, но также в настоящем и будущем. Общинный дух (принцип) пронизал все формы и структуры общественного устройства повсеместно, не только в деревне, но и в городе. В этом отношении Россия противостоит Европе, которая давным-давно утратила общинное начало под влиянием двух факторов – феодализма, ведущего к раздробленности общества, и римского права, дух которого – защита частной собственности. У общины есть и отрицательная сторона – тенденция к застою, расслабляющая личную волю гарантия социальной поддержки и защиты. Но под воздействием петровских преобразований русская община, как и вся страна в целом, была выведена из исторической спячки и устремилась к цивилизации, обнаружила себя лицом к лицу с Европой[40]. Сохранив земельную общину и не вступая ни в какие отношения с правительством, русский народ стоит гораздо ближе к революции социальной, чем политической[41]. Это юный народ, выступающий на историческую сцену, которую покидают другие народы, чувствующие себя усталыми от исторической ноши и на закате своей истории[42]. Замечательно это «на закате» за 70 лет до Шпенглера. Или это переводчики книги Шпенглера на русский язык из веера значений авторского «der Untergang» – закат, упадок, исход, гибель, конец света, крушение — предпочли знакомое, напророченное, давно ожидаемое?
К данной трактовке роли русской общины в будущей общеевропейской социальной революции примкнул и К. Маркс, отказавшийся от своей европоцентристской позиции по данному вопросу, которая сложилась у него в годы подготовки и издания первого тома «Капитала»[43]. В письме в редакцию журнала «Отечественные записки» он целиком поддержал (в противовес мнению Энгельса, продолжавшего и в 1890-е годы считать, что русская община – исторический пережиток, который неизбежно падет по мере развития капитализма в России) идею о ее революционном значении, правда, приписав ее авторство Чернышевскому[44]. Возможно, по причине неприязни к Герцену, неприязни, впрочем, обоюдной. Чуть позже он напишет:
Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что они обе дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития[45].
Историософская постановка проблемы русской общины обусловила расширительную ее трактовку, когда под это понятие можно было подвести любое содержание, придав ему желательное значение. Например, следуя Бакунину, представить себе мужика бунтарем-анархистом по природной склонности, готовым к спонтанному протесту против внешнего угнетения. Надо только открыть ему глаза на истинное положение дел (это уже от Лаврова). Тем больший шок испытали студенты, которые с просветительской целью пошли в народ и встретили резкий отпор со стороны «косной» крестьянской массы. Тем не менее, идеологическое конструирование образа общины и своеобразная конкурентная борьба между разными представлениями об общине и разными трактовками ее роли в истории страны сопровождали историю русского социализма, образуя стержень теоретической и мировоззренческой полемики не только между различными революционными течениями (эсерами и эсдеками, большевиками и меньшевиками), но и между радикалами-социалистами и либеральными народниками, деятелями земского движения, видевшими в общине инструмент для «культурной» работы в деревне, для развития образования и здравоохранения. В итоге реформ Александра II под вопрос было поставлено существование самодержавного государства и производных от него форм социальной организации, включая выпестованную этим государством общину. В условиях общего кризиса традиционной социальной организации, дополняемого и углубляемого всплесками революционных выступлений, община переживала упадок и перерождалась в нечто другое.
Корпорация, община и Город: предпосылки возникновения советского
Общий контур этого «другого» новообразования складывался в ходе пересечения нескольких факторов. Генеральную перспективу перемен, происходивших в российском обществе в эпоху Империи на всем протяжении ее истории, определял Город как символ новой цивилизации европейского типа, как модель нового мира, характерными чертами строения которого были разумность и правильность – условия упорядоченной и законосообразной жизни. Возвышение культурного и политического статуса города обусловливалось всемерной поддержкой его со стороны государства-Империи – земного воплощения и носителя Божественного разума. Оно же имело оборотной стороной подчеркнутое, демонстративное и радикальное отрицание Деревни как «допотопного» уклада жизни, точнее, не жизни даже, а прозябания до и вне цивилизации. Уже современники Петра сравнивали Петербург то с кораблем в океане традиции (природы) с его бурями и грозами, то с Ноевым ковчегом, местом рождения нового человечества. При этом предполагалось, что Петербург – всемирный город, начало новой эпохи всемирной истории, а не только мост (окно) из Европы в Россию. Большой вклад в закрепление подобных образов-символов в общественном сознании того времени внес М. В. Ломоносов[46]. Он может рассматриваться как один из предшественников Пушкина в разработке мифа о Петербурге и Петре, краеугольного для русской культуры XVIII–XX веков. В русле перемен Деревня воспринималась как социокультурная почва традиционализма и опора контркультурных и антигосударственных установок, сопротивления переменам. И это недоверие к крестьянству, неприятие его сохранялось у российских правителей[47] и после крушения петербургской Империи, вплоть до Троцкого и Сталина, несмотря на все несходство взглядов этих последних на характер революции и судьбу социализма в России.
Соответственно, и государство этой эпохи было полицейским, как бы ни расходилось это определение – «полицейское» – с исторически сложившимся образом империи, c ее духом. Существует ли общий знаменатель, с помощью которого можно было бы не то чтобы уравнять, но хотя бы сопоставить столь разные по масштабу фигуры, как Александр Македонский, Октавиан Август, Фридрих Барбаросса и какой-то околоточный надзиратель?! Учреждение петербургской империи – попытка отыскать такой общий знаменатель, удачная или нет – отдельный вопрос. Согласно петровскому замыслу полицейского государства,
…государственная власть самоутверждается в своем самодовлении, утверждает свою суверенную самодостаточность. <…> Государство утверждает себя самое как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать или быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь[48].
Создавая в подчеркнутом противопоставлении традиционному новый – городской – мир, Петербург (так же, как пестовал Иван IV свою опричнину – в стороне и в обособлении от земщины, от мира деревни[49]), Петр I перенял от Грозного и представления о христоподобности самой личности царя. «Новое (в представлениях Ивана IV о характере царской власти и ее носителя. – В. С.) заключается не в отсутствии другой власти рядом с властью царя, которая бы его ограничивала, а в узурпации царем той полноты власти, которая может быть доступна только Богу»[50].
Возведение государства и личности государя в степень земного воплощения Божественного разума в перспективе означало принципиальное расхождение с фундаментальной тенденцией развития той цивилизации, которую сам же Петр избрал в качестве материнской для новой российской культуры. Для Запада того времени на первый план уже вышел вопрос о главенствующем положении права по отношению к государству и обществу, которое (право), согласно кантовской формулировке, представляет собой «самое святое, что есть у Бога на земле». Одной из стержневых опор новоевропейской цивилизации, доставшейся Западу в наследство от «первого» Рима, является убеждение, что институт права выше государства с его законами и выше любого лица, какое бы место во властно-государственной иерархии это лицо не занимало. «…Под правом имеется в виду не вообще обоснованность и оправданность тех или иных поступков и акций (это наиболее широкое понимание права, когда это понятие обобщенно охватывает все его значения, например, и моральное право, и право-обыкновение, и даже так называемое естественное право), а право как строго юридическое явление – официальный институт, на основе которого действуют государственно признанные права и обязанности лиц, юридически дозволенное и недозволенное»[51].
И в данном отношении замысел полицейского государства изначально делает такое государство несовместимым с правом, придает ему принципиально неправовой характер, ставит его, говоря современным языком, вне правового поля. Полицейское или правовое – в российском социокультурном и политико-культурном контекстах эти определения государства образуют полюсы антиномии, то есть противоречия, не имеющие позитивного разрешения: или – или. Последнее означает, что эволюционный переход от одного состояния (полицеизма) к другому, правовому, невозможен. Прежде всего потому, что в сопоставлении с правовым полицейское государство в его российской версии – вовсе и не государство, а некая социальная организация, которая попутно, частично и крайне неэффективно выполняет некоторые его, государства, функции, по своей сути, по действительному устройству и назначению государством не являясь.

