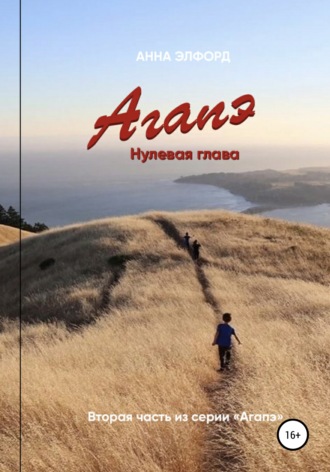
Полная версия
233 года: Агапэ
Я взглянул на приятеля, наслаждающегося здешней едой.
– 20 лет… звучит божественно. И чем же вы занимаетесь в свои 20, мистер Барннетт? Вы похожи на миссионера.
– Нет, я не служу Богу, хотя в нём и можно найти определённое натянутое за уши успокоение души. В данный момент я учусь вести хозяйство, а затем собираюсь провести остаток жизни в разъездах по миру.
– Расскажите о девицах. Вы приударили за одной из городских барышень? – Совратительная улыбка подкосила его грязного цвета китайские глаза; мистер Уилсон снова зажевал.
– Когда я был мал, отец часто рассказывал мне о Платоне, ученике Сократа. В 14 лет я поставил себе цель – не бежать от людей вопреки боли, которую тебе причиняют, ибо только тогда мы живем. Я поклялся испытать на собственной шкуре пытку привязанностью души, отведать шесть видов любви Платона: любовь к сестре; к подруге; к наслаждениям; к пассии; к жене; к предмету обожания и всему вместе одновременно во время Агапэ.
Когда я замолчал, я словно увидел, как шестерёнки в их голове вертелись и убыстрялись. В этот же миг, словно на стыке планет, я услышал мельтешащие шаги. И девушка позади, быть может, не более красивая, чем другие, заставила меня вскочить на ноги неожиданностью своего появления.
– Я велел тебе не спускаться, Эвелина. Что ты забыла на моем ужине? – воскликнул мистер Уилсон, цедя из себя слова. Он метнул на неё какой-то странный взгляд – взгляд ненависти.
Небольшого росточка, хрупкая и ласковая, но беспокойная, с решительной осанкой, девушка съёжилась. Она, лет двадцати шести, украсила пепельно чёрные волосы красной лентой; и я вспомнил её, гуляющей с другими девушками по садам долины в мой второй день пребывания здесь. Ее тонкую талию отлично подчёркивал лиф черного платья, лента под грудью и корсет. Она, – чудо, – вся настоящая и одарённая талантами от природы.
– Как же я могла пропустить первое посещение гостей за долгие года? – уютная девушка ответила героически смело и прытко, пусть её тело словно и парализовало перед отцом. – Ты представишь меня гостям, папенька?
Подвижный алый, как пион, рот и её акварельно-тусклые глаза выделяли ее миловидность. Жизненные силы вышли из моих ушей; меня оглушила тишина. Никто более не говорил. Воздух не циркулировал. Свечной огонь как замер в едином положении, так более и не колыхался. Мистер Уилсон буркнул под нос имя девушки «Эвелина», а я склонился перед ней в глубоком поклоне. Допотопный инстинкт заставил меня с учащённым биением сердца ждать от неприлично юной жены мистера Уилсона невольной ласки, но благопристойности заставили меня только поцеловать её руку.
– Миссис Эвелин, очень рад знакомству с вами, – сказал.
– Она мне не жена! – возмутился Уилсон.
– Я мисс Уилсон, сэр. – Девушка смущённо отвела глаза в пол. – Я его дочь.
– Вы говорили, что у вас есть лишь племянник, – встрял итальянец Зуманн, до этого аналогично вскочивший на свои ноги.
– Это и не важно, – присёк я повисшую в воздухе неловкость. – Прошу прощения перед Вами за моё невежество, мисс Уилсон.
– Что мне ещё остаётся, кроме как простить Вас, мистер…
– Мистер Барннетт. Дилан Барннетт.
(Это были последние месяцы, когда я мог звать себя тем именем, что дал мне отец и дед)
Эвелина сосредоточенно отошла от меня к отцу; но между нами успела проскочить искорка – я улыбнулся при виде её глаз, без капли кокетства разглядывающие меня. В девушке не было ни капли высокомерия; она была хозяйкой всего малолюдного серебра перед мной, которое достают изредка. (Она имела общие черты склада лица в профиль, что и моя покойная сестра)
– Эвелина, ты просто неблагодарный кусок ребра, – вспылил ее отец. – Сидела бы в своих покоях.
– Папà! – Его терпеливая дочь положила руки на узкие плечи отца. Она говорила без ирландского акцента, в отличии от старика.
– Неблагодарный кусок рёбра? Ужасно, мистер Уилсон! Женщины всё знают и всё могут изложить; всё понимают, они ведают миропорядком. – На этом месте я замолк, покуда я решил воздержаться от дальнейших споров.
– Ваше мнение! Но переубеждать меня вы не посмеете. – Тогда меня возмутил тон старика: резкий, жеманный, надменный. – От моего усыновлённого маленького племянника больше пользы, чем от дочери. Мужа ей иметь непристойно. Вот и тратит состояние папеньки! Эвелина, ступай к себе, и не смей выходить.
– Отец, если наши гости не будут против моей наглости, то я бы хотела запоздало присоединиться к ужину, – сказала Эвелина юношеским голосом и приобняла отца со спины.
Девушка так самодостаточно настояла на своём (девицы в те времена не смели пререкаться с уважаемыми пожившими родителями). Мы услышали, как в дом вошла гувернантка с мальчиком лет восьми, лепет которого прервал тишину и в миг разнёсся по помещению этажа. Мальчишка с родимым винным пятнышком на шее побежал к своей нежной кузине, привлекая всеобщее внимание. Понаблюдав за лепетом сестры и брата я осознал, что оба изнеженные, не приспособленные к жизни и труду, гоняются за мотыльками по полям, хохочут и собирают цветы (от Эвелины исходила какая-то своя, особенная атмосфера). Эвелина поставила светловолосого брата на ножки, отряхнула и поцеловала. После племянник вновь ушел играть в сад, но один.
На закате вдруг похолодало, и появились тучи. Весь ужин Эвелина была добродушна мила со мной. На мой вопрос о увлечениях она ответила лишь одним словом «антиквариат». На первом этаже дома у мисс Уилсон была отдельная комната для её совершенно жутких игрушек. «Надеюсь, я когда-нибудь смогу их увидеть», – сказал я в тот вечер. В подростковом возрасте Эвелина увлекалась каллиграфией и имела страсть к ведению дневников, которые, впрочем, в основном были заполнены не распорядком дня или впечатлениями от произошедшего, а небольшими рассказами, завораживающими своей атмосферой (вскоре я удостоился прочесть их). Весь ее характер прошит мягким обаянием.
Неожиданно мы вчетвером услышали стук входной двери, когда мальчишка-племянник, неся в руках дворовую собаку, положил её тушку напротив огня камина, разожжённого в холод ночи. Мистер Уилсон дожевал последний кусок; брат Эвелины стоял на коленях перед лохматым трупом своего друга. Сейчас казалось, что мальчик не плакал, нет, но когда он обернулся и невинно залепетал, на его бледных щеках виднелись мокрые, солёные следы.
– Собачка просто замёрзла. – Теперь уж было очевидно, что он плакал. Мальчик и сам не верил в то, что говорил. – Но сейчас она согреется и проснется. – Вошедшая служанка тонко, высоко закричала. Мистер Уилсон и не оторвался от своего чая.
Я наконец ощутил запах смерти, и почувствовал на острее плеча мурашки, словно сотни мелких пауков. Мистер Уилсон и гурман итальянец продолжили пить чай, не обращая внимания на всеобщее молчание внутри хаоса; служанка почти упала в рыхлый обморок, и Зуманн кинулся успокаивать её; гувернантка подбежала и подхватила мальчишку на руки. Кошка на подоконнике и её 27 позвонков изогнулись, в испуге сигая на пол вместе с ушами и лапами. Эвелина среагировала необычайно быстро: она взяла на себя смелость восстановить порядок. Я помогал мисс Уилсон, пока этот ее деспотичный отец приговаривал: «Ох, грешница, ты грешница».
Да, и вправду женщины ведают миропорядком. И нахлынуло на меня тонкое, новое чувство восхищения Эвелиной.
– Пока ещё не стемнело, вам лучше поспешить домой, мистер Зуманн, мистер Барннетт, – сказал Мистер Уилсон и опрокинул остатки ароматного вина, постукивая бокалом по дереву стола.
Он с дочерью проводил нас до ворот. Эвелина молчала пред грубостями отца (очевидно, выслушивая подобные мерзости не впервые в своей жизни). Ведьмы уже начинали завывать вместе с ночным ветром. Лес и долины уже почернели… солнце закатилось за горизонт. По коридорам мы вышли из дома; луна висела низко в небе, как молочно-белый череп. На моем влажном языке, где собрались капли вина, вертелись фразы, видения, красивые слова. А ухватить надо бы хоть одно – вот, трепетание нервов. Мне было неприятно видеть Эвелину такой печальной.
Нам с Зуманном подали коней, и перед тем, как отъехать, с мягкостью, как к собственной сестре, которая мертва, с отцовской нежностью, которую я не знал, я поцеловал маленькую, белоснежную ручку Эвелины. Да, Эвелина была скромна, пусть, может, и страстна в душе, как и насыщенный цвет её одежд – темно синее, идеальное платье. Как много бы не прошло времени со встречи с её характером, урождённым в графстве Кент в 1786 году, я никогда не вспомню без душевного трепета об Эвелине. Обхватив бёдрами коня, я заметил мимолётом, как мистер Уилсон подтолкнул дочь обратно в дом. «Тебе нет смысла проходить через эту пошлость, это унижение тебя минует», – сказал он. «Безупречные джентльмены загубят твою живую душу», – продолжил он. «Ты видел его модную, вельветовую одежду! Что за сумасбродная молодёжь», – говорил он.
Мои обнажённые плечи под материей одежд, где недавно бегали пауки, тонко-вьющие паутины трепета пред смертью, окутывал теперь июньский туман; квинтэссенция душ женщин и мужчин из соседних имений витали возле нас, и были они одеты в броские, яркие наряды; теперь они крутились возле моего коня.
Бутоны цветов уже начинали распускаться. К утру я не смог уснуть. Я лежал в тепле и в моей голове клубился вихрь контрастов – чёрная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин, сонные поля и нелюдимость слуг – словом, я не видел ничего; точнее, видел только ее руку.
Все вместе взятое означало рождение новой религии.
Глава 3.
Дилан Барннетт
Древесные листья июнь месяц выпятил силой. Златокудрое солнце, подобно причудливому субъекту, с юным пылом взирало на людскую греховность, на провинциальное графство Кент. Прошёл месяц с моего прибытия. Я сидел в столовой за простым деревенским завтраком. Зуманн присоединился ко мне. Руки он держал за спиной, а землянистое лицо и мягкий взгляд посмеивались над нерасторопной утренней обстановкой.
– Мне кажется я нашёл Сторге.
Этим заявлением я огорошил Зуманна; на его лице вырисовалась непередаваемая растерянность.
– И кто же эта девушка?
Я присел за стол, налил тягучего молока себе в кружку и отведал кисловатого смородинового варенья. Мои пальцы впились в горячую яичную скорлупу.
– Эвелина! На вчерашнем вечере я испытал к ней сестринское притяжение.
– Brannett perché complicarti la vita cambiando idea continuamente? Non è passato neanche un giorno ed hai già cambiato idea! – разразился криком на итальянском Зуманн.
Я перевел его слова в своей голове "Барннетт, как ты любишь усложнить жизнь! Как быстро меняешь мнение! Не прошло и дня, а ты уже передумал!". Однако, я не слушал его. Я включил режим инкогнито; я слился лицом с обоями, заперся, забаррикадировался в собственных мыслях, пока Зуманн возводил событие в кубическую степень трагедии. Но я не стал долго терпеть его крики; я вскипел, вскочил, бросился во двор под акацию. Какая-то дверца в душе хлопала, билась. Безумие! Скудоумие! Всю жизнь одни глупости. Сперва Зуманна выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему по пути из Италии (я был очевидцем той судьбоносной встречи), а теперь он говорит мне упустить свой шанс молчанием.
Как по мне, лучше рассказать девушке о своих чувствах… она не выдаст тайны. А если и выдаст, то она не достойная тварь.
Я прикидывал то да се, взвешивал, сопоставлял. Я понимал, что готов дать ещё один шанс ради становления родственной любви меж нами, той любви, которой мне так не хватало всегда.
Когда на скамье около акации, где я устроился, вспыхнул ветер, я рассмешил себя проскочившей, яркой мыслью: мне страшно захотелось оседлать коня и пуститься галопом. И минул я двор. У конюшни подали мне жеребца. Когда я отдалился от цивилизации и ехал по аллее леса, небо стало торжественным. Кочки, острые сучки, ямки, кусты с ягодами лошадь горделиво обходила. Тени расходились, а солнце сонно жмурилось. Возможно, не всем будет понятна моя страсть к деревенским туманам. Туман – это дополнительное время на "подумать", разглядеть что-то в своей жизни, а не просто увидеть (а ведь разница колоссальна). Я мучился неизведанным, я желал познать тайну, но здравый смысл заставлял не губить Эвелину своими романтическими надеждами о будущем. Лошадь сорвалась на бег, перепрыгивая ручьи. В конце лесной тропы я обнаружил заброшенное кладбище. Здесь демонстрировалось благополучие, вечное упокоение посреди вселенской скорби. Здесь было вечное место переплетений жизненных новелл, но я был чёрств к их смертям.
– Сплошная чертовщина, – проворчал я, а лошадь перетаптывалась подо мной. – Эти пыльные надгробья кишат привидениями и чертями. – Паутина колебалась от ветки к ветке.
Я ощутил скверный суеверный страх перед насыщенностью воздуха сернистой смесью – я всё ещё сидел в сплошной нерешительности. Я словно собирался прыгнуть в воду, и не знал, отступить ли мне в последнюю секунду, или продолжить бег по пристани. Я постарался забыться и опустился на землю ногами. Я нервно прошёлся по мху, ограждая себя от мира кладбищенским оградой. Я шаркал мимо могилы неизвестного солдата, и когда рука Всевышнего направила меня обратно, я закрыл глаза с глубочайшим, идиотическим облегчением. Я испугался, вспылил, и с увлечённым видом медленно втянул голову в плечи, и лошадь подо мной развернулась в направлении Хорнфилд-Хаус. Вялая трава переливалась, подсвечивалась. Найдя тропку к крупной дороге, я нашёл на горизонте дом и прямое направление к нему; проезжая мимо садов я сжал лошадь бёдрами, слегка потянул поводья на себя, приостанавливая жеребца. Я взглянул на дряхлый дом нервозного мистера Уилсона; он уехал по делам в город. Мне почудился гремящий колокольчик где-то недалеко на дороге, и через минуту мимо меня проехала жалкая двуколка с одной старой кобылой в упряжке. Она проехала мимо, и вместе с ней Эвелина. Девушка держала разноцветные коробки покупок. С ней сидел незнакомый мне мужичок-кучер (дорога пылилась, и я не смог разглядеть его подробно). То ли кучер, то ли какой-то пират правит их двуколкой. Он низкий, мощный, серый, но лицо у него при этом было незаурядное.
Вот так – родители из дома, и юные леди творят, что хотят в городе: спускают деньги на ленточки, бантики, платья и шляпки. Эвелина попросила кучера скинуть скорость: она хотела поздороваться со мною. Я ритмично ударил лошадь стопами, и животное сорвалось на бег. Я видел на расстоянии, как мужчина обернулся, но не исполнил просьбу дамы, и они пропали за поворотом. Быстро скача и равнодушно оглядываясь, я вернулся в Хорнфилд-Хаус. Я сел напротив незажжённого камина в каменной, прохладной гостиной. Я неспешно облизал губы, почесал бакенбард, застыл на пару вялотечных, серых минут. Я не говорил. Собака с мокрым носом, впервые оказавшись внутри дома аристократа, посапывала у моих ног; служанки носились по коридорам, вынося серебро на обед на улицу. Эти слуги помогали мне быть благородным, великодушным, таким, каким они меня любили. Я кормил своим существованием дюжины семей лишь в Хорнфилд-Хаус. И стоило мне только сунуть нос в город по делам, как всё рассыпалось; слуги начинали слоняться без цели. Они проводили время в своё удовольствие в людской снизу дома.
На дворе после обеда стояла спёртая жара, и проворная муха несносно докучала. Жара придала моим щекам персиковую румяность, а глаза, не встречая другого взгляда целый день, смотрели перед собой – яркие, невидящие глаза. Я наблюдал за стеблями вьющихся роз, которые сплетались в густой ковёр, а на следующий день получил известие о бале. Душа воздушная, эфемерная, возрадовалась известию.
Когда экипаж разорвал материю тишины пустынной дороги, была дивная ночь, а приглушённая скрипка в сочетании с роялем возвещали о бурной, кипящей жизни людей в этой долине в эту ночь. Было темно, и когда мы с неясным Зуманном ступили из экипажа, мы слышали шёпот теней леди и джентльменов: «Какой важный… у него четвёрка лошадей!». Часы внутри дома указывали на десять вечера. Процессия танца приостановилась вместе с нашим с Зуманном приходом; в зале была жуткая толкучка, но перед нами все расступились, жавшись спинами друг к другу и к стенам. Чудеса делают деньги в единении со статусом, желание сделать милость. Мы без труда пробирались сквозь ужасное разнообразие запахов: свежих, сладких, кислых в богато убранном принимающем имении.
К нам с Зуманном подошёл призрачный и возвышенный распорядитель бала, и столь благородного свойства, позвал нас сыграть в покер (однажды, за покером другая девушка признаётся мне в любви, а затем погибнет). Здешние леди и джентльмены не точно передавали свои мысли, а язык Зуманна отдавал вопросом по ним восклицая: «Девятнадцать шиллингов за кусок материи?! Даже в Лондоне за такие деньги не одеваются!».
Одеваются, мой друг, ещё как одеваются. Просто это иррационально-пафосно. Но здесь было очень мало помпезности, и много веселости, живости, игривости. Около часа мы сидели за картами. К концу игры на ривере определится победитель раздачи; 7 игроков вскрыли свои 5 карт; я показал комбинацию фулл-хауз, но весь банк забрал мужчина тридцати лет. Он мне рассказал:
– Лет 20 назад, однажды, проспорив другу свои рассказы, я невольно устроил пожар в поле и выжег все заготовленное на зиму сено. Представляете, мистер Барннетт?
– Как же вам это удалось?
– Я был вынужден сжечь их, отрезая себя от прошлого, но на самом деле я был отчасти рад, ведь было стыдно перечитывать «детский лепет».
После того, как мужчина покинул нашу компанию, я взглянул на девушек, и одна из них не то что бы спешила, но торопливо сбегала по лестнице; она, в общем-то, даже медленно шла, пока её не сшибла толпа, не засосала течением. Другие же девушки в платьях из сливочных материй стояли с маменьками, наблюдая за хаотичным, звонким движением каждого и каждой. У каждой из них едко пощипывало в глазах от страха.
Я вытянул себя из пучины затянувшейся игры. Из-за вина у меня заплетался язык, силуэты акварелью расплывались в пространстве, а в голову, по ощущениям, затолкали вату. Я вошёл в чайную. Озираясь на шелка, на перья, я невольно задел плечо женского силуэта. Не видя её лица, я скорее рефлекторно, чем искренне, буркнул слова извинения, и пошёл дальше.
– Мистер Барннетт? – окликнула она меня.
– Прошу прощения? – Сперва я увидел красные ленты, стягивающие тёмные косы Эвелины, которые отсвечивали падающий на них искусственный свет. Перед мной стояла Эвелина в сливочном, не пышном платье, и сейчас я уж не припомню, правда ли она отражала свет, а не впитывала ли его в скромно позолоченные серьги и жемчужное колье. Или же мисс Уилсон вовсе излучала свечение в тот вечер!
При ее виде я протрезвел, телом резко выпрямился, манерно коснулся края своего цилиндра. Посреди комнаты я склонился перед ней в глубоком поклоне.
– Мисс Эвелина, я рад встретить вас вновь. – Моя рука привычно нырнула за спину. Я заметил странные перемены в своём поведении – я стал мягким и покладистым, а порывистость сдерживал.
– Мистер Барннетт… – Она опустила глаза цвета малахита на пол, и я понимал, что в памяти она поочерёдно восстанавливает фрагменты нашего единственного угрюмого совместного вечера: – Я вынуждена просить прощения за поведение моего кузена на ужине, – тихо выдала она. Однако, я был чёрств к гибели животного.
– И кто же вас вынуждает извиняться, милочка? – Спиной я полностью выпрямился, и из-за того, что моё тело рода Барннетт ростом было выше большинства женских, я смотрел на Эвелину с высока, да еще и тягучим, цепким взглядом. Но через пару мгновений я смягчил взгляд, и вежливо улыбнулся, как и подобает в светском обществе. – Прошу вас, мисс Уилсон, не извиняйтесь за все те недоразумения, которые не подвластны вам. Я надеюсь, что детская душа вашего брата не испытала страданий после. – Я вспомнил свою поездку на кладбище.
Эвелина поспешно кивнула в ответ, но это движение было неконгруэнтно, не соответствующее ее реальным переживаниям. Она затаённо смотрела за мою спину. Я наконец заметил, что она глубоко дышала, и дамы из танцевального зала, глядя на нас, перешёптывались с кавалерами. Без слов я подметил, что Эвелина чувствовала себя выкинутой за борт всеми этими условностями: она ни с кем была не знакома. Эвелина окунулась в стыд. Я нарочно спас её, сказав:
– Верно ли я понял, мисс Уилсон, вы совершенно ни с кем на балу не знакомы? – Она снова согласилась, но в этот раз твёрже. – И некому вас представить окружающим? – смекнул я. – Вы чувствуете себя в западне. – После этих моих слов она прелестно и нежно вздохнула.
– Пообещайте, что вы никому не скажете… – она пожелала раскрыть мне тайну, и я ценил ее доверие.
Эвелина напоминала мне сестру, всё то родное, чего я был лишён.
– Никому не раскрою вашего секрета, мисс Уилсон. – Я слегка склонился над ней, чтобы никто больше не подслушал нашего разговора.
– Мой отец уехал по делам в город несколько дней назад. Он никогда не позволяет мне посещать балы, выходить в свет. И вы абсолютны правы, мистер Барннетт! Я словно в западне. Я ни с кем не в праве заговорить, дабы обо мне не подумали дурно. – Она нервничала, она была пристыжена, а я чувствовал – какая досада; чувствовал – какая жалость оказаться юной девушке в подобном положении.
– А как же те девушки, с которыми вы часто гуляете по садам? Они должны иметь хоть одного знакомого. Я не поверю, если вы заявите, что они также не имеют ни одного друга, помимо вас.
– Откуда вы знаете о моих прогулках, мистер Барннетт?
– Не сочтите меня дурным человеком. – Я контролировал свой нетрезвый голос как мог и осознавал подозрительность своего заявления. – Однажды я видел вас гуляющими в садах с другими дамами.
– Они вовсе не дамы, а обычные крестьянки! – неожиданно резко отозвалась она; в Эвелине было столько страсти, столько жизни!
– Но ваше положение сейчас подобно приключениям Родопис, – я заговорил поэтично-причудливо, да и многозадачно-туманно до такой степени, чтобы заинтересовать даму.
– Родопис? – теперь Эвелина говорила шёпотом, почти не дыша. – Мистер Барннетт, прошу прощения, но боюсь я совсем не понимаю, о чем вы говорите.
– Родопис – это та же Золушка у древних египтян. Её история пользуется большой популярностью тысячи лет. Когда я путешествовал по Египту, мне рассказал об этом один смельчак-удалец, по виду пират, за день до этого вернувшийся из Индии.
Я добился нужного мне эффекта – нос, живые глаза, тёмные брови приобрели известную стремительность.
– Не подарите ли вы мне танец, мисс Уилсон? Если вы оказались в подобном дурном положении, особенно впервые в жизни присутствуя на светском мероприятии, то я обязан прийти к вам на помощь.
Она ответила согласием на мое предложение.
Скрипач финально взмахнул тонким, элегантным смычком, выдерживая зрелость последней ноты. Предыдущий танец закончился; время нового. Дамы в темном танцевальном зале сделали почтительный, сдержанный реверанс, джентльмены медлительно поклонились. В это время влюблённые глядели друг на друга, молодожёны нарочно светили обручальными кольцами перед знакомыми, равнодушные и иные разошлись по сторонам, освобождая пространство.
Эвелина позволила коснуться материи ее нежной перчатки, и я повёл ее сквозь цветастые убранства дома. Пересекая холл (мы совместно преодолели пелену затхлого воздуха зрительской тесноты, и вырвались на свежую сцену актёрами). Зуманн увидел нас – он, почти брат мне, понял, уловил, увидел, что я очевидно влюблён. Итальянец наблюдал за нашим танцем со стороны. Прыгающая походка Эвелины гармонировала с ее нарядом – ее волосы слегка пушились у висков и вились кудрями у конца и посредине. Окружающие вне танцевального круга оглядывались порой на нас. Ее гибкая фигура остановилась в двух метрах в светлом ряду девушек напротив темного ряда мужчин. Лично знакомая со мной Родопис с земель Нила скромно улыбалась всем. Оживлённый танец начался – танцующие сделали несколько шагов друг к другу.
– Позвольте сделать вам комплимент? – начал развлекать её я светскими разговорами в процессе танце. Мы снова разошлись в разные стороны. (Казалось, я протрезвел)
– От комплиментов я никогда не отказываюсь, – ответила она. Я подстраивался под шаги девы.

