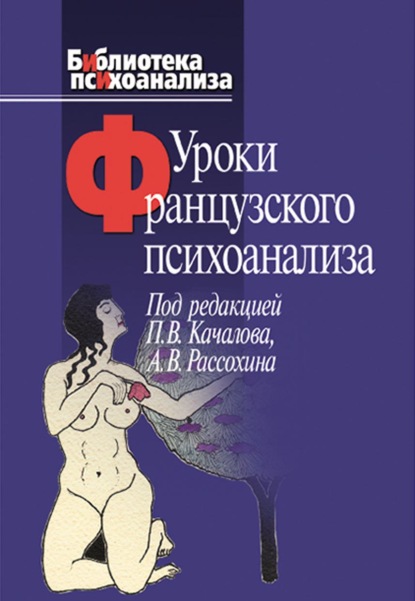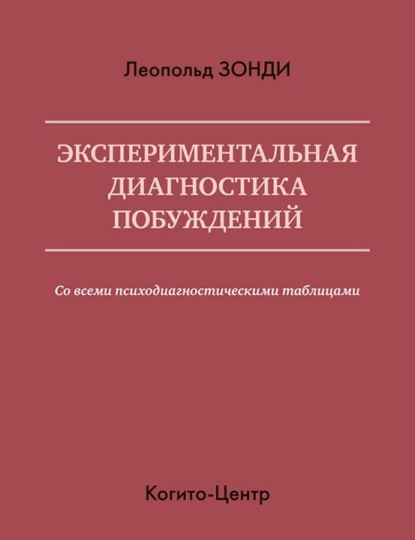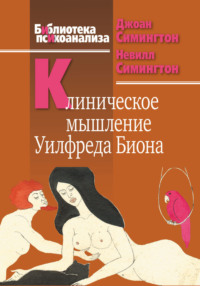Полная версия
Становление личности в психоанализе
Именно в атмосфере спонтанности и свободы может произойти глубокий эмоциональный контакт, так как подобная атмосфера способствует достижению аналитиком состояния мечтания. Одновременно пациент поддерживает это состояние своим свободным самовыражением. Для психотической части личности характерна инертность, следовательно, данная часть личности не в состоянии устанавливать связи с пациентом. Фрейд рекомендует аналитику «свободно парящее внимание», Бион говорит о состоянии «мечтания», а Клаубер называет данное состояние «спонтанностью», что почти является синонимом первых двух. Я говорю «почти», потому что слово «спонтанность» несет смысловой оттенок обмена высказываниями, который отсутствует в двух других выражениях. Понятие спонтанности было настолько важным для Клаубера, что он считал, что аналитику лучше выражать свое отношение, чем воздерживаться от этого. На мой взгляд, он слишком расширил понятие спонтанности, однако я убежден в том, что это была меньшая из возможных ошибок в выборе между полной свободой и ригидностью.
Клаубер не был доволен общепринятой классической теорией, и до сих пор остается неясным, занялся ли бы он созданием собственной теории, если бы продолжал жить и читать лекции. Я сомневаюсь в этом. Он критически относился к существующей признанной теории и технике. По его мнению, она страдала склонностью к упрощению. Он считал, что она не уделяет достаточного внимания индивидуальному содержанию взаимодействия между аналитиком и пациентом, а также не обосновывает первостепенного положения эмоционального контакта в этом взаимодействии. Почему же он не создал новой теории? Для ответа на этот вопрос необходимо знать некоторые особенности его характера.
Как подчеркивал Юнг, в каждом человеке происходит борьба между индивидуальным и коллективным. Джон Клаубер чувствовал, что может без опасения проявлять спонтанность только при наличии собственного уважения к обществу, частью которого он является, и к голосу этого общества внутри него самого. Он очень серьезно относился к присутствию этих двух сторон в своей личности, о чем неоднократно высказывался. Он глубоко верил в важность ощущения внутреннего света, и сказал однажды, что люди, получившие квакерское воспитание, могут стать хорошими психотерапевтами; с другой стороны, он с трепетом относился к группе, к коллективу. Это проявлялось в том преувеличенном почтении, с которым он относился к гению Фрейда. Как-то он сказал, что все мы, аналитики, работаем в тени гения. Казалось, что он был против любого вмешательства с целью изменения теории основателя психоанализа. Он полностью осознавал, что со времен Фрейда понимание многих явлений ушло далеко вперед, но считал, что никто не предложил достойную замену его метапсихологии, и негативно относился к попыткам вносить в нее изменения. Так, на одном из научных заседаний Британского общества доктор Деннис Дункан представил свою работу, в которой он сделал попытку переработки теории в свете интерсубъективного подхода, и Клаубер дал его выступлению отрицательную оценку ввиду «поверхностного отношения к теории». Ему не понравилась книга Элленбергера, посвященная бессознательному, так как он считал, что она безосновательно принижает значение Фрейда. Подозреваю, что он считал, что никто из нас, обыкновенных смертных, не был способен почувствовать глубину мыслей и представлений Фрейда, а поэтому подобное «поверхностное» отношение к его теории было обречено на провал. Как будто он чувствовал, что пока не появится фигура, равная по значению Фрейду, для всех было бы лучше пользоваться наследием, завещанным нам Фрейдом. Клаубер хорошо знал себя, свои недостатки. Он не был удовлетворен имеющейся теорией и тесно связанной с ней техникой. Он энергично критиковал ее, однако складывается впечатление, что он с осторожностью относился к попыткам изменить ее. Он был готов применять собственный подход к пациентам и мог обосновать свою точку зрения по этому поводу. Возможно, дело было в его нежелании основывать новую теоретическую школу в психоанализе. В этом отношении он был схож с Ференци, которым он восхищался, а также с Балинтом и Винникоттом. По этому поводу он также разделял убеждения независимой группы аналитиков внутри Британского общества. Члены этой группы выступают против основания новых школ.
Фрейд расценил как предательство несогласие Юнга с одним из центральных положений его теории. То же самое чувствовала Мелани Кляйн по отношению к Пауле Хайманн. Это значит, что они воспринимали теории как свои собственные создания, и критика теории означала для них нападение на личность. Они чувствительны в этом отношении, как когда-то Микеланджело, когда один из кардиналов нелестно отозвался об обнаженных человеческих фигурах на фреске с изображением Страшного Суда в Сикстинской капелле. Помимо этого, у Фрейда чувствуется еще и желание того, чтобы его последователи мыслили в русле его концептуальных представлений, это также характерно для Кляйн. Теперь мы яснее можем увидеть, в чем состоит дилемма Клаубера. Став создателем новой теории, он вступил бы в противоречие с одним из глубочайших собственных принципов, состоящим в том, что человеку важно найти свой индивидуальный свободный способ самовыражения. Как можно с такими взглядами навязывать другим свой образ и подобие? Эта дилемма, встающая перед человеком, глубоко преданным идее свободы. Эта дилемма Клаубера всегда была дилеммой для тех, кто верил в личную свободу. В книге «Против течения» Исайя Берлин приводит примеры тех немногих смелых мыслителей внутри европейской идейной традиции, которые противопоставили себя крупнейшим монокаузальным системам мышления: Вико, Хердер, Монтескье и другие, чьи имена никогда не сравнятся по известности с именами Декарта, Карла Маркса или Фрейда.
Индивидуальный выбор свободы может означать «жизнь в тени гения», для того, чтобы вести собственную внутреннюю и внешнюю жизнь, необходимо быть чьим-то последователем, так как самому быть творцом чужих жизней оказалось бы невыносимым для того, кто предан свободе. С другой стороны, это означает незаживающую рану в самом центре существования подобной личности. Руссо ощущал тяжесть этого выбора, воскликнув в гневе, что людей надо принуждать к свободе. Вместе с тем я считаю, что те, кто ощутил эту рану в центре своего бытия, способны исцелять других. Клаубер был прекрасным целителем. Мне кажется, он был бы доволен такой эпитафией.
Мысли спустя тридцать летРазмышляя об опыте своего общения с Клаубером и разбирая его бумаги, я изумляюсь тому огромному значению, которое он придает личности. Вклад в индивидуальность как пациента, так и аналитика находится в центре его внимания, и тем не менее эта его сторона во многом остается неизвестной, словно его высказывания, часто ошеломляющие, являются семенами в психологической почве, в которой отвергается все личностное, а первостепенное значение приписывается слепым психическим силам. И вдруг в этой закрытой системе появляется концепция, по сути своей глубоко затрагивающая личность.
Здесь уместно провести аналогию с Юмом, который был глубоко предан идеям веры, являясь при этом бескомпромиссным рационалистом. Эти бриллианты, сияющие в грязи, не остались незамеченными немецкими романтиками, Гаманом и Якоби. Мне пришлось потратить немало времени, прежде чем я смог обнаружить у Клаубера эту концепцию, а затем поместить ее в саду философских идей, родственных ей по духу. Для меня очевидно, что его акцент на индивидуальности идет вразрез с установкой на обезличенность и влияние системы.
Защищая свои «беседы» с пациентом, он исходил из интуитивного понимания их важности для развития личности. Думаю, он пытался посмотреть на эту задачу с нескольких точек зрения. Меня все больше интересует природа личности человека. Что представляет собой личность? Что отличает личность от просто индивида? Отличает ли личность от индивида наличие творческой реакции и спонтанность? Творческая реакция лежит на более глубоком уровне личности, чем речевая. Отклики Клаубера в виде его бесед являются проявлением на уровне языка чего-то значительно более глубокого. Я убежден в том, что именно эмоциональное взаимодействие создает личность. Мне кажется, что, зная об этом, Клаубер не полностью осознавал значение личности. Личностью становиться не хочется, так как именно личность испытывает такие чувства, как печаль, стыд, сожаление, вина. Человек, личность которого не развилась или находится в зачаточном состоянии, не испытывает этих чувств. Часто наблюдается инстинктивное уклонение от личностного развития, и, как мне кажется, метод психоанализа в целом находится под влиянием этого страха. На мой взгляд, со стороны Клаубера было мужественным решением не придерживаться широко распространенной техники, суть которой состояла в отрицании личностного начала.
В этом, по моему мнению, состоит основное достоинство Джона Клаубера. Не осознавая этого полностью, я тем не менее потратил много лет, чтобы найти в психологии то, что поддержало бы его взгляды. В результате я выделил два наиважнейших принципа: его инстинктивное уважение к свободе индивидуальности и его постоянно повторяемое изречение о том, что первой задачей аналитика является установление эмоционального контакта с пациентом. Это две служанки того, что я назвал его «основным достоинством». Не каждый обладает способностью устанавливать эмоциональный контакт с другим. Наверное, эта коммуникационная способность формируется в рамках связи мать – младенец. По причине зависимости от столь непредсказуемого фактора эта способность часто оказывается недостаточно сформированной. Некоторые психоаналитики и психотерапевты страдают от этого раннего нарушения, и «давать интерпретации» становится для них механизмом, компенсирующим неспособность строить отношения. Свобода – обязательный компонент для того, кто хочет строить отношения.
Сегодня, оглядываясь назад, спустя 25 лет после смерти Клаубера и 21 год после написания этой работы, я могу сказать, что он обладал совершенно уникальной способностью создавать отношения. При этом он не вполне отдавал себе отчет в том, какие психологические факторы влияют на этот процесс, отчасти потому что переоценивал систему взглядов Фрейда, не способную поддержать его собственное мировоззрение. Так, я считаю, что его концепция тревоги как импульсивной разрядки является слишком механистической и не соотносится с тем особым значением, которое он сам придает Эго и системе ценностей аналитика. Я думаю об этом с величайшим сожалением, потому что личность аналитика и влияние личности на процесс были для него самыми важными практическими аспектами в психоанализе. По существу, в работе «Психоаналитик как личность» (Klauber, 1968, р. 123–139) он рассматривает именно этот аспект, хотя очевидно: чтобы поддерживать такой взгляд, необходимо обладать философским пониманием, предложенным такими мыслителями, как Джон Макмюррей, Кьеркегор, Мерло-Понти, Ясперс, Беренсон, Макс Шелер и др. Представление проблемы в виде стоящих перед Эго задач по интеграции аспектов, изначально имеющих чуждый ему характер, противоречит утверждению о том, что существуют импульсы, требующие разрядки. В первом варианте Эго представляет собой фактор, структурирующий личность, в то время как во втором подчеркивается безличный характер действующих импульсов. На мой взгляд, Фэйрнберн, понимающий личность как Эго, из схемы которой удалено Ид, и Бион, определивший взаимодействие между контейнером и контейнируемым, в большей степени способствуют первичности личностного по сравнению с более механистической моделью Фрейда. Данное понимание в определенной степени разделял и Коллингвуд, взгляды которого повлияли на Клаубера в процессе изучения истории. Интуитивно Клаубер действовал в соответствии с позицией, противоположной его теоретической ориентации. Поэтому, я думаю, в его замечании по поводу того, что мы всегда работаем в тени гения, звучала нота сожаления, как будто он страстно желал выйти из тени и опробовать теорию, соответствующую его интуитивному пониманию.
Когда-то я считал, что, если Клаубер не является знатоком в области личностного развития на уровне, описываемом как примитивный, доэдипов, довербальный, то кляйнианцы, вероятно, являются такими знатоками. Поэтому после того, как я сдал квалификационный экзамен аналитика, каждые две недели я стал посещать практические семинары под руководством Герберта Розенфельда и узнал от него очень много в этой области. Сами кляйнианцы утверждают, что действительно разбираются в этой области. Однако спустя время я пришел к выводу, что они тоже в ней не разбираются[2]. Среди них были и заметные исключения. Осознав это, я опять почувствовал еще большее расположение по отношению к Джону Клауберу. Можно сказать, что для того, чтобы анализировать пациента, совершенно необходимо уметь: во-первых, устанавливать контакт с пациентом, во-вторых, анализировать эмоциональные модели восприятия, искажающие действительность, которые ассоциируются у нас с душевным расстройством. Джон Клаубер, безусловно, умел делать первое и, по моему убеждению, делал и второе. Акцентирование спонтанности и активность, с которой он поддерживал спонтанность в терапии, были направлены на психотический сектор личности с тем, чтобы предотвратить развитие психоза.
Другими словами, он выращивал сад, в котором психотические ростки будут своевременно искоренены. Психоз, представляющий собой структуру под управлением Супер-Эго, характеризуется жесткостью, догматизмом и склонностью к систематизации. Спонтанность является противоядием этому[3]. По-видимому, Клаубер знал об этом и знал, как вмешаться в развитие психоза и дать пациенту возможность взрастить на его месте внутреннюю способность к свободному спонтанному поведению, являющуюся отличительной чертой психического здоровья. Установление эмоционального контакта с пациентом – фундамент, на котором строится аналитический процесс. Личность стабилизируется, если фундамент надежно укреплен, после чего можно приступать к аналитической работе.
Клаубер считал, что правда исцеляет, и он был верен этому идеалу. Он дал мне достаточно, чтобы на этом, как на фундаменте, можно было продолжать строить в последующие годы. За прошедшие 30 лет с тех пор, как завершился мой анализ у него, мое эмоциональное развитие и понимание аналитического процесса ушли далеко вперед. Думаю, что должен быть благодарен именно ему за то, что он направил меня по этому пути. С течением лет я испытываю все большую благодарность ему за то, что он был тем, кем был. Возможность разговаривать с ним, пользоваться его мудростью и пониманием была для меня огромной привилегией.
Я испытываю безграничную благодарность за его уважение к моей свободе. Он также очень радовался, когда в моей жизни случалось что-то хорошее и после того, как окончился мой анализ. Помню, как-то раз я встретил его в городской библиотеке Мэнсфилда вскоре после того, как Джоан, моя жена, забеременела нашим вторым ребенком. Он появился неожиданно, и я поделился с ним этой новостью. Он в буквальном смысле этого слова подпрыгнул от радости. Я сказал ему о том, что это снова будет мальчик, а он ответил, что, когда впервые услышал о том, что их вторым ребенком снова будет девочка, он испытал разочарование, а потом сказал мне: «Но когда ребенок родился, я так радовался, что это уже было неважно». Помню, что я уходил тогда с радостью в сердце. Его человеколюбие было очевидно для каждого, кто хорошо его знал.
Часть II
Эмоциональная свобода аналитика
Введение
Не что хотим, сказав, а что должны.
(В. Шекспир. Король Лир, акт 5, сцена 3, строка 324)Предлагаемые далее работы были написаны прежде, чем я написал главу первую, посвященную Джону Клауберу. Однако с точки зрения моего становления в качестве аналитика они должны следовать именно в таком порядке. В статье о Клаубере я восстановил время, предшествующее периодам, описанным в четырех последующих главах.
Эти четыре работы представляют собой единое целое. В центре внимания – убеждение, что именно эмоциональная свобода позволяет аналитику вступить в контакт с той примитивной сферой личности, которую называют психотической, догенитальной, доэдиповой, областью базисного дефекта или просто примитивной. Несмотря на то, что эти работы были написаны в самом начале моей деятельности в качестве психоаналитика и я ушел далеко вперед с тех времен, они отражают мировоззрение, которое изменилось только лишь в философской концепции, в рамках которой я оцениваю их сейчас. Спустя определенное время они оказались в контексте, который больше им соответствует. Постепенно я осознал, что они не в полной мере отвечают теоретической схеме, изучаемой мною в процессе аналитической подготовки, так что мне пришлось разработать собственную схему, на которую ушло много лет. Сегодня я могу сказать, что эти работы значительно лучше соотносятся с моим новым мировоззрением и сейчас я намного лучше понимаю то, о чем писал тогда. В первой статье под названием «Пациент формирует аналитика» содержится рассказ о лечении, в котором я столкнулся с проблемами, описанными в следующих трех главах: «Акт свободы аналитика как фактор терапевтического изменения», «Фантазия воспроизводит то, что представляет» и «Зрелость и интерпретация как совместные терапевтические факторы». Эти работы стали основополагающими для моего мышления, и я до сих пор руководствуюсь ими в своей практике.
Недавно я вновь размышлял об анализе, положенном в основу статьи «Пациент формирует аналитика», и два года назад издал новую ее редакцию под названием «Пробуждение от догматических снов». Я включил некоторые фрагменты изменений в последней редакции статьи в примечания в конце главы «Пациент формирует аналитика».
Глава вторая
Пациент формирует аналитика[4]
«Хорошо», – сказал Кот, и на этот раз он исчез довольно медленно, начав с кончика хвоста и закончив улыбкой, которая еще некоторое время была видна после того, как все остальное исчезло. «Ну и ну! Я часто видела котов без улыбок, – подумала Алиса. – Но улыбка без кота! Это самое удивительное, что я видела в жизни».
(Carroll, 1974, p. 63–64)Мой анализ подошел к концу. Мои отчеты о работе с двумя пациентами были приняты моими супервизорами и комиссией по образованию Британского психоаналитического общества. Итак, я стал квалифицированным аналитиком. В процессе психоанализа со мной произошли значительные изменения, поэтому я знал из личного опыта, что психоанализ способен кардинально изменить личность человека. Я пришел к этому заключению в момент, когда переживал эмоциональный подъем. Вскоре, однако, произошла встреча с человеком, показавшим мне, что мой анализ не подготовил меня к подобному испытанию.
Она пришла ко мне в остром состоянии с жалобой на галлюцинации, в которых она, сливаясь с образом матери, душила своего близкого друга. До прихода ко мне она обращалась в две престижные психоаналитические клиники с просьбой о лечении и, получив отказ, наконец, была направлена ко мне. В то время я работал в небольшом малоизвестном центре психотерапии. Она злилась на то, что ее не приняли на лечение ни в одной из предыдущих клиник, и понимала, что я был ее последней надеждой. Она знала, что если не будет работать со мной, то лишится последней возможности получить необходимое лечение. Она была крайне стеснена в средствах, так что вопрос о частном лечении даже не обсуждался. Таким образом, у нее не было другого выбора, кроме меня, показавшегося ей холодным и строгим, но разве были у нее другие варианты? Оливеру Твисту тоже было несладко, когда он просил добавку супа.
Она начала свое лечение в начале января, сразу после Нового года, и в течение трех месяцев до самой Пасхи процесс шел легко и гармонично, так что я – в то время молодой аналитик – был очень доволен собой. Я ожидал, что так оно и пойдет, пока лечение благополучно не завершится. Но после перерыва на Пасху меня ждал удар.
Думаю, что в течение этих трех месяцев она проверяла обстановку, пытаясь понять, сможет ли она предъявить мне сумасшедшую часть своей личности. Я знал, что некоторые пациенты действительно тщательно изучают своих аналитиков в самом начале лечения. Это дает аналитику возможность оценить ситуацию и решить, готов ли он к более серьезному испытанию.
Не имею понятия, почему я прошел этот экзамен, я был совершенно не готов к подобному яростному безумию. Размышляя об этом позднее, я пришел к выводу, что она интуитивно почувствовала во мне потенциал, который еще не был реализован.
После этого первого перерыва в лечении я вдруг очутился в клиническом мире, новом и пугающем. Ни анализ, ни супервизии не подготовили меня к этому страшному испытанию. Постараюсь рассказать, с чем я столкнулся тогда. Она вошла в кабинет и после долгого молчания сказала: «Гном».
После этого она замолчала на десять минут. Потом она стала смотреть в одну точку на полу и сказала: «Игрушка».
Я был ошеломлен такой внезапной сменой направления. Я не чувствовал, что обладаю достаточной квалификацией для такого анализа. Можно ведь обратиться к кому-то еще, кто мог бы посмотреть эту пациентку? Но кто это может быть, спросил я себя. Наверняка этот вопрос задавала себе и пациентка. Я мог бы побежать к супервизору, но внутри меня что-то шевельнулось и приказало мне вступить в бой. В то время я посещал клинические семинары Герберта Розенфельда два раза в неделю. Безусловно, там я и должен был представить случай этой пациентки. Тем не менее, когда подошла моя очередь, я предпочел рассказать о случае другой женщины, чьи навязчивости маскировали скрытый психоз. Кроме того, я находился в плену внутреннего убеждения, что должен прислушиваться к своей интуиции, и в тот момент слишком сомневался в себе, опасаясь, что признанный авторитет сможет сбить меня с курса. В таком случае почему позднее я решился рассказать о ее случае Биону? Думаю, причина в том, что я был способен отличить знание от мудрости. Итак, я решил: буду вести эту пациентку, несмотря ни на что. Вот что я сказал себе: «Что бы она ни говорила, что бы ни делала – я должен оставаться с ней в контакте». Поэтому, когда она сказала «Гном», а потом «Игрушка», я, поразмыслив и с трудом подобрав слова, сказал: «Вы чувствуете себя маленьким ребенком и хотели бы опуститься на пол и поиграть со своими игрушками, и вам хотелось бы, чтобы я поиграл с вами».
Я не получил ни подтверждения, ни отрицания. Сессия за сессией она выражалась подобным образом. У меня не было никакой опоры, кроме собственного воображения, на эту способность я и сделал ставку. Я обрадовался, когда спустя годы узнал, что Кант считал воображение основой понимания. Я на собственном опыте убедился в том, что воображение является инструментом аналитической деятельности. Воображение помогало мне связывать между собой ее «телеграфные сигналы» – название, придуманное мной для создаваемых ею образов, лишенных синтаксической структуры, чтобы поместить их в языковой контекст. Вспоминая, как я соединял их между собой, я стыжусь своей наивности. Я убежден, что 75 % того, что я говорил ей, было неправильно, но я продолжал плести узор или нить повествования из того материала, который она давала. Я думаю, она знала о том, что я новичок, который не может делать свою работу лучше, чем делает. Однако она решила, что я должен делать ее лучше, и верила, что я смогу. Это было правильное суждение. Она получала удовольствие в процессе того, как я плел свой узор. Я знал это, потому что иногда на ее лице мелькала улыбка.
Возможно, вас разочарует то, что я не прилагаю записей тех ранних сессий. Однако они были настолько странные и непоследовательные, что их было невозможно записать. Все они, по сути, напоминали обрывкам телеграфных сообщений. Она пристально вглядывалась в какую-то точку в комнате и потом говорила: «Голубой круг», а десять минут спустя переводила взгляд в другое место и произносила: «Жираф» и т. д. Этот тревожный процесс продолжался примерно месяц, когда я понял по напряженности, с которой она вглядывалась в разные места в комнате, что «телеграфные сигналы» являются объектами, которые она «видит» в моем кабинете. Я понял, что она галлюцинирует (см. п. 1 комментария). Странно, насколько осознание этого успокоило меня. Почему? Я думаю, это объяснил Бион, цитируя Милтона:
Возникший из безвидной пустотыБезмерной, – мир глубоких, черных вод[5].(Bion, 1970, p. 88)Когда что-то возникает из бесформенности и обретает форму, это очень успокаивает людей, по природе своей стремящихся к оседлости и определенности. Я испытал похожее чувство облегчения, когда позднее в процессе ее анализа меня вдруг осенило, что я был во власти психотического переноса.
Большинство ее галлюцинаторных объектов, появляющихся в моем кабинете, были животными, отчего мой коллега предположил, что моя комната превратилась в пристанище для Ноева ковчега. Я также заметил, что она никогда не смотрит на