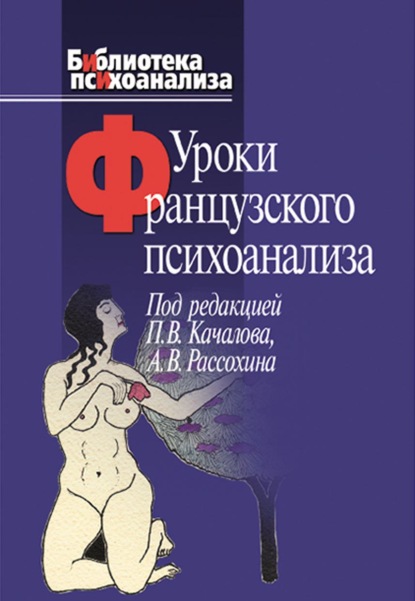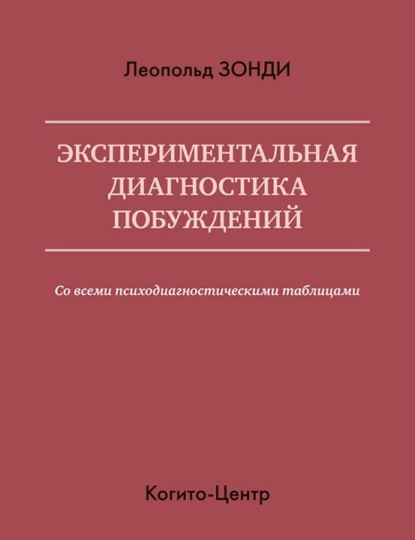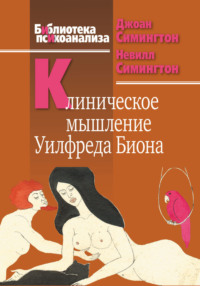Полная версия
Становление личности в психоанализе
В этой связи он считал, что иногда для аналитика бывает правильным признать точность восприятия пациента. Однажды я сказал ему, что он, как мне кажется, учился в частной школе, но я никак не мог представить его студентом закрытой школы-интерната. Он добродушно ответил мне, что, видимо, на мой взгляд, он не выглядит достаточно аскетично, чтобы поверить, что он прошел через все лишения школы-интерната. Затем он рассказал, что посещал частную школу Святого Павла, одну из немногочисленных школ дневного посещения, не являющуюся интернатом. Так как он полагал, что в психоаналитическом взаимоотношении существует непереносный элемент, он не считал, что любое общение должно быть проинтерпретировано. В работе «Элементы психоаналитического взаимоотношения и его терапевтические следствия» он задает вопрос: «Не слишком ли высокую цену мы платим за изощренность нашей техники, если наши реакции ограничиваются интерпретациями?» (Klauber, 1981, p. 59).
Часто его ответы на мои высказывания не представляли собой интерпретации, они были трех типов. Отклики первого типа не выглядели вначале как интерпретации, но по существу являлись ими. Ко второму типу принадлежали отклики эмоционального признания, когда я совершал шаг, способствующий моему развитию. Отклики третьего типа представляли собой открытую дискуссию по какой-то теме. Прежде чем перейти к следующим двум, приведу пример отклика первого типа.
Во время одного из этапов моего анализа я на условиях неполной занятости работал в тюрьме Грендон. Тюрьма находилась за Ойлзбери, и я, как правило, один – два раза в неделю ночевал в местной гостинице. Например, в среду утром у меня был анализ после моей учебной работы с пациентом, а затем я ехал в Грендон, ночевал там и возвращался в четверг, чтобы обдумать случаи из своей учебной практики и пройти анализ. В одну из сред Клау бер делал доклад на вечернем заседании Общества, а я не упомянул об этом. Он обратил на это мое внимание. Я объяснил свое молчание тем, что никогда не был в городе в среду вечером и что мне надо было долго ехать, чтобы попасть на это заседание. Он просто сказал: «Кто-то из анализандов проделал бы больший путь, чтобы послушать, как его аналитик читает доклад», – и добродушно рассмеялся. Безусловно, это была интерпретация, однако я понял ее смысл немного позже. Думаю, что он всячески избегал формальных интерпретаций. Я полностью разделяю такой подход. Мне кажется это совершенно очевидным. Однако когда я слушаю некоторые доклады, меня поражает формальность интерпретаций, и, по моему мнению, причиной этого является отсутствие эмоциональной связи. Я хотел бы рассказать об одном эпизоде, случившемся летом с одним пациентом, который собирался закончить свой анализ в конце июля. Он принял решение уйти, не дожидаясь того момента, когда я заканчивал работу со всеми своими пациентами, готовясь к эмиграции. Причиной его ухода до моего отъезда было то, что, как он чувствовал, мне было бы трудно попрощаться одновременно со всеми своими пациентами, его охватывала паника, когда он думал, что ему придется оказывать мне поддержку, подбадривая расстроенного и подавленного аналитика. Незадолго до окончания сессии я сказал: «Но на самом деле мне не нужна ваша поддержка». Я знал из своего предыдущего опыта, что это окажет воздействие. Так и случилось. Когда он пришел на следующий день, то сказал, что осознал, что все это время он, вероятно, был убежден в том, что я действительно нуждаюсь в нем, чтобы подбадривать себя в унынии. Он рассказал и о том, что был уже готов действовать, когда накануне я сказал ему, что не нуждаюсь в его поддержке. Мое высказывание было интерпретацией. Я также уверен в том, что, если бы сказал ему: «Вы чувствуете, что мне нужна ваша поддержка», – это не тронуло бы его. На то, чтобы сделать такой вывод, было две причины. Если бы я выразился в таком традиционном стиле, он бы подумал, что это моя «аналитическая болтовня». Он почувствовал бы, что для меня важнее подчиняться правилам, чем думать о нем. Я также полагаю, что фантазия о том, что я нуждаюсь в его поддержке, была чрезвычайно глубокой, поэтому, если бы я сказал: «Вы чувствуете, что мне нужна ваша поддержка», – он услышал бы только слова, подтверждающие это: «Мне нужна ваша поддержка». Только противопоставив фантазии решительное «нет», стало возможно поднять ее в сознание. В моем собственном случае смех Клаубера ясно передает ощущение того, что он столкнулся с неприятной стороной человеческой природы, но довольно легко мирится с этим и сам он принадлежит к тому же несовершенному людскому роду. Клаубер обладал редкими моральными достоинствами, но он также получал удовольствие, когда обнаруживал коррупцию в высшем свете, что было очень полезно для меня, воспитанного в католической среде.
Коммуникация второго типа представляет собой эмоциональное признание. Когда я выходил из своих ограниченных рамок к новому эмоциональному восприятию окружающего, он неизменно признавал это, что, на мой взгляд, имело терапевтическое воздействие. Это признание было эквивалентом одобрения, с которым мать улыбается ребенку, когда он начинает добиваться успеха в своей новой энергичной попытке. Его признание всегда выражалось в том, что он добавлял к моим высказываниям свои подтверждающие замечания, довольно часто имеющие отношение к социальным установкам. Я отдаю себе отчет в том, что подобное признание может вызвать зависимость от одобрительной улыбки, но не думаю, что это произошло. Оказалось, что я смог отстаивать свой взгляды и принципы перед лицом сопротивления. Мне кажется, что слово «признание» здесь не подходит, было бы правильнее говорить о «согласии». Сейчас я хочу перейти к рассмотрению третьего вида отклика, когда он говорил со мной прямо. Я хочу уделить этому достаточное внимание, так как, по моему мнению, данный отклик представляет собой наиболее противоречивый аспект его техники.
Клаубер часто говорил о разнообразных сторонах жизни: об обсуждении книги, картины, об информации из новостей или о религиозной или общественной установке. Он знал, что делает. Когда я начал критиковать его за это, он ответил, что знает, что говорит на общие темы намного больше, чем большинство серьезных аналитиков. На мой взгляд, этот вопрос заслуживает обсуждения и обдумывания. Беседы на разнообразные темы психологического и социального содержания были в его характере, но вместе с тем он полагал, что они также играют важную роль в психоаналитическом процессе. Совершенно ясно одно: он считал перенос таким мощным процессом, которому не могли помешать подобные обсуждения. Я могу вспомнить только случай, когда отвлеченный комментарий в разговоре показался мне неуместным.
Может показаться, будто подобные отвлечения были совершенно не связаны с интерпретациями, с которыми мы работали в тот момент; если такое впечатление сложилось, оно ошибочно. Они обычно, хотя не всегда, были связаны с обменом интерпретациями. Чтение всегда было для меня богатым источником самопознания, оно также способствовало моему эмоциональному развитию. Я приносил на сессии материал в форме диалогов с авторами книг, которые я читал в тот момент. Однажды я читал роман Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», и у меня выкристаллизовалось понимание одной вещи. Возможно, я испытал нарциссическое удовлетворение, обнаружив высказывание Моэма о том, что все слабые люди придают преувеличенное значение постоянству во взглядах. Как бы там ни было, я помню, как Клаубер сказал, что считает «Бремя страстей человеческих» самой значительной книгой Моэма. Кажется, я много говорил о романе «Луна и грош», но, насколько я помню, он думал, что «Бремя страстей человеческих» на голову выше всех остальных произведений Моэма. Несмотря на то, что я высоко ценил это произведение, я считал не менее достойными «Луну и грош», «Пряники и эль», «Подводя итоги» и некоторые короткие рассказы. Я считаю, что эти беседы связывали психоанализ и интерпретации, которые он делал, с паутиной жизни, так что психоанализ и жизнь взаимопроникали друг в друга. После анализа Клаубера я уже не мог без значительного усилия воли отделять мысленно психоанализ от других проявлений жизни. Эти беседы, представляющие собой парное взаимодействие, основанное на свободных ассоциациях, встроили психоаналитический инсайт в мою модель взаимоотношений с людьми и систему ценностей. Я убежден в том, что Клаубер глубоко верил в психоаналитический процесс, и эти беседы были рождены этой верой.
В последние годы своей жизни Клаубер довольно часто повторял на научных заседаниях, что аналитик должен формулировать свои интерпретации, не забывая, что наступит день, когда пациент покинет его консультационную комнату навсегда. К моему сожалению, я так и не спросил у него, как именно данный фактор влиял на структуру его интерпретаций, но я предполагаю следующее. Он считал, что целью психоанализа является содействие развитию собственной индивидуальности пациента, его творческого начала и отношения к жизни. Он также осознавал, что в процессе психоанализа пациент подвергается значительному влиянию и невозможно, чтобы пациент не усвоил некоторые установки аналитика. В частности, он считал это справедливым по отношению к пациентам, являющимся кандидатами в психоаналитики. В таких случаях анализанд продолжает деятельность своего наставника и берет на себя ту же роль по отношению к своим пациентам, которую аналитик брал по отношению к нему. Соответственно, он видел опасность в том, что пациент может отождествлять психоанализ с той конкретной формой, в которой он его проходил. Он считал, что, несмотря на то, что психоанализ не может проходить без участия аналитика, его необходимо отделять от специфической интонации, присущей тому или иному конкретному аналитику. Таким образом, пациенту по мере возможности необходимо помогать видеть разницу между процессом психоанализа, который может проводиться многими аналитиками с разнообразными установками, и индивидуальным стилем, присущим конкретному аналитику. Думаю, именно по этой причине он считал полезным для пациента иметь некоторое представление об аналитике как о человеке со своими предрассудками и установками. Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что его открытость оказала на меня благоприятное воздействие. Мне кажется, она в определенной степени помогла мне осознать такую разницу. Возможно, это не вытекает из того, что я написал выше, однако я расходился и до сих пор расхожусь с ним во многих установках, как относящихся к психоаналитической технике (например, неприятие им интерпретации типа «какай-то ваша часть»), так и в более общих установках. Другим важным результатом этих разговоров явилось то, что я смог увидеть области, которые, вероятно, он не мог анализировать хорошо. Мне известна одна область, которую он в действительности совершенно не анализировал, и, насколько я знаю его характер, маловероятно, чтобы он мог успешно делать это. Подобный вывод относится ко всем аналитикам, однако, на мой взгляд, его беседы означали, что он не скрывает этого, следовательно, в этом проявлялась его открытость правде. С точки зрения Клаубера, именно правда исцеляет. Во вступлении к книге «Трудности аналитического взаимодействия» он пишет: «Я думаю, что правда является громадным изменяющим фактором, посредством которого с помощью аналитика пациенты исцеляют себя» (Klauber, 1968, p. xiv).
Полагаю, что у каждого аналитика есть определенные области, которые, как он считает, особенно нуждаются в анализе. Клаубер полагал, что успешный анализ паранойи и параноидного мышления имеет первостепенную важность. Думаю, что он считал параноидные объединения наиболее вредными явлениями в социальной жизни. Он считал, вероятно, что паранойя всегда прячется за маской идеализации, поэтому выявлял тенденции к идеализации в любых проявлениях. Безусловно, он понимал, что в жизни необходима некоторая идеализация, что человеческие иллюзии и мечты являются мощными мотивационными факторами, однако, если он обнаруживал веру в идеализированный образ, он боролся с ним. В частности, он боролся с любым проявлением идеализации себя или психоанализа. Здесь мы вновь встречаемся с парадоксом: сам он очень глубоко верил в психоанализ. Но, как мне кажется, эти «беседы» и его самораскрытие значительно способствовали уменьшению паранойи. Если аналитик вступает с пациентом в сговор относительно представления о нем как о частичном объекте, он тем самым способствует сохранению параноидных фантазий и вступает с ними в сговор. Параноидные фантазии лежат в основе структуры частичных объектных отношений. Если аналитик воспринимается пациентом как частичный объект, параноидные фантазии остаются, и сговор в отношении их сохраняется. По этой причине Клаубер считал, что необходимо интерпретировать реально существующие, но отрицаемые представления об аналитике. В работе «Элементы психоаналитических взаимоотношений и их терапевтическое значение» он пишет:
Для уменьшения разрыва между образом аналитика, существующим в фантазии, и его образом, в деталях воспринимаемым на уровне Эго, необходимо целенаправленно содействовать интеграции этих двух образов путем интерпретации отрицаемых пациентом представлений о реальности, а иногда, на мой взгляд, путем признания аналитиком их верности (ibid, p. 59).
Клаубер считал, что необходимо позволять реальной личности аналитика проявляться во время лечения, особенно ближе к его концу. Он со всей очевидностью показывает это в статье «Особая форма переноса в невротической депрессии»; думаю, имеет смысл привести здесь данное высказывание полностью.
Освобождение агрессии в контексте любви приводит к сокращению расстояния между образами «Я» и объектными образами. Объектные образы перестают быть столь недостижимыми. Это позволяет пациенту чувствовать большую свободу в оценке характера аналитика. В частности, он ищет слабости в его характере и делает попытки тестирования ослабленных образов «Я» на фоне тестирования реальности или нереальности существования всемогущих объектных образов. Так, для обеспечения тестирования реальности и излечения находящегося в подавленном состоянии пациента, необходимо, чтобы этот процесс развивался беспрепятственно. Он должен почувствовать уверенность в том, что способен тестировать реальность, позволить себе убедиться, что у аналитика действительно есть слабые стороны в профессиональном и личном плане и ему удалось их заметить.
Только в том случае, если он видит, что аналитик готов искренне их признать, и в случае неизбежной конфронтации принять их, он может получить уверенность, достаточную для того, чтобы выдержать ослабленные части собственной личности.
В типичном случае пациент открыто проявляет агрессию и предъявляет аналитику огромное количество своих наиболее болезненных проблем. С моей точки зрения, было бы ошибкой интерпретировать эту конфронтацию в терминах переноса без предварительного признания того, что существует возможность реального существования этих проблем. Данный процесс может быть крайне болезненным. Я думаю, что большинство аналитиков имеют подобный опыт.
Пациент открыто обсуждает некоторые слабости аналитика, скрывая при этом другие. Важно, чтобы аналитик внимательно отслеживал скрытые оценки, содержащиеся в переносе пациента, которые могут показаться ему болезненными, и без колебаний их интерпретировал. Это также будет не просто болезненно, а даже отчасти невозможно, причем аналитик также должен избегать риска мазохистических признаний. Однако в той мере, в которой он способен признать скрытые оценки, мужественные интерпретации тайных мыслей пациента позволят пациенту уйти из анализа с достаточной уверенностью, что он способен добиваться поставленных целей, несмотря на свои недостатки (ibid., p. 106–107).
Из данного контекста становится ясно, что Клаубер не верил, что любой аналитик способен проанализировать все; он говорит, что второй анализ всегда открывает что-то, о чем пациент не мог сказать предыдущему аналитику.
Прежде чем оставить тему личного стиля Клаубера и его составляющих, приведу несколько примеров. Я родился и воспитывался в Опорто в Португалии, мой отец, мои дяди и большинство друзей нашей семьи занимались продажей портвейна. Я много говорил о портвейне, особенно на начальном этапе анализа. Однажды я сказал Клауберу, что у меня есть чувство, что он неравнодушен к портвейну. Он с энтузиазмом подтвердил, что это так. В другой раз я рассказал ему, что мой отец всегда любил пикники в португальском стиле, со столами, стульями и т. п., и он немедленно ответил, что настоящий пикник должен быть именно таким. Он также откровенно говорил о своих взглядах на определенные аспекты религиозных верований и т. д. Он много говорил о картине Лота, висевшей у него на стене. У меня есть впечатление, что это не только не ослабляло фантазий переноса, но и по существу позволяло ему интерпретировать еле уловимые различия в отношениях переноса, заметить которые иначе было бы невозможно.
Говоря об этом аспекте его техники, невозможно обойти стороной следующий вопрос. Каким образом аналитик решает, на какие высказывания пациента реагировать интерпретацией, а на какие иначе? На этот вопрос возможен только один ответ: решение полностью зависит от внутреннего суждения аналитика. Это единственное, на что может положиться аналитик. К правилам и принципам прибегают исключительно при отсутствии внутреннего суждения. Разве можно обучить человека искусству суждения? Жесткое Супер-Эго подавляет мышление. С другой стороны, эмоциональный фон, характерный для взаимоотношений в паре, способствует его рождению. По моему мнению, приверженность правилам или теориям является проявлением того, что Бион назвал бета-элементами. Способность рассуждать означает проявление альфа-функции. (Бета-элементы не изменяются под воздействием внутренней творческой силы, названной Бионом альфа-функцией.) На мой взгляд, часто и аналитик, и супервизоры усиливают Супер-Эго и подавляют суждение.
Я хотел бы упомянуть еще три аспекта стиля Клаубера, которые, по моему мнению, оказывали благотворное терапевтическое воздействие. Первым из них была абсолютная честность, и это проявлялось во всем, что он делал. Второй состоит в том, что он никогда не делал «глобальных» интерпретаций, пока не был до конца уверен в том, что он хочет сказать. Внушить ему что-либо было совершенно невозможно. Если у него еще не было абсолютно ясной картины происходящего, слова оказывались потраченными впустую. Третьим моментом было его убеждение в том, что правда представляет собой наивысшую ценность, а психоанализ или является слугой правды, или не является ничем. Психоанализ не содержит в себе правду, а является ее слугой.
* * *Все изложенное выше касается моего опыта общения с Клаубером, а также того, что определяет, по моему предположению, его метод анализа. Сейчас я хотел бы поместить то, о чем шла речь, в особенности его «беседы», в контекст его теории анализа как процесса оплакивания и детравматизации. На самом деле, Клаубер пишет о том, что процесс вхождения пациента в анализ является травмой. Лежа на кушетке, он отпускает образ аналитика из поля своего зрения, тем самым теряет контакт с лицом и жестами аналитика, возвращается к своим архаическим представлениями о реакциях внутренних объектов и вступает в контакт с аналитиком своих фантазий. Клаубер считает, что важнейшей частью психоаналитической техники должно быть поддержание пациента в наиболее полном выражении своих чувств и мыслей. Клаубер считает, что враждебность может невольно утаиваться пациентом и нередко проявляется в виде острого отвращения по отношению к анализу спустя некоторое время после его окончания. В том случае, когда пациент слишком захвачен фантазиями о своем аналитике, это помешает выражению его чувств и мыслей по отношению к аналитику. По мнению Клаубера, травматичность аналитической ситуации не может смягчаться только лишь в результате интерпретаций. Мне кажется, что тем самым Клаубер пытался настроить аналитиков не на какие-то сверхъестественные способы воздействия, а на наиболее естественное поведение. Проходя по коридору в Тэвистокской клинике и заглядывая в двери консультационных комнат, можно сразу узнать тех аналитиков, которые ожидают прихода пациента. Их поза и осанка явно говорят о напряжении. Это неизбежно приводит к тому, что напряжение передается и пациенту. Клаубер полагал, что последствия травмы пациента можно облегчить с помощью восприимчивости к его состоянию и через интерпретации. Пациент может начать процесс оплакивания потери иллюзий, связанных с образом аналитика, если ему удастся оценить реальные свойства личности аналитика и постепенно научиться отличать фантазии, спроецированные им на аналитика, от реального представления об аналитике. Если пациент имеет опыт того, что аналитик предоставляет ему психический контейнер для направленных на него проекций, то он оказывается в состоянии реинтегрировать их по-новому. Пациент становится способен взглянуть на аналитика как на более или менее обычного человека и справляться со своими фантазиями в будущем. Когда я размышляю о своем анализе у Клаубера и о разнице в состоянии до и после анализа, мне кажется, что наиболее существенным изменением для меня стало ощущение внутри некоего амортизатора, с помощью которого я могу справиться с большим количеством тревоги, чем раньше. На мой взгляд, метод Клаубера предоставляет пациенту возможность оплакать потерю иллюзий и фантазий, находясь в непосредственном контакте с реально существующим «достаточно хорошим» аналитиком. В этом смысле детравматизация и оплакивание являются частями одного и того же процесса. В действительности пациент, как правило, яростно сопротивляется процессу, с помощью которого аналитик пытается отучить пациента от существующих в течение долгого времени иллюзий и фантазий. В начале анализа пациент погружается глубже, чем когда-либо, в нарциссический мир, задача аналитика – вытащить пациента из этого мира посредством восприимчивости к его состоянию и посредством интерпретаций. В этом состоит сходство взглядов Клаубера и Фэйрберна, который в статье 1958 года написал, что одной из задач аналитика является нападение на нарциссический внутренний мир. В более поздние годы жизни Клаубер выражал сомнение в целесообразности использования кушетки. И в этом я вижу желание способствовать процессу детравматизации и побуждать пациента более активно оплакивать свои иллюзии. Он также не одобрял идею очень долгого анализа.
Мне бы хотелось выделить в сказанном три момента. Могло сложиться впечатление, что Клаубер был склонен смягчать болезненный аспект анализа. Это не соответствует действительности. Его главная цель состояла в том, чтобы говорить правду. Правда являлась его основным ориентиром, и сентиментальность никогда не мешала ему говорить о чрезвычайно тяжелых вещах. Думаю, что именно из-за необходимости поднимать крайне болезненные темы он и заботился об обеспечении аналитической атмосферы, в условиях которой пациент смог бы эмоционально принять услышанное. Во-вторых, сосредоточенность на переносе, а также чувствительность к состоянию пациента (проявлением которой были также его «беседы») давали пациенту возможность получить богатейший жизненный опыт, что в конечном итоге приводило к изменениям в процессе анализа. Расширение эмоционального опыта является главным терапевтическим фактором в психоанализе. Последний момент касается тех изменений, которые произошли со мной после окончания анализа. Их было не меньше, а, по всей вероятности, даже больше, чем изменений, случившихся со мной в процессе анализа, что является доказательством эффективности его метода, в котором аналитик ориентируется на день, когда пациент навсегда покидает его кабинет.
Для Клаубера важнее было установить эмоциональный контакт, чем давать интерпретации. Способность устанавливать эмоциональный контакт является производной только одной функции – творческой функции отдельной личности. Исходя из этого, Клаубер придавал большое значение спонтанности. В отличие от импульсивности спонтанность порождается Эго, освобожденным от диктата Супер-Эго. Разумеется, никакая комиссия, ответственная за обучение студентов психоанализу, никогда не согласилась бы с тем, что спонтанность является сопутствующим фактором анализа, поскольку само определение спонтанности не предполагает какого-либо контроля извне. Невозможно регламентировать спонтанность. Какой кошмар для комиссии, чье самоуважение так зависит от возможности устанавливать правила для других!
Он был категорически против того, чтобы навязывать свое мнение пациенту. Он знал, что не располагает универсальным рецептом, как жить лучше. Однажды я начал встречаться с пациентом, который до этого уже несколько раз проходил терапию. История этого пациента свидетельствовала о том, что, по всей вероятности, он не будет долго продолжать свое лечение. Я сказал о нем Клауберу: «Он не относится к своему лечению серьезно». Он ответил: «Возможно, он бросит терапию, затем возобновит ее и снова бросит». Я спросил его: «Вам не кажется, что это неправильное отношение?», – и он ответил: «Это его жизнь, а не ваша». Я никогда не забуду этого замечания.