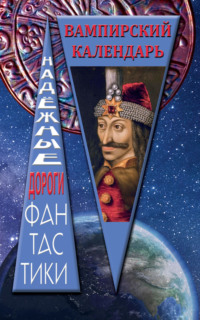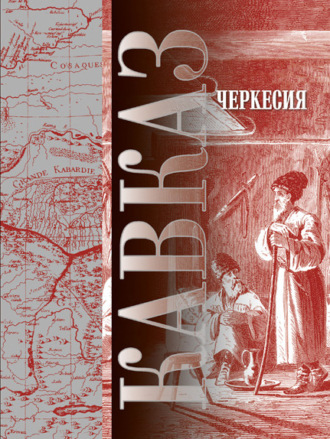
Полная версия
Кавказ. Выпуск XVII. Черкесия
натухайцы жили близ Апапы и Суджукской бухты, между морем и реками Адагум и Кубанью;
шапсуги были известны под именами больших и малых; последние, или приморские, граничили с натухайцами и тесно с ними соединялись, занимая места от Анапы до реки Шахе; первые обитали на западе от абадзехов до реки Адагум, а на юге – до реки Псезуапсе по обоим склонам Главного хребта;
убыхи жили на юго-западном склоне Главного хребта, между реками Псезуапсе и Саше; по берегу моря они составляли смешанные общества с шапсугами и абхазами, носившие разные наименования и, между прочим, имя вардану, напоминающее реку Кубань, которая у эллинских и римских писателей называлась Вардан[61];
абадзехи занимали центральное положение края и обитали по северным лесистым склонам Главного хребта, от истоков Белой до реки Шабша. Эти четыре общества, известные под именем закубанских горцев, или черкесов, были настоящими представителями своей народности. Они считали себя совершенно независимыми, несмотря на Адрианопольский трактат, по которому Турция уступила их России, и представляли миниатюрные республики, соединенные между собой вроде федерального союза. Поэтому их называли вольными черкесами, в противоположность другим обществам, более или менее подвластным русскому правительству, которые управлялись назначаемыми от него князьями, почему они и носили название княжеских, или мирных, черкесов. Впрочем, им предоставлялось также внутреннее самоуправление, а владетельные князья обязаны были только наблюдать за сохранением общественного спокойствия, что на самом деле мало исполнялось. Я не буду исчислять здесь всех обществ, принадлежащих к последней категории, нередко состоящих из небольшого числа аулов и представляющих один и тот же тип, но упомяну только о важнейших из них. Первое место между ними занимают бжедухи, жившие между шапсугами и абадзехами, по низовьям рек Пшекупс и Пшеш, и хотя подчинившиеся России за несколько лет до общего покорения Западного Кавказа, но не перестававшие принимать участия во враждебных замыслах [по отношению] к ней вместе со своими соседями. Не в дальнем расстоянии от бжедухов обитали жанеевцы, или жань, – отрасль, некогда сильная, которой остатки занимают ныне остров, образуемый двумя рукавами Кубани и называемый черноморскими казаками Кара-Кубанским островом. Часть жанеевцев слилась с натухайцами. Далее на восток и на юг от бжедухов закубанцы занимают места, более близкие к русским военным поселениям и потому более удобные для наблюдения. Сюда принадлежат: гатюкои, живущие частью на правом берегу реки Сагуаша, частью между Белой и Лабой, в низовьях сих рек; темиргоевцы, обитающие по низовьям Лабы; мохоши – на левом берегу Лабы, выше темиргоевцев; бесленеевцы и кабардинцы, занимающие ближайшие места к Кубани: первые по Большой Лабе на Тегенях, а последние, выселенные за разбои в 1822 году из настоящей Кабарды, по реке Уруп. По свидетельству же Люлье (Записки Кавказского отдела Русского географического общества. 1857), и бесленеевцы выселились из настоящей Кабарды не более ста лет тому назад, сохраняя и поныне нить родства с кабардинцами. Об этих последних, составляющих одну из самых важных отраслей черкесского народа, мы скажем в своем месте при описании народов Центрального Кавказа. Все так называемые княжеские, или мирные, черкесы представляют небольшие общества – от 3 до 7 тысяч душ и в совокупности составляют от 50 до 60 тысяч душ. Между тем население вольных черкесов до последнего выселения их составляло до 350 тысяч, а по другим известиям, доходило до 400 тысяч душ. Впрочем, эти цифры не представляют безусловной верности, но должны быть принимаемы только как приблизительные. В народе, совершенно замкнутом и к другим враждебном, у которого не сохраняется [память о] времени рождения и смерти, у которого даже почитается грехом считать людей, невозможно достигнуть верности в делах такого рода[62].
Все вышепоказанные обитатели Закубанского края говорят одним языком, изменяющимся только в наречиях, сходствуют между собой образом жизни, нравами и обычаями, наружным видом, нравственными и духовными свойствами, почему, несомненно, составляют один народ, который называет себя вообще по имени языка – адыге, и у нас известен под названием черкесов. Отличительные свойства этого народа – неограниченная любовь к свободе и привязанность к родным горам своим, дух воинственный, личная храбрость и необузданная страсть к хищничеству и разбоям. Упражняясь с малолетства в делах этого рода[63], черкесы приобретали, с одной стороны, ловкость и отвагу, а с другой – способность переносить всевозможные лишения. Напрягая все свои способности для изыскания средств к верной гибели противника, не останавливаясь ни перед чем, не щадя ничего, черкес в одно и то же время является и героем, и пошлым разбойником. Воровство всякого рода считается не преступлением, а достоинством; преступен, по понятию черкесов, только тот, кто попадается на деле. К этому следует присовокупить и вероломство черкесов: обмануть не только чужого, но и своего, а особенно русского, и даже вероломно убить его, – это верх достоинства и заслуга пред Аллахом.
Черкесы, говоря вообще, среднего роста, крепко сложены и отличаются правильными и мужественными чертами лица, сквозь которые нередко проглядывает свирепость. Между черкешенками встречаются настоящие красавицы, но это составляет принадлежность более высшего сословия, пользующегося удобствами жизни. В низших же слоях Черкесского общества женщины, по свидетельству лиц, имевших возможность видеть их тысячами при переселении в Турцию, не отличаются красотой, и в этом отношении уступают мужчинам. Сверх того, красота черкешенок непродолжительна и сохраняется преимущественно у девиц, по выходе же замуж самые красивые женщины от тяжелых трудов и беспрерывных забот весьма скоро изменяются и дурнеют. Что касается до молвы о красоте черкешенок вообще, то она возникла оттого, что турки получали для своих гаремов красивых женщин через прибрежных черкесов, которые занимались этой постыдной торговлей по удобству своего жительства; сами же они приобретали их во всем мусульманском населении края.
Замкнутость и отчуждение черкесского народа от чужеземцев и ненависть к гяурам, и особенно к русским, представляли неимоверные затруднения в ознакомлении с их домашней, социальной и политической жизнью. Всем, что нам по этому известно, мы обязаны лицам, которым по особенным случаям удалось ближе познакомиться с черкесами[64]. Добытые таким путем данные, между прочим, показывают, что народ черкесский стоит на низкой степени социального развития; вся жизнь его как домашняя, так и общественная проникнута элементом патриархального, родового быта. Старейший в семействе есть полный властелин над членами его. Родительская власть ничем не ограничена: отец ни перед кем не отвечает за жизнь своего ребенка. Впрочем, злоупотребления родительской власти у черкесов составляют редкость, исключая разве продажу дочерей и мальчиков-сыновей в Турцию, которая в наших глазах есть жестокость, но, по их понятию, показывает только родительское попечение о доставлении детям своим счастливой будущности. В этом случае они руководствовались тем, что проданные дочери попадали нередко в гаремы могущественных пашей и даже султанов, а сыновья достигали высших степеней оттоманской иерархии.
В народе, у которого личная храбрость и физическая сила составляют всё достоинство, женщина не может пользоваться своими правами и должна находиться в угнетении. Действительно, жена или жены черкеса, которых он покупает, – настоящие рабы его. Нет ничего обиднее для черкеса, как уподобить его женщине. Удалец (джигит), предпринимающий какое-либо отчаянное дело, говорит: «Если я не совершу его, то позволю себе надеть через плечо вместо ружья прялку». Сказать черкесу, что он достоин носить юбку, – значит, нанести ему такое оскорбление, какое может быть искуплено только кровью. Если свободный и зажиточный черкес не был на войне и не участвовал в набегах, то или наслаждался дома покоем, или чистил свое оружие, или играл на пшенаре (двухструнная балалайка), или, наконец, разъезжал по гостям. На жене или на женах его лежали все заботы и труды по домашнему хозяйству и воспитанию детей; они, сверх того, приготовляли не только для них и для себя, но и для мужа белье и даже большую часть одежды. По свидетельству очевидцев, черкешенки отличаются замечательным искусством в женских рукоделиях: что они ни делают, во всем видно практическое приспособление и даже хороший вкус. Зато искусство в этих работах, после красоты, считается важнейшим достоинством девушки и служит приманкой для женихов. Чем красивее[65] или искуснее в женских рукоделиях девушка, тем более должно заплатить за нее выкуп (калым) родителям. Этот калым (по свидетельству Лапинского) простирается на наши деньги от 100 до 2 тысяч рублей и уплачивается преимущественно скотом, оружием, разным товаром и весьма редко деньгами. Но удивительнее всего, что (по свидетельству Торнау) черкешенки могут разбирать Коран, умеют читать и писать по-турецки и ведут даже переписку на этом языке за своих отцов и мужей, которые пренебрегают учением. Черкесские девушки пользуются некоторой свободой: им дозволено показываться в мужском обществе с открытым лицом; они могут принимать у себя родных и посторонних в присутствии какой-либо старухи; участвовать при свадебных и других празднествах, даже танцевать там с молодыми людьми. Потеря невинности считается величайшим несчастьем для черкесской девушки, которое искупается только женитьбой или смертью соблазнителя. Вообще девушка ответствует за свое поведение родителям, жена – мужу, а вдова – никому, если только она не нарушает правил общественного приличия; она может выйти вторично замуж, когда пользуется красотой, знатным происхождением или богатством. Но выйдя замуж, всякая женщина становится рабой своего мужа; никто ее не видит, и она не может переступить порога своего дома, не надев длинного белого покрывала. За неверность своему мужу по шариату она наказывается смертью, равно как и соблазнитель ее. Но если муж не хочет неверную жену подвергнуть суду, то имеет право продать ее, как невольницу. Несмотря, однако ж, на всю строгость гаремной жизни и все меры, принимаемые ревнивыми мужьями, случаются иногда примеры нарушения супружеской верности, которые оканчиваются обыкновенно трагически для соблазнителя и для жертвы соблазна. Барон Торнау приводит несколько примеров подобных трагических происшествий.
Право собственности сохраняется между черкесами и редко когда нарушается, а потому существует у них и право наследства, которое обыкновенно переходит к ближайшим родственникам мужского пола. При разделе имущества между наследниками по равной части старший из них имеет преимущество перед другими, состоящее в том, что он сверх своей части получает еще одну ценную вещь. Для разбора споров и тяжб между собой черкесы редко обращаются к кади, зная вперед, что они истолкуют закон в пользу того, от кого могут получить более для себя выгоды, но гораздо охотнее прибегают они к суду избранных старшин (тамата), выбираемых из среды людей, пользующихся добрым именем, преимущественно же из стариков, к которым вообще питают большое доверие. За убийство зовут на суд только люди, не имеющие силы отомстить обидчику, или, в крайних случаях, когда кровомщение угрожает принять слишком большие размеры, причем весь народ заставляет кровомстителей кончить распрю духовным судом, назначающим размер кровавой пени по шариату ли, одинаково определяющему цену крови для всех сословий, или по адату, указывающему постепенность в этой цене, судя по сословиям, то есть жизнь князя оценивается дороже, чем дворянина, а жизнь дворянина – более против простолюдина. По большей же части за кровь платится кровью. Кровомщение, канла, переходит по наследству от отца к сыну и распространяется на всю родню убийцы и убитого. Самые дальние родственники убитого должны мстить за его кровь. Сила и значение рода зависят от числа мстителей, которых он может выставить.
Наравне с этой характеристической чертой нравов черкесов стоит не менее характерное свойство их, состоящее в гостеприимстве. Хотя оно существует у всех народов, ведущих патриархальную жизнь, но черкесам оно принадлежит по преимуществу. Гость, кто бы он ни был, считается лицом неприкосновенным и самым почетным: его принимают, не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, в особом, имеющемся у каждого небедного человека, отделении дома, называемом кунацкой (дружеской), и угощают всем, что есть лучшего у хозяина; в некоторых местностях сохранился даже древний обычай омовения ног гостя почетнейшей в доме женщиной. Пока гость в доме хозяина, жизнь его в совершенной безопасности: самый страшный его враг, сам кровомститель не смеет нарушить прав гостеприимства и нападать на гостя, пока он не оставит дома, где он принят.
Не можем оставить без внимания еще одну характеристическую черту черкесских обычаев. Князья и знатные дворяне не воспитывают своих сыновей в родительском доме, но отдают их с младенчества на воспитание посторонним, по избранию, лицам, далеко от них живущим и нередко принадлежащим другому обществу, или народу, как, например: абадзехи шапсугам, шапсуги убыхам и т. д. Цель этого обычая, как кажется, состоит в том, чтобы дети дома не изнежились и привыкли переносить физические труды и лишения. Воспитатель, аталык (слово татарское), имеет над своим питомцем родительскую власть, учит его с молодых лет ездить верхом, действовать шашкой, стрелять из пистолета и ружья. Когда же он достигнет юношеского возраста, то аталык отправляется с ним на разные поиски и обучает его, как должно искусно воровать, грабить и джигитовать, – в этом главнейшая состоит обязанность воспитателя. По достижении питомцем зрелого возраста и по изучении им, по понятию черкесов, военного дела аталык возвращает сына отцу, получает от него значительные подарки оружием, лошадьми и прочим и приобретает затем большое уважение от всего дома, особенно же от своего воспитанника, который обязан во всем и всегда ему помогать. Вообще этот способ воспитания служил большой связью между черкесами разных сословий и родов.
Женский пол высших званий отдается также на воспитание в чужие дома, где содержат девиц в строгом повиновении, заботятся о сохранении наружной их красоты и обучают рукоделиям, особенно вышиванию золотом и серебром. В этом заключается все воспитание, по окончании которого и по выходе в замужество девицы часть полученного калыма выделяется воспитаннице.
Черкесы – небольшие охотники до земледелия и производят хлеба столько, сколько потребно для своего продовольствия; гораздо охотнее они занимаются скотоводом и пчеловодством, пользуясь для того всеми удобствами. Из фабричных занятий черкесов заслуживает внимания только приготовление огнестрельного и белого оружия, которое составляет существенную потребность жизни и потому ценится выше всего. Прочие фабричные и мануфактурные изделия, за исключением малого числа приготовляемых дома, приобретались преимущественно посредством контрабандной торговли, которой способствовали малодоступные для наблюдения берега Черного моря. Кроме бумажных, шелковых и суконных товаров черкесы получали этим путем соль, в которой особенно нуждались, серу для приготовления пороха, имея у себя дома селитренную землю, а отчасти порох и оружие. Взамен этих товаров они отпускали свои произведения, преимущественно воск, мед, невыделанные кожи и скот. Отпускная торговля, так же как и привозная, имела большей частью меновой характер. Но самый дорогой из отпускных товаров, идущих в Турцию, составляли девушки и мальчики. Этот живой товар обогащал не только прямых хозяев его, но также и турецких комиссионеров, для приобретения его скитавшихся по берегам Черного моря и в самой Черкесии. Русские крейсеры строго преследовали суда, нагруженные этим товаром, но частью по легкости хода их, а частью по неприступности морского берега во многих местах им нередко удавалось скрываться от таких преследований. Теперь положен конец этому постыдному торгу.
Черкесское общество представляет четыре сословия: высшего дворянства, или князей (пши), дворян (уорк, уздень), свободных людей (твокол) и рабов (тльхо-кошао). Князья ведут свой род с глубокой древности и стараются сохранить чистоту своей крови, не смешиваясь даже с дворянами, так что сын, родившийся от князя и дворянки, не может почитаться настоящим князем. Между вольными черкесами древних княжеских фамилий сперва было немного, но число их увеличилось впоследствии пожалованием некоторых семейств в княжеское достоинство турецким правительством. Что касается до мирных, или княжеских, черкесов, то у них еще более княжеских фамилий, которые преимущественно переселились из Кабарды. Хотя князья вообще пользуются в Черкесии особенным почетом, но влияние их на общественные дела мало отличается от влияния дворян и зависит преимущественно от личных свойств и достоинств каждого. Дворяне, по большей своей численности и по большему влиянию на народ, представляли сильный аристократический элемент у черкесов. Но в последнее время от распространившегося мюридизма (воинственно-религиозной секты, игравшей великую роль в магометанском населении Кавказа), которого главный догмат составляет приведение в один уровень всех сословий народа и прямое подчинение его единоличной власти имама, а может быть, и от других жизненных условий аристократический элемент стал упадать, а народ, или свободные люди, начали возвышаться и преобладать. Вот как описывает Люлье эти события у шапсугов и натухайцев[66]: «В сих обществах было много княжеских и дворянских фамилий, но влияние их мало-помалу стало ослабевать, а в народе начали проявляться стремления к большей свободе; из этого возникли столкновения партий и безначалие. Для восстановления порядка были созваны народные собрания, но не общие, а отдельные – дворянские, или аристократические (как называет их автор), народные, или демократические; последние по своей численности одержали верх над первыми. Дворяне старались потом разными средствами удержать свое влияние, но, не успев в том, прибегли к оружию и при помощи дворян соседних бжедухов одержали было победу над народом, но это не остановило хода событий, а, напротив, ускорило его. Вся надежда дворян на успех была потеряна: права и преимущества их уничтожены, всенародно объявлено равенство и пеня за кровь определена одинаково для всех». В обществе же бжедухов дворяне даже были изгнаны из общих аулов и принуждены были жить со своими рабами, в отдельных аулах[67]. Вообще раздоры между сословиями не могли не отразиться на прочности союза, связывавшего черкесов, и послужили одной из причин его шаткости в последнее время.
Независимо от сословных преимуществ пользуются у черкесов большим уважением: старики, и особенно те из них, которые обладают даром слова, имеющего сильное влияние на весьма воспламенительный черкесский народ; люди благочестивые, посещавшие гроб Магомета и носившие почетное название хаджи; удалые храбрецы, гаджериты, известные у нас под именем абреков, которые обрекали себя на все опасности, сопряженные с заклятой местью русским[68]; наконец, народные барды, гекуокамы, сохранившие в памяти геройские подвиги своего народа или особенных личностей, отличавшихся необыкновенной храбростью, – все это излагалось в песнях, нередко рифмованных, которые гекуокамы пели на пиршествах и перед началом сражения для возбуждения храбрости; с усилением ислама гекуокамы стали постепенно исчезать.
Между черкесами, которые сами пользуются неограниченной личной свободой, существовало рабство в полном смысле этого слова. Всякий свободный черкес мог иметь столько рабов, сколько позволяли ему средства, и продавать их кому и как хотел. Дворянин же, а тем более князь не могли даже обойтись без рабов, потому что личный труд для них почитался постыдным[69]. Рабы приобретались или покупкой, или захватом в плен и употреблялись для всех тяжелых работ. Если они не знали какого-либо ремесла, полезного для владельца, то участь их была самая жалкая. В особенности подвергались всем возможным угнетениям русские пленные, если только не имелось в виду получить за них значительного выкупа. Дети, рожденные от рабов, оставались в том же состоянии, но с ними обращались человеколюбивее, так же как и со стариками, на основании вообще уважения, питаемого черкесами к сединам. Торговля рабами была самая выгодная для черкесов. Ею преимущественно занимались убыхи и производили ее или сами, или посредством турецких агентов, приезжавших нарочно для того из Константинополя и, конечно, получавших огромные барыши[70]. Число рабов в каждом из черкесских обществ было различное. По свидетельству Лапинского, между убыхами рабы составляли почти четвертую часть всего населения, между абадзехами – десятую, а между шапсугами – едва двадцатую.
Двор, помещавший несколько домиков, в которых жили не только владелец с семейством, но и родные его по прямой восходящей и нисходящей линии со всеми рабами, им принадлежащими, составлял у черкесов административную единицу (юнег-дом, или двор). Сто таких дворов, образующих несколько аулов, рассеянных на довольно значительном пространстве, представляли общину, или волость (юнег-ис), которая управлялась старшинами (тамата) при содействии мулл и кади. Несколько таких общин, расположенных обыкновенно по течению какой-либо реки, составляли род или область, в которую входило до двадцати и более общин. Из областей уже образовалось то, что носило название народа абадзехов, шапсугов и т. д. Так как ни одно важное дело не предпринималось у черкесов без предварительного совещания, то на советы посылалось обыкновенно от каждой общины по два и более выборных старшины (тамата). В делах же особенной важности, касающихся религии, ополчения против русских, обсуждения предложений турецкого правительства и т. п., составлялись общие федеральные советы из нарочно избранных для того старшин от каждого народа, известных своей опытностью в делах военных и административных и пользовавшихся особенным влиянием. На этих советах избирались военные начальники и определялось, сколько каждая община должна выставить вооруженных воинов, пеших и конных[71]. Такой, по-видимому, простой и приспособленный к духу и степени развития народа порядок нарушался и колебался в своем основании от необузданного своеволия черкесов, от внутренних их раздоров и беспрерывных кровомщений. Последний из трех наибов Шамиля, высланных им к черкесам для распространения между ними мюридизма, – Мегмет-Эмин, бывший при Шамиле секретарем и постигший вполне его политику, видя, что администрация и суд у них находятся в большом расстройстве, старался ввести порядок и поэтому начал учреждать мехкеме, или окружные судебные приказы, которые составляли не одни только судьи, но и лица, заведующие полицией и другими отраслями администрации. Распоряжения эти, однако ж, не нравились привыкшим к своеволию черкесам: шапсуги скоро их отвергли, а у абадзехов, где Мегмет-Эмин пользовался особым влиянием, мехкеме существовали кое-где до самого падения наиба.
Все вышесказанное применяется к черкесам вообще, но преимущественно принадлежит вольным черкесам, сохранившим в чистоте национальный тип. Они составляли, как выше сказано, четыре отрасли: абадзехи, шапсуги, натухайцы и убыхи. Но из них только абадзехи и шапсуги представляли основу и могущество черкесского народа по чистоте типа и по числу населения: первых считалось приблизительно от 140 до 150 тысяч душ, последних – от 120 до 130 тысяч душ. Натухайцы, ничем не отличаясь от шапсугов, составляли одну с ними массу, а потому численность ее должна увеличиться по крайней мере еще на 60 тысяч душ натухайцев. Что касается убыхов, то они представляли самое малочисленное общество между вольными черкесами, простиравшееся до 25 тысяч душ. Но тем не менее убыхи имели значительное влияние на общие дела союза, по большему социальному своему развитию и по богатству сравнительно с другими обществами. Этим они обязаны были близости к ним морского берега, дававшего им возможность иметь сношения с более их образованными народами и производить прибыльную торговлю, особенно живым товаром. По этим особенностям и по говору, который отличается от прочих наречий языка адиге, некоторые считают их за народ особого происхождения. Такого мнения держится, между прочим, Люлье, считая убыхов отдельным народом, имеющим особенный язык, который, по его же словам, составляет только принадлежность простого народа, и то жителей горных ущелий; дворяне же и обитатели морского берега все говорят адыгским языком, удобно понимая притом и соседственный абхазский говор. Гюльденштедт, Лапинский, Белл, Боденштедт и Торнау утверждают, что убыхи составляют с прочими черкесами один народ. Последний из них присовокупляет к тому, что, может быть, они составились из черкесов, абхазов и европейцев, выброшенных, как говорит предание, на Черкесский берег во время первого Крестового похода. Все это указывает на то, что убыхи – народ смешанный, в основе которого, однако же, остался адыгский элемент преобладающим. К этой основе удобно мог присовокупиться элемент ближайших убыхам соседей – джикетов, отрасли абхазов, с которыми они находились в самых тесных сношениях. Может быть, в состав смешанного народа вошел и европейский элемент – тем ли путем, как свидетельствует предание, или, вернее, посредством влияния оставшихся от прежнего поселения греков, имевших, как известно, свои колонии по восточному берегу Черного моря и преимущественно на территории, которую занимали убыхи и соседние с ними абхазы, как в своем месте будет разъяснено. Ближайшее знакомство с убыхами при переселении их в Турцию показало, что они свободно объясняются с прочими черкесами и легко усваивают их наречие[72], а потому они, очевидно, сохранили общий с ними тип и должны составлять один с ними народ.