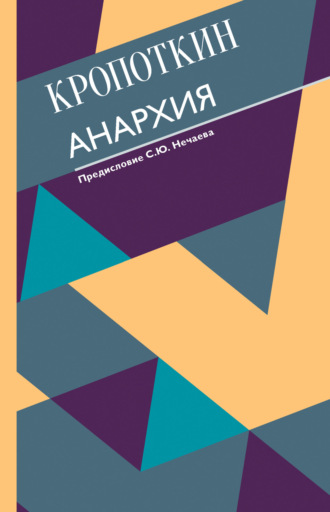
Полная версия
Анархия
Без сомнения, остается еще много неизвестного, темного и непонятного в мире; без сомнения, всегда будут открываться новые пробелы в нашем знании по мере того, как прежние пробелы будут заполняться. Но мы не видим области, в которой нам будет невозможно найти объяснения явлениям при помощи тех же простейших физических фактов, наблюдаемых нами вокруг, как, например, при столкновении двух шаров на биллиарде, или при падении камня, или при химических реакциях. Этих механических фактов нам пока достаточно для объяснения всей жизни природы. Нигде они нам не изменили, и мы не видим даже возможности открыть такую область, где механические факты будут недостаточны. И пока, до сих пор, ничто не позволяет нам даже подозревать существование такой области.
IV. Позитивная, т. е. положительная, философия Конта
Попытка Огюста Конта построить синтетическую философию. – Причины неполной его удачи: религиозное объяснение нравственности в человекеОчевидно, что как только наука начала достигать таких результатов, должна была быть сделана попытка построения синтетической философии, которая охватывала бы все эти результаты. Были естественны попытки построить философию, которая являлась бы систематической, объединенной, обоснованной сводкой всего нашего знания, причем эта философия не должна была больше останавливаться на плодах нашего воображения, которыми философы угощали когда-то наших отцов и дедов, вроде различных «сущностей», «мировых идей», «назначения жизни» и тому подобных символических выражений; не должна была она также прибегать и к антропоморфизму, т. е. придавать природе и физическим силам человеческие свойства и намерения. Поднимаясь постепенно от простого к сложному, эта философия должна была бы изложить основные начала жизни Вселенной и дать ключ к пониманию природы во всем ее целом. Этим она дала бы нам могучее орудие исследования, которое помогло бы открыть новые отношения между различными явлениями, т. е. новые законы природы, и внушило бы нам в то же время уверенность в справедливости наших заключений, как бы они ни противоречили установившимся ходячим воззрениям.
Много попыток подобного рода было действительно сделано в XIX в., и попытки Огюста Конта и Герберта Спенсера заслуживают особенно нашего внимания.
Необходимость синтетической философии была, правда, понята даже в XVIII в. энциклопедистами в их «Энциклопедии», Вольтером в его превосходном «Философском словаре», который до сих пор остается монументальным трудом, а также экономистом Тюрго[46] и позднее, в еще более ясной форме, Сен-Симоном. Но в первой половине XIX в. Огюст Конт предпринял тот же труд в строго научной форме, отвечающей последнему прогрессу естественных наук.
Известно, что, насколько дело касается математики и точных наук вообще, Конт выполнил свою задачу замечательным образом. Всеми также признается, что он был вполне прав, введя науку о жизни (биологию) и науку о человеческих обществах (социологию) в круг наук положительных. Наконец, известно, какое громадное влияние позитивная философия Конта имела на большинство мыслителей и ученых второй половины XIX в.
Но почему, спрашивают себя поклонники великого философа, почему Конт оказался так слаб, когда он принялся в своей «Позитивной политике» за изучение современных учреждений, и в особенности за изучение этики, т. е. науки о нравственных понятиях?
Каким образом такой широкий позитивный ум мог дойти до того, чтобы сделаться основателем религии и культа, как это сделал Конт в конце своей жизни?
Многие из его учеников стараются примирить эту религию и этот культ с его предыдущими работами и утверждают, против всякой очевидности, что философ следовал одному и тому же методу в обеих своих работах: «Позитивной философии» и «Позитивной политике». Но два столь выдающихся позитивистских философа, как Дж. С. Милль[47] и Литтре[48], сходятся на том, что они не признают «Позитивной политики» частью философии Конта. Они не видят в ней ничего другого, как продукт ослабевшего уже ума.
И, однако, противоречие, существующее между обоими произведениями Конта – «Философией» и «Политикой», – в высшей степени характерно и бросает яркий свет на самые важные вопросы нашего времени.
Когда Конт кончил свой «Курс позитивной философии», он должен был, конечно, заметить, что его философия не коснулась еще самого главного происхождения нравственного чувства в человеке и влияния этого чувства на человеческую жизнь и общество. Он должен был, конечно, показать, откуда явилось это чувство в человеке, и объяснить его влиянием тех же причин, которыми он объяснял жизнь вообще. Он должен был показать, почему человек чувствует потребность повиноваться этому чувству или по крайней мере считаться с ним.
В высшей степени замечательно, что Конт был на правильной дороге, – по той же дороге шел впоследствии Дарвин, когда этот великий английский натуралист пытался объяснить в своем труде «Происхождение человека» происхождение нравственного чувства. Действительно, Конт написал в «Позитивной политике» много замечательных страниц, показывающих общение и взаимопомощь у животных, и этическая важность этого явления не ускользнула от его внимания.
Но чтобы извлечь из этих фактов надлежащие позитивные заключения, знания по биологии в то время были еще недостаточны, и Конту не хватало смелости. Тогда он отвергнул Бога, божество позитивных религий, которому человек должен был поклоняться и молиться, чтобы быть нравственным, и на его место поставил Человечество с прописной буквой. Перед этим новым идолом он нам велит поклоняться и обращать к нему наши молитвы, чтобы развить в нас нравственное чувство.
Но раз этот шаг был сделан, раз было признано необходимым поклоняться чему-то, стоящему вне и выше личности, чтобы удержать зверя в человеке на пути добродетели, то все остальное вытекло само собою. Даже обрядность религии Конта сложилась вполне естественно по образцу старых религий, пришедших с Востока.
В самом деле, Конт был приведен к этому невольно, раз он не признал, что нравственное чувство в человеке, так же как общительность и даже само общество, были явлениями дочеловеческого происхождения; раз он не усмотрел в этом дальнейшего развития той же общительности, которая наблюдается у животных и которая укрепилась в человеке благодаря его наблюдению природы и жизни человеческих обществ.
Конт не понял, что нравственное чувство человека зависит от его природы в той же степени, как и его физический организм; что и то и другое являются наследством от весьма долгого процесса развития эволюции, которая длилась десятки тысяч лет. Конт прекрасно заметил чувства общительности и взаимной симпатии у животных, но, находясь под влиянием крупного зоолога Кювье[49], который в то время считался высшим авторитетом, он не признал того, на что Бюффон[50] и Ламарк[51] уже пролили свет, – именно изменяемость видов. Он не признал эволюции, переходящей от животного к человеку. Поэтому он не видел того, что понял Дарвин, – что нравственное чувство человека есть не что иное, как развитие инстинктов, привычек взаимопомощи, существовавших во всех животных обществах задолго до появления на земле первых человекоподобных существ.
В результате Конт не видел, как мы это видим теперь, что, каковы бы ни были безнравственные поступки отдельных личностей, нравственное начало необходимо будет жить в человечестве как инстинкт, – пока род человеческий не начнет склоняться к упадку; что поступки, противные происходящему отсюда нравственному чувству, должны неизбежно вызывать реакцию со стороны других людей, – точно так же, как механическое действие вызывает реакцию в физическом мире. И он не заметил, что в этой способности реагировать на противообщественные поступки отдельных лиц коренится естественная сила, которая неизбежно поддерживает нравственное чувство и привычки общительности в человеческих обществах, – точно так же, как она поддерживает их в животных обществах без всякого вмешательства извне; причем эта сила бесконечно более могуча, чем повеления какой бы то ни было религии или каких бы то ни было законодателей. Но раз Конт этого не признал, он должен был невольно изобрести новое божество – Человечество – и новый культ, новое поклонение, для того чтобы эта религия приводила человека на путь нравственной жизни.
Как Сен-Симон, как Фурье, он таким образом заплатил также дань своему христианскому воспитанию. Если не допустить борьбу между началом Зла и началом Добра, которые по силе равны друг другу, и если не допускать, что человек обращается к представителю начала Добра, чтобы укрепить себя в борьбе против представителя Зла, то без этого христианство не может существовать. И Конт, проникнутый этой христианской идеей, вернулся к ней, как только он встретился на своем пути с вопросом о нравственности и о средствах укрепления нравственного в наших чувствах и понятиях. Поклонение человечеству должно было служить ему орудием для избавления человека от губительного влияния Зла.
V. Пробуждение в 1856–1862 гг.
Расцвет точных наук в 1856–1862 гг. – Выработка механического миросозерцания, охватывающего также развитие человеческих понятий и учрежденийЕсли Огюсту Конту не удались его исследования человеческих учреждений и в особенности нравственных понятий, – то не следует забывать, что он написал свою «Философию» и «Политику» задолго до упомянутых уже нами 1856–1862 гг., которые так внезапно расширили горизонт науки и подняли уровень миросозерцания каждого образованного человека.
Появившиеся за эти пять-шесть лет работы в различных отраслях науки произвели такой полный переворот в наших взглядах на природу, на жизнь вообще и в частности на жизнь человеческих обществ, что подобную ей нельзя найти во всей истории наук за время свыше 20 столетий.
То, что энциклопедисты только предвидели или, скорее, предчувствовали, то, что лучшие умы XIX столетия выясняли с таким трудом до тех пор, выявилось теперь внезапно во всеоружии знания. И все это было разработано так полно и так всесторонне благодаря индуктивно-дедуктивному методу естественных наук, что всякий другой метод исследования сразу оказался несовершенным, ложным и бесполезным.
Остановимся, однако, на одно мгновение на результатах, достигнутых наукой за это время, чтобы быть в состоянии лучше оценить последующую попытку построения синтетической философии, сделанную Гербертом Спенсером.
В течение этих шести лет Гров, Клаузиус[52], Гельмгольц[53], Джоуль и целый ряд физиков и астрономов (включая сюда Кирхгофа[54], который благодаря своему открытию химического спектрального анализа дал нам возможность узнать химический состав звезд, то есть самых отдаленных от нас солнц) совершенно разбили те рамки, которые не позволяли ученым в течение более половины XIX в. пускаться в смелые и широкие обобщения в области физики. В течение нескольких лет они доказали и установили единство природы во всем неорганическом мире. С тех пор говорить о каких-то таинственных «жидкостях», теплородных, магнетических, электрических или других, к которым физики прибегали раньше для объяснения различных физических сил, стало совершенно невозможным.
Было доказано, что механические движения частиц, вроде тех движений, которые дают нам волны в морях или которые мы открываем в дрожании колокола или металлической пластинки, вполне достаточны для объяснения всех физических явлений: теплоты, света, звука, электричества, магнетизма.
Более того, мы научились измерять эти невидимые движения, эти дрожания частиц – взвешивать, так сказать, их энергию – таким же образом, как мы измеряем энергию падающего камня или двигающегося поезда. Физика, таким образом, стала отраслью механики.
Кроме того, в течение все тех же нескольких лет было доказано, что в самых отдаленных от нас небесных телах, включая бесчисленные солнца, которые мы видим в неизмеримом количестве в Млечном Пути, наблюдаются абсолютно те же простые химические тела или элементы, которые известны нам на нашей Земле, и что абсолютно те же дрожания частиц происходят там, с теми же физическими и химическими результатами, что и на нашей планете. Даже массовые движения небесных тел, звезд, несущихся в пространстве по закону всемирного тяготения, являются, по всему вероятию, не чем иным, как результатом всех этих колебаний, передающихся на биллионы и триллионы верст в междузвездном пространстве Вселенной.
Те же тепловые и электрические колебания достаточны для объяснения химических явлений. Химия есть лишь глава молекулярной механики. И даже жизнь растений и животных, во всех ее бесчисленных проявлениях, есть не что иное, как обмен частиц или, скорее, атомов во всем этом обширном ряду очень сложных и поэтому очень неустойчивых химических тел, из которых слагаются живые ткани всех живых существ. Жизнь есть не что иное, как ряд химических разложений и вновь возникающих соединений из очень сложных молекул – ряд «брожений», возникающих под влиянием ферментов (бродил) химических, неорганических.
Кроме того, в то же время было понято, а в течение 1890–1900 гг. признано и доказано, как жизнь клеточек нервной системы и способность их передавать каждое раздражение от одной к другой дают механическое объяснение передачи раздражения в растениях и в нервной жизни животных. В результате этих исследований мы можем теперь, не выходя из области чисто физических наблюдений, понять, как образы и вообще впечатления запечатлеваются в нашем мозгу, как они действуют одно на другое и как от них происходят понятия, идеи.
Мы также можем теперь понять «ассоциацию идей» – то есть каким образом каждое впечатление вызывает накопленные раньше впечатления. Мы схватываем, следовательно, самый механизм мышления.
Конечно, мы остаемся еще бесконечно далеко от открытия «всего» в этом направлении; мы сделали только первые шаги, и нам остается открывать бесконечно многое. Наука, едва освободившаяся от душившей ее метафизики, только приступает к исследованию этой громадной области – физической психологии. Но солидная база уже заложена для дальнейших исследований. Старое деление на две совершенно отдельные области, которые пытался установить немецкий философ Кант, – область явлений, которую мы исследуем, по его словам, «во времени и пространстве» (физическая область), и другая, которая может быть исследована только «во времени» (область явлений духа), это деление ныне отпадает. И на вопрос, который однажды был поставлен русским профессором-материалистом Сеченовым[55]: «Куда отнести и как изучать психологию?», ответ уже дан: «К физиологии, физиологическим методам». В самом деле, новейшие исследования физиологов уже пролили более света относительно механизма мышления, происхождения впечатлений, их закрепления в памяти и передачи, чем все изящные рассуждения, которые подносили нам до сих пор метафизики.
Таким образом, даже в этой крепости, которая принадлежала без всяких споров метафизике, она теперь побеждена. Область психологии захвачена естественными науками и материалистической философией, которые двигают наши знания относительно механизма мышления в этой области с невиданной дотоле быстротой.
Однако среди работ, которые появились в продолжение тех же пяти-шести лет, есть одна, затмившая собой все остальные. Это книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов».
Уже в прошлом столетии Бюффон и на рубеже двух столетий Ламарк решились утверждать, что различные виды растений и животных, которые мы встречаем на земле, не представляют собой неподвижных форм: они изменчивы и постоянно изменяются под влиянием среды. Разве самое семейное сходство, наблюдающееся между различными видами, принадлежащими к той или иной группе, не доказывает, говорили они, что эти виды происходят от общих предков? Так, различные виды лютиков, которые мы находим в наших лугах и в болотах, должны быть потомками одного вида общих предков, – потомками, которые видоизменились в зависимости от изменений и приспособлений, которым они подвергались в различных условиях существования. Точно так же теперешние породы волка, собаки, шакала, лисицы не существовали раньше, но вместо них существовала порода животных, которая в течение столетий постепенно дала происхождение волкам и собакам, шакалам и лисицам. Относительно лошади, осла, зебры и т. п. уже доподлинно известно, что у них существовал общий предок, скелет которого открыт в древних геологических пластах.
Но в XVIII в. рискованно было высказывать такие ереси. За гораздо меньшее, чем это, Бюффону даже угрожало преследование перед церковным трибуналом, и он был принужден напечатать в своей «Естественной истории» отречение от своих слов. Церковь в это время была еще очень сильна, и натуралисту, осмеливавшемуся поддерживать такие неприятные для епископов ереси, грозили тюрьма, пытка или сумасшедший дом. Вот почему «еретики» высказывались тогда очень осторожно.
Но теперь, после революций 1848 г., Дарвин и Уоллес осмелились утверждать ту же ересь, а Дарвин даже имел мужество прибавить, что человек также развивался путем медленной физиологической эволюции; что он произошел от породы обезьяноподобных животных; что «бессмертный дух» и «нравственная душа» человека развивались тем же путем, как ум и общественные привычки у обезьяны или муравья.
Известно, какие громы были обрушены тогда стариками на голову Дарвина и в особенности на голову его смелого ученого и интеллигентного апостола Гэксли[56] за то, что он резко подчеркивал те из заключений дарвинизма, которые более всего приводили в ужас духовенство всех религий.
Борьба была жестокая, но дарвинисты вышли из нее победителями. И с тех пор перед нашими глазами выросла совершенно новая наука биология – наука о жизни во всех ее проявлениях.
Работа Дарвина дала в то же время новый метод исследования для понимания явлений всякого рода: в жизни физической материи, в жизни организмов и в жизни обществ. Идея «непрерывного развития», то есть эволюции и постепенного приспособления особей и обществ к новым условиям, по мере того как изменяются эти условия, – эта мысль нашла себе гораздо более широкое приложение, чем одно объяснение происхождения новых видов. Когда она была введена в изучение природы вообще, а также людей, их способностей и их общественных учреждений, она открыла новые горизонты и дала возможность объяснять самые непонятные факты в области всех отраслей знания. Основываясь на этом начале, столь богатом последствиями, возможно было перестроить не только историю организмов, но также историю человеческих учреждений.
В руках Спенсера биология показала нам, как все виды растений и животных, обитающих на земном шаре, могли развиваться, происходя от нескольких простейших организмов, населявших землю вначале; и Геккель[57] мог начертить правдоподобный набросок родословного дерева различных видов животных, включая сюда человека. Это было уже огромно. Но стало также возможно заложить некоторые первые научные основания для истории нравов, обычаев, верований и человеческих учреждений, чего совершенно не хватало XVIII в. и Огюсту Конту. Эту историю мы можем писать теперь, не прибегая к метафизическим формулам Гегеля и не останавливаясь ни на «врожденных идеях», ни на «субстанциях» Канта, ни на вдохновении свыше. Вообще мы можем проследить ее, не имея нужды в формулах, которые убивали дух исследования и за которыми, как за облаками, скрывалось всегда все то же невежество, то же старое суеверие, та же слепая вера.
Благодаря, с одной стороны, трудам натуралистов и, с другой стороны, работе Генри Мэна[58] и его последователей, в том числе М. М. Ковалевского[59], которые приложили тот же индуктивный метод к изучению первобытных учреждений и вытекавших из них законов, история развития человеческих учреждений могла быть поставлена, в течение этих последних пятидесяти лет, на столь же твердое основание, как и история развития любого вида растений или животных.
Без сомнения, было бы несправедливо забывать о работе, проделанной уже в 30-х годах XIX столетия школой Огюстена Тьерри во Франции и школой Маурера[60] и «германистов» в Германии, продолжателями которых в России были Костомаров[61], Беляев[62] и многие другие. Метод эволюции прилагался, конечно, уже раньше, со времени энциклопедистов, к изучению нравов и учреждений, а также языков. Но получить правильные научные результаты стало возможным лишь после того, как научились смотреть на собранные исторические факты так же, как натуралист смотрит на постепенное развитие органов растения или нового вида.
Метафизические формулы помогали, конечно, в свое время делать некоторые приблизительные обобщения. Они будили сонную мысль, они волновали ее своими неопределенными намеками на единство и вечную жизнь природы. В эпоху реакции, подобную той, которая царила в первые десятилетия XIX в., когда индуктивные обобщения энциклопедистов и их английских и шотландских предшественников стали забываться, особенно в эпоху, когда требовалось нравственное мужество, чтобы осмелиться говорить перед лицом торжествующего мистицизма о единстве физической и «духовной» природы (а этого мужества не хватало философам), туманная метафизика немцев, без сомнения, поддерживала вкус к обобщениям.
Но обобщения того времени, установленные либо диалектическим методом, либо полусознательною индукциею, отличались поэтому отчаянною неопределенностью. Первые из них основывались, в сущности, на весьма наивных умозаключениях, подобно тому как некоторые греки древности доказывали, что планеты должны двигаться в пространстве по кругам, так как круг – самая совершенная кривая. Только наивность этих утверждений и отсутствие доказательств прикрывались неопределенными рассуждениями, туманными словами, а также неясным и до смешного тяжелым стилем. Что же касается до обобщений, вытекавших из полусознательной индукции, то они всегда основывались на крайне ограниченном количестве наблюдений – как, например, весьма широкие и мало обоснованные обобщения Вейсмана[63], которые недавно наделали столько шума. Так как индукция была в этом случае несознательная, то ценность ее догадочных заключений легко преувеличивалась и их выставляли как бесспорные законы, между тем как они, в сущности, были лишь предположениями, гипотезами, зачатками обобщений, которые нужно было еще подвергнуть элементарной проверке, сравнив полученные результаты с фактами, наблюденными в действительности.
Наконец, все эти обобщения были выражены в столь отвлеченной и столь туманной форме – как, например, «тезис, антитезис и синтезис» Гегеля, – что они давали полный произвол мыслителям, когда они желали вывести практические заключения. Таким образом, из них можно было выводить (и это делалось на самом деле) и революционный дух Бакунина вместе с Дрезденской революцией[64], и революционный якобинизм Маркса, и «разумность существующего» Гегеля, которая привела многих к «примирению с действительностью», то есть с самодержавием. Даже в наши дни достаточно вспомнить о многочисленных экономических ошибках, в которые на наших глазах впали недавно социалисты вследствие их пристрастной склонности к диалектическому методу и метафизике в экономической науке, к которым они прибегли, вместо того чтобы обратиться к изучению реальных фактов экономической жизни народов.
VI. Синтетическая философия Спенсера
Возможность новой синтетической философии. – Попытка Спенсера. – Почему она не вполне удалась. – Метод не выдержан. – Неверное понимание «борьбы за существование»С тех пор как антропологию – то есть физиологическое развитие человека и историю его религий и его учреждений – стали изучать таким же путем, как изучают и все другие естественные науки, стало наконец возможным понять главные существенные черты истории человечества. Так же стало возможно отделаться навсегда от метафизики, мешавшей изучению истории, как библейские предания мешали когда-то изучению геологии.
Казалось бы поэтому, что, когда Герберт Спенсер, в свою очередь, принялся за построение «Синтетической философии»[65] во второй половине XIX в., он мог бы сделать это, не впадая в ошибки, которые встречаешь в «Позитивной политике» Конта. И, однако, «Синтетическая философия» Спенсера, представляя собой шаг вперед (в этой философии нет места для религии и религиозных обрядов), содержит еще в своей социологической части столь же крупные ошибки, как и работа Конта.
Дело в том, что, дойдя до психологии обществ, Спенсер не сумел остаться верным своему строго научному методу при изучении этой отрасли знания и не решился признать всех выводов, к которым его приводил этот метод. Так, например, Спенсер признавал, что земля не должна быть частною собственностью. Землевладелец, пользуясь своим правом повышать по своему усмотрению арендную плату за землю, может мешать тем, кто работает на земле, извлекать из нее все то, что они могли бы извлечь посредством усиленной обработки; или даже он может оставить землю без всякой обработки, ожидая того времени, когда цена за десятину его земли поднимется достаточно высоко вследствие того только, что другие земледельцы будут трудиться вокруг на своей земле. Подобная система – Спенсер поспешил признать это – вредна для общества и полна опасностей. Но, признавая это зло относительно земли, он не решился сделать то же заключение относительно других накопленных богатств – ни даже относительно рудников и доков, не говоря уже о фабриках и заводах.














