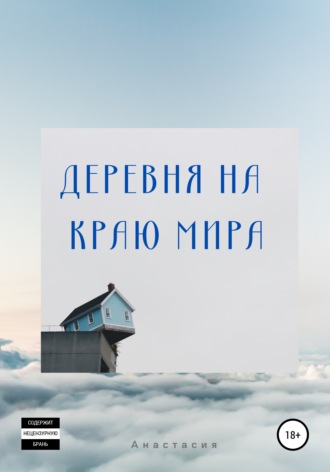
Полная версия
Деревня на Краю Мира

Анастасия
Деревня на Краю Мира
В этой деревне почитай никого не осталось. Только три человека и было: старая бабка, её глупая, недалёкая внучка и Санёк – местный пьяница.
В деревне раньше было много крестьян. При царе неплохо жили, потом появилась советская власть, “освободила” крестьян, забрав паспорта, а потом те остатки, которых не добили войны, революции и геноцид, окончательно канули в лету. Последние спились, те, кто хоть что-то мог, с трудом, но выбрались в города. Потом появились дачники. Это были те диссидентствующие дети крупных (и не очень, но льнувшие к первым) партийцев. Так как родители занимали большие посты, дети могли позволить себе быть “не такими, как все“. Они слушали бардовские песни, носили особого рода, особым образом неряшливые тряпки и пели прокуренными, нестройными голосами под одинаковые, независимые от нот, дурные аккорды расстроенных гитар. Они засыпали прямо в садах и старых непротопленных, неубранных, пыльных домах, занимались сексом в крапиве и ели падавшие на землю яблоки. Они нарочно делали всё не по правилам, потому что могли эти правила игнорировать – папа и мама всегда спасут. Но потом и эти вечные студенты ушли. Россию потрясла очередная революция, дети оказались у разбитого родительского корыта, их партийные отцы и матери отошли от власти, и кто как доживали последние годы.
В той деревне остались последние люди. Всего трое… Старуха Александра, которую звали “Иванна”, хотя её отчество было “Владленовна”, а фамилия – Егорова, ещё её была внучка – Валентина, девица с отставанием в развитии, – последнее напоминание от сбежавшей дочери с недеревенским именем Диана. Дочь убежала в город, там одно время работала проституткой, родила Валю, сбросила матери (и то не сама) и убежала в другой город – побольше, чтобы там замести следы и выйти замуж. Там она, говорили, от мужа завела двоих детей. Но у матери больше она не появлялась. И, наконец, был пьяница Санёк. Саня был наполовину чуваш (это по маме, – и этой половиной он, если не гордился, то любил её), а ещё одна половина его крови была мутного происхождения… Иногда он говорил, что отец его бурят или русский, украинец, белорус, татарин, а один раз Сашка даже заявил, что папка его – турок. Правда, это случилось после просмотра очередного популярного семейного шоу из разряда “говорим и показываем исключительно правду”. На самом деле, отец бросил сына с, как сейчас говорят, гражданской женой ещё до рождения ребёнка. Потом он появился в жизни маленького Сашеньки только, когда последнему исполнилось одиннадцать лет. Саня помнил папу смутно. Это был какой-то смурной мужик, который ворвался в их с матерью размеренную жизнь словно зловонный порыв. Уже взрослый Сашка-алкоголик помнил, как в кухне раздавался хриплый голос этого чужого для него мужика, и плачущий, словно чаячий голос матери. Она оправдывалась перед человеком, который бросил её. Мужчина рычал и настаивал. Полный разговор Саня не помнил, но главное было то, что его недоотец рассказал сказку, что пропадал все эти годы, прячась от врагов. А сейчас ему нужны деньги, чтобы всех спасти и победить… Деньги отец в итоге получил и исчез уже навсегда.
Впрочем, от груши не родятся яблоки, от пальмы картошка, а от клубники ананасы… В общем, Саня не сильно далеко ушёл от отца, он вроде бы и пытался (хотя не особо), но в итоге, говоря: “Жизнь такая”, эту самую свою жизнь Саня пропил. Да и человек из него вышел нехороший. Баб у него было немного, но ни одна из них от Сани ничего хорошего не видела: ни ласки, ни оргазма, зато доставались побои и унижения… Но шло время и, наконец, в деревне не осталось ни одной завалящей бабы, кроме двух совершенно негодных: бабульки Иванны и её шибко странной внучки.
Внучка Иванны – глупая Валенька страдала странным неопределяемым недугом. Тупой её звать язык не поднимался, она, временами, была умнее, чем от неё можно было ожидать, даже умела читать. Но и умом она не блистала. Могла часами сидеть, глядя в одну точку. Возможно, довези бабка её до столицы, её бы и продиагностировали, и недуг бы определили и, быть может, если бы очень повезло, даже назначили бы лечение. Но у бабки еле хватало денег, чтобы изредка возить внучку в местный, самый ближний городок, на который на один весь был один фельдшер, временами консультирующий и фермеров по вопросам их коров. Он выписывал Вале фенибут и глицин, на том и весь рецепт.
Владленовна-Иванна варила самогон. В её случае это была именно варка, и то, что клубилось в её кухне было самым непосредственно колдовским варевом, не хватало только чугунного котла на трёх ножках и чёрного кота. Клубы испарений струились словно туман, а грязные, запотелые окна, которые у Александры просто не было сил мыть, только добавляли мрачности антуражу. В деревне, естественно, был только один потребитель алкоголя – Санёк. Но и из других деревень порой наезжали дачные, охотники, рыбаки, которые искали какую-то местную чудо-рыбу, якобы занесённую ледником; бывало, что и заглядывали из местного полудеревенского города, но эти реже. Сама Александра ни капли в рот не брала, естественно к алкоголю не допускалась и Валька. Но несчастная дурочка и сама не подходила к “котлу” – она боялась, ей вообще не нравились никакие громкие звуки. А в заслышав грозу или ураган, больная выла и раскачивалась, вцепившись в волосы. Иногда, бывало, в её вое, временами переходившем в шёпот, слышались отрывки слов:
– Ух-ход-дит-те, осс-ставь-те, за, что м-мне эт-то, – выла как-то совсем не по-детски глупая девчонка.
А иногда, в самые жуткие моменты, глаза её закатывались и тогда уже совсем не человеческим, не ребячьим голосом, а тяжёлым и раскатистым рыком орала она:
– От-тпус-сти! Дай! Дай!
Иванна старательно закрывала на это и глаза, и уши, и самое сознание.
В том году Вальке исполнялось пятнадцать. Раньше, лет до пяти, она, Шура дарила маленькой Валечке плохоньких кукол из местного магазина, у них были волосы из лески и яркий макияж, который облупливался от первого прикосновения. Впрочем, конечности – плохого пластика руки и ноги с неразделяемыми пальцами, отлетали и того раньше… Но когда Валечке исполнилось пять, стало невозможно закрывать глаза на странности этого ребёнка. На взгляд смотрящий в никуда, на агрессию, совершенно необычайную для такого маленького ребёнка, на её реакции и на их неожиданное отсутствие, на странную молчаливость и наоборот, на странный говор… И тогда бабка повезла ребёнка. Сначала в местный город, что побольше. Денег было мало, но Александра собралась с силами, пообещала пол-литра Саньку после доставки, приодела безучастную внучку, повела её к машине, прилагая силы, потому что Валя вдруг не стала ходить, не то что упиралась, но и вовсе не делала никаких шагов, взяла заначку и, молясь неясно каким богам, немолодая коммунистка отправилась в путь.
Врач была злая. Она сказала противным голосом: “У вас отставание в развитии”, написала в справке “отстОвание” и бросила её Александре так, словно была больше больна та, а не внучка, злобно буравившая взглядом врачиху и прижимавшая к себе какую-то обгрызенную, обслюнявленную игрушку в виде синего, из колючей шерсти зайца.
Обойдя все инстанции, поговорив со всеми, с кем только можно, Александра сначала билась-билась, а потом заразилась злой апатией от своей маленькой внучки и забросила всё…
Потом стало хуже, и, вот, тогда Иванна как бы стала не замечать, не видеть, даже забывать, словно неведомая сила отвела ей глаза…
Итак, в том году Вале должно было исполниться пятнадцать. Она была мелкой и худой не по возрасту – ведь, Иванна – бабка её была небогата, чтобы потчевать её разносолами. Личико у неё было маленькое. С одной стороны, из-за отсутствия каких-то эмоций, лицо её было каким-то младенческим, не от мира сего. С другой стороны, на лице порой мелькала злость – злость хитрая и расчётливая. Казалось, что лицо её озеро, тихое-тихое озеро, на глубине которого кто-то злой живёт и иногда выныривает – показывает миру свою бесовскую сущность.
Иванна считала, что пятнадцать лет – это своего рода юбилей и точка перехода из состояния девочки в состояние девушки. Бабка понимала, что её внучке не быть женой и невестой, да и перед кем невеститься-то, если в деревне всего один мужик, да и тот сам себе даже не нужен.
Александра купила цветастое платье на рынке, когда ездила туда торговать. Несколько велико будет Валюшке, но всё равно, красота! Она одела свою глупышку со слезами на глазах, вытащила старые коралловые бусы, кажется ещё Иванниной бабки, заплела косы. Валя стояла и напряжённо глядела в отражение в зеркале. Но что-то явно понимала, не двигалась, молчала. Пока Иванна отвлеклась на кухне, дурочка тихо выплыла на двор. Казалось, она ступала по воздуху, ни одна из старых половиц не скрипнула под босыми стопами. Далеко Валя не ушла, она, как обычно, села на старую скамейку, прямо под окнами дома. От наблюдателей, если бы таковые были в заброшенной деревне с коротким, но жутковатым названием Сычи, её закрывали кусты дельфиниумов, мальвы и жуткие коричневые лапы-листья клещевины. Но во двор решил ввалиться не помнивший никаких дат Санёк. Он давно (целых два дня) не пил и трубы у него горели. Зайдя за калитку, которая, как и весь остальной забор спереди, держалась на одном честном слове, Сашка вдруг остановился. Он увидел женщину. Ну, как женщину? Конечно, Валя была мелковатой, костлявой и умственно отсталой. Ни один настоящий, здоровый мужчина на Валю бы не поглядел. Но Сашку сложно было назвать здоровым, да и человеком он был нехорошим.
Сашка пошёл к Вале, которая молча сидела, уставясь в одну точку, не то на дельфиниумы, не то куда-то мимо них. А в глазах Сашки зажёгся нехороший огонь. Он как-то весь закачался, не то где-то в бёдрах, не то с пятки на носок, но было ясно, куда уже ведёт его подсознание. Валя вдруг резко обернулась на него, втянула голову в плечи, насупилась, но это не было похоже на испуг. Наоборот, она напоминала изготовившуюся к нападению дикую кошку. Но Сашка ничего не понимал.
– Тише, Тиш-ш-ше, милая, – заверещал он, словно, разговаривал со скотиной. А рука его потянулась к брюкам, к ширинке.
Но тут произошло совершенно неожиданное. Набычившаяся Валентина вдруг завыла-зарычала и бросилась на Сашку. На страшный, звериный звук бросилась Иванна. Во дворе она увидела яростно бившую и царапавшуюся Валю, а затем и Сашку, который прикрывал причинное место – под штанами у него не было трусов.
– Я ничо, ничо я, – верещал Сашка и от этого было только хуже. Александре Владленовне и без этих слов всё было ясно, но оправдательное Санино блеяние только добавило уверенности в понимании произошедшего.
Сашка, которого, наконец, оставила Валентина, успокоенная пряником, приходил в себя. Ещё не до конца пропитое подсознание верещало от ужаса: “Чо ты сказал, зачем говорил, что ты ничо? А?! Теперь они на тебя всё точно знают!” От ужаса пережитого, Саня раскачивался из стороны в сторону. Так как он не знал, что спасать, он уцепился одной рукой в ширинку, а другой крепко держал голову.
– Санечка, милый, – появилась Иванна, губы её кривились в противоестественной, сведённой судорогой от усилия, улыбке, – Вот, тебе! – Она принесла стакан, наполненный до краёв, трясшийся и проливавшийся в её дрожащих руках.
Саня засомневался на долю момента, но стакан хлопнул. Рядом была большая бутылища, быть может, даже на два литра. Сашка таких бутылок прежде не видал и точно определить объём не мог. “Отравить хочет, точно!”, – возопил внутренний голос. Но Сашка решил, что хоть помрёт счастливым.
Тогда он квасил два или три дня подряд. Не умер и решил, что во всём виновата Валентина. А Иванна перед ним самогонкой кается. Александра же решила Санька споить так, чтобы у него последние остатки мужской силы ушли, чтобы больше он никогда на её Валечку не глядел. Да и вообще, чтобы сдох, выблядок!
Санька исправно получал самогон, правда, не наглел. Потому как Александра его один раз так обругала, что он побоялся требовать. Дают просто так – и то хорошо. А Александра, хоть и старая, но научилась водить Санину буханку.
В тот день, когда всё изменилось, Александра собрала свою Валю и поехала к врачу и на рынок, выручать копейку на лекарства, да и на жизнь вообще. Валя поначалу, как обычно, закапризничала, громкие звуки буханки ей не нравились, но зато, когда машина набирала ход и полчаса тряслась по дорогам и весям, Валя вдруг успокаивалась и, словно загипнотизированная дорогой, сидела тихо и смирно, увлечённо разглядывая мелькание бегущего дорожного полотна.
Врач тоскливо глядел на своих посетительниц. В его взгляде читались вымученный стыд за то, что кроме фенибута и глицина он ничего больше дать не может, вымученная обида за то, что пациентки эти регулярно ходят терзать его совесть своим состоянием, пьяная тоска со вчерашнего перепою и усталость вообще. Он подмахнул рецепт, и бабка собралась вниз, самый низ, в подвал больницы, где тучная, мрачная женщина, выполнявшая в больнице все функции от уборщицы до фармацевта, выдавала лекарства. Делала она это, надо сказать, неохотно, всячески унижая пациентов, изо всех своих пролетарских сил отбивая у них охоту к делу этому – получению бесплатных лекарств. Так как в свободное время “излишки” она продавала своей двоюродной сестре подешевле. Последняя же работала в одной из двух местных аптек. Иванну провизорша не любила. У Александры Владленовны характер был как у Вассы Железновой, если уж она приходила за лекарствами, то получала все. И наматывала любые, самые крепкие нервы на свой железный кулак. Людка, так звали вороватую мультифункциональную работницу больницы, лекарства отдала сразу и без писка. Она мысленно даже молилась, только чтобы Александра быстрее ушла. С неё сталось бы и проследить за тем, как Людка отпускает препараты и прочим больным. Александра, как на зло не торопилась, медленно пересчитала лекарства, проверила каждый блистер, сверилась с записями врача и ещё медленнее уложила лекарства в кошелёчек во внутреннем кармане старой, но добротной сумки. Только тогда она, ведя под руку свою внучку, ушла. А Люда решила поставить свечу за своё здравие, на всякий случай.
Следующим этапом был поход на рынок. Рынка Валя не любила – громко. Но, дай ей мороженое или ещё какую сладость, и Валя будет тихо сидеть, посасывать угощение и вести себя хорошо. Александра разложила на перевёрнутой дном вверх коробке картошку, редис, кабачки, зелень и поделки – эти, бывало, брали туристы-дачники. Иногда жалостливо раскошеливались и уходили с чувством собственной величины. Помогли, уважили, очистили душу.
– Здрасьте, тёть Шур, – подошёл один из милиционеров-полицейских и поприветствовал старуху. Они жалели её и её внучку, порой защищали, иногда закупали алкоголь. А ещё все гаишники города негласно пропускали буханку со старушкой и Валей, пусть и знали, что буханка Санькина.
– Здравствуй, здравствуй, – сощурилась Александра, которая видела всё хуже и хуже, – Красивый сегодня такой.
– Да у меня, тёть Шур, день рождения сегодня, – неловко заложив руку за фуражку, словно бы оправдывался парень.
– Держи, – Иванна ловко запустила руку в тряпичную сумку-мешок и достала оттуда бутылку с мутноватой жидкостью, – Денег не надо. Подарок.
В этой старухе, древней и усталой от жизни, сохранилась гордость. И молодой полицейский, сунувший было руку в карман за деньгами, молча и даже с каким-то неловким, кособоким поклоном взял бутылку и, пятясь и оглядываясь, отошёл к своим.
Но добрые дела не остаются “безнаказанными”, молодые и не очень полицейские поговорили и, разбредаясь, кто куда, направили целый поток покупателей к тёть Шуре Иванне, туристов они ориентировали за народным ремеслом, хозяйкам посоветовали брать зелень у бабки, мол их собственные милицейско-полицеские жёны только у той старушки зелень и берут, местами устраивали проверки у лавок. Словом, Александра распродала всё, включая остатки самогона меньше, чем за час. Кое-кто завистливо на неё поглядывал, но вид Вали, сосредоточенно посасывавшей палочку от мороженного, охлаждал даже самые жестокие, распалённые жаром зависти и злости сердца.
На выходе с рынка стояла и то сюда, то туда совалась мелкая старушонка, на вид помоложе и пободрее, чем Александра. Она вроде ничего не брала, но всюду шныряла, принюхивалась, трогала что-то своими старушечьими пальцами, вылезала всюду, словно паучок, и тут же отскакивала в другое место, как юла, крутясь то тут, то там. Полицейские приглядывались к ней, но потом поняли – бабка безобидная, настоящая, видно, бедная, ждёт остатков. Когда же на центральном выходе показались Александра и Валентина, бабка та словно вся напряглась, глаза сощурились, а рука, удерживавшая мешок, сжалась на его истрёпанной ручке.
– Здравствуй, – старуха оказалась в поле зрения Шуры неожиданно, – Болеет внучка твоя?
Шура от неожиданности кивнула и позволила взять себя под локоть. И буквально через пару секунд осознала неправильность ситуации, стукнула локтем попутчицу вбок и отошла-отбежала, насколько позволяли ещё её ноги. В молодости она неплохо бегала и даже занимала какие-то места в “трудовых” соревнованиях, те дни, конечно, давно канули в лету, но оставили после себя небольшую добрую память – ноги более сильные и здоровые, чем у других стариков.
– Ты что за шалава?! – воскликнула Шура не особо вдаваясь ни в вежливость, ни, тем более, в смысл слов. Она была в том яростном состоянии, когда единственное, что имеет смысл, – уничтожение противника.
– Я могу помочь, – бабка-оппонентка не согнулась, не испугалась, а насмешливо улыбалась фаянсовыми зубами.
– Ха! – только и ответила Шура, прижимая к себе внучку.
Пока Валя стояла за спиной своей могучей бабки и продолжала возиться с мороженным, всё было относительно тихо. Но в тот момент, когда Иванна отпихнула от себя странную, приставучую бабульку, взгляд бедной девочки попал на последнюю. Она закричала, забилась в конвульсиях, похожих на эпилептический припадок и швырнула любимое мороженое в незнакомку. Цель оправдала средства, и полурастаявшая начинка некрасивой сладкой лужей потекла по лицу и волосам вражины.
– Уууу-йди, – завыла по-бабьи, по-матерински вдруг Александра. В ней проснулось что-то древнее, неуловимое, то, что заставляет лисиц рыть обманные норы в земле, а медведиц нападать на каждого кроме медвежонка в её поле зрения.
Но неизвестная старуха не испугалась. Более того, рынок, на котором ещё оставались припозднившиеся продавцы, надеющиеся на выручку от сонливых дачников и давно выехавших туристов, всё ещё гудел. Одна женщина вынесла совсем маленьких утят и цыплят. И тех и других вместе было всего штук пять. Их, бывало, изредка брали, любившие всякую “милоту” городские. Но обычно брали свои, конечно, на хозяйство брали, менялись порой. Другая баба с намерением выручить с дачников за красоту продавала белых котят. Котята были непоседливые, всё шуршали и пищали в своей коробке. Они недолго сидели в ней, высовывались наружу, вытаскивали розовые носы и смотрели своими нечеловечески-синими глазами на окружающий мир. Толстая баба, которая их продавала, периодически шугала-заталкивала их полной рукой обратно в коробку. Котята мяукали своими маленькими, пронзительными голосами, а их меланхоличная продавщица возвращалась к семечкам. Рядом сидел мужик, он продавал всякие железки кучками и тоскливо глядел на народ. Взгляд его требовал опохмела, но ни его товар, ни взгляд навару не приносили. Рядом сидел ещё один мужик, толстый и хитроватый на вид. У него на коробке лежали жемчужные луковицы с длинными ярко-зелёными перьями лука. Лук он периодически побрызгивал из особой бутылки с дырками. Напротив всё ещё торговали армяне. Им принадлежала большая лавка с фруктами и овощами, а ещё у них был магазин, где они продавали всякие готовые блюда. У них так получалось, что в продаже был и хумус, и лобио, и хинкали. Армяне не торговали в одиночку, собралось их трое, мужик-армянин, его брат и сын. Они смотрели на всех окружающих своими огромными оленьими глазами и с полным южного нектара акцентом взывали к покупателям, предлагая арбузы, и даже уже “несезонные” абрикосы и персики.
Рынок жил своей жизнью. И рынок совершенно не обратил внимания на двух воинствующих старух и больную девочку. Даже те, кто заходил в полуразрушенные, скрипящие ворота рынка, по неясной причине не видели драмы. С полусонными, полусосредоточенными на покупке глазами, они, продолжая не глядеть и не видеть, огибали странную троицу. Куда-то отвлеклись и знакомые милиционеры-полицейские. Все они как-то заскучали, ускользнули на перекур или смотрели всюду, кроме места происшествия.
– Па-ма-и-и – закричала было Иванна, надеясь вызвать бравых молодцев. Но голос её потонул словно в тумане, слова не слушались, да и закончить не получилось. И хотя крик вышел довольно громким, ни один из людей не повернулся. К Шуре, к Иванне вдруг пришло мрачное и яркое в своей откровенности осознание – инсульт. Это слово промелькнуло своим значением, словно яркая неоновая вывеска в темноте ночного города. Оно отпечаталось в сознании Шуры, заставляя все её конечности испугаться не меньше сходящего с ума от страха разума. И только одна её верная рука – левая, продолжала сжимать руку её уставшей от припадка внучки.
– Это не инсульт, – улыбнулись совсем рядом фаянсовые зубы.
– Ч-ч-что ж-же? – простучал вопрос по зубам Иванны.
– Пойдём со мной, – ласково и убаюкивающе звучал голос неизвестной. И хотя он был скрипуч, хитроват и не слишком приятен, он всё равно был заряжен какой-то колыбельной силой. Так что и бабка, и крепко упиравшаяся, трясшаяся, словно её бил мощный озноб, внучка последовали за старушкой.
В таких провинциальных городах всегда бывает как-то сумрачно и смутно, одновременно с тем солнечно и радостно. А всё зависит всего лишь от того, какие избы перед вами. Бывает, на центральную дорогу глядят красивые срубы, с жёлтыми, голубыми, розовыми, салатовыми яркими стенами и красивыми белыми резными рамами. Где-то в саду приютился лебедь, сделанный из старой автомобильной резины, цветут флоксы, золотые шары. Дом, словно старинная красавица, обряжается и в бусы, и в мониста, и в браслеты, и в серьги, и в лучший, с вышивкой сарафан. Бывают, однако, и другие дома, коричневые, чёрные и серые. Чувствуется, что давно никто за домом не следил, не белил, не красил, не топил. Дом нависает своей громадой, словно скала, грозящаяся упасть на одинокого путника в момент шторма. У таких домов рядом обычно засыпанные мелким камнем дорожки, по которым ни в коем случае не пройдёшь в открытой обуви. Хоть маленький камень, но вредно, даже как-то зловредно заскочит в обувку и оставит после себя хоть пару, да царапин.
Валя и Иванна шли по яркой улице, на которой уже собрались местные. На них, если и смотрели, то косо, не замечая или пропуская сквозь взгляд. Их суетливая, мелкая проводница продолжала идти, виляя своими мослами, словно лисица хвостом. Быть может, и был у неё этот хвост, невидимый простым смертным, но обладавший собственной силой, потому что следы за нею затирались, а вокруг ступней вилась мелкая дымка, как от метлы. Но кто знает? Это мог быть и ветер-позёмка, решивший погулять по красивой улице.
Возле заборов стояли толстые, большие бабы. Их цветастые платья как будто подчёркивали дородность и особую леность, с которой они поглядывали друг на друга. Мимо них прошла молодая парочка, оба, в каком-то роде противопоставлялись этой полноте и дородности зрелых, оба были худые и везли худую, позвякивавшую коляску с младенцем по улице. Каждая хозяйка проводила их особым собственным взглядом с уникальным прищуром. В голове у них что-то срабатывало: звеньк-звоньк, тик-так, наконец, зрительный образ превращался в слова. Выходила фраза, а из неё новая сплетня. Мужики не отставали, единственное, что могло их отвратить от примера жён и сожительниц, – живительная белая влага. Они любили собираться подле местного сельпо, играя на остатках столов бывшего кафе, не то в нарды, не то в карты, не то ещё в какую непонятную игру. В основном ходы определялись стопками или стаканами. Продавщицы сельпо, у которых среди пьяниц были и свои мужики, выходили из душного магазина, смотрели злобно на “своих”, временами орали, временами взмахами красивых жемчужно-полных рук показывали своё бессилие перед пьянством, а потом снова уходили на работу.
Но никто из них не замечал, не останавливал быстрого, юлящего хода мелкой старухи и её пленниц.
За красивой улицей был поворот, едва они прошли нарядный бок голубой избы, как показалась другая. Она была чёрно-бурая, стояла криво, но была вполне опрятна. Белые ставни и рамы смотрелись на ней, как белая глазурь-узор на тёмном прянике. Изба была длинной, и на пешехода обращалось сразу шесть мутных, тёмных окон. Стоило отвести от них взгляд, как стоящего напротив окон тут же одолевали жуткие, дикие мысли, что за ним кто-то следит, кто-то смотрит. Повернёшь голову – никого, только твоё собственное напуганное отражение пялится на тебя своими округлыми от страха и тревоги глазами. Но стоит снова повернуть голову куда-то в сторону, снова скачет в окнах белёсая тень. Отвернёшься же совсем, тогда не того мира, в котором ты есть, взгляд вперится в тебя, станет жутко. Даже бывалые мужики, даже не пившие и капли, едва ли не с криками бросались прочь от этого дома. На небольших лужайках-клумбах (как никак это место застряло где-то между селом, городом и посёлком городского типа) здесь развернула свои тёмные листья крапива. И никто не пытался через эту лужайку пролезть ближе к дому. За косым, но крепко и верно державшимся за свой собственный уникальный угол наклона, заборчиком росли какие-то неясные растения. Не то дельфиниумы, не то наперстянка. Всё это было так аккуратно рассажено, но вместе с тем так похоронено в густой тьме сада, что даже опытный ботаник не смог бы с ходу определить, что за растения таятся там в этой тёмной тайне. А близко могли подойти только те, кому было позволено…


