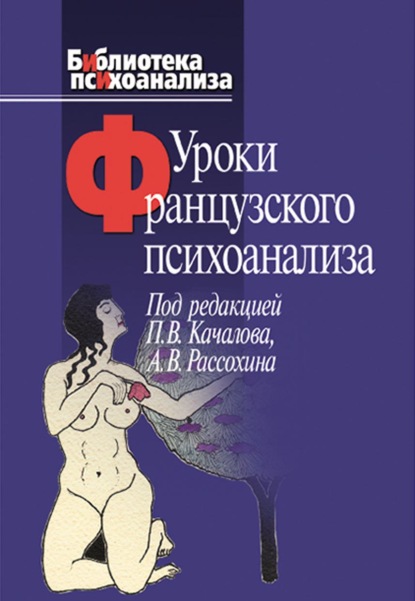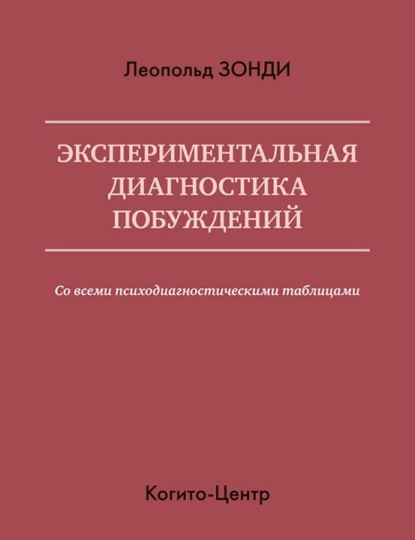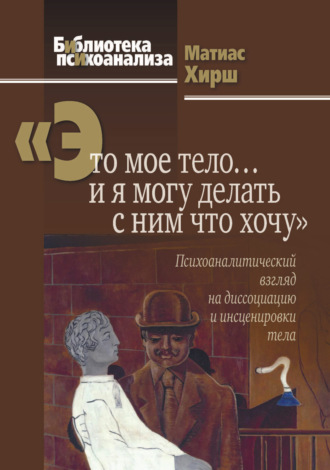
Полная версия
«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу». Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела
Одна пациентка рассказывает, что ее первый ребенок, дочь, родилась у нее во время учебы. Она была в эйфории по этому поводу. После родов у нее практически не было сексуального контакта с супругом. Когда два года спустя гинеколог сообщил ей, что она беременна, она первым делом подумала: «От кого?». Затем родился сын. В то время когда она кормила его грудью, она могла бы убить своего мужа, если бы тот захотел приблизиться к ней. У нее было ощущение, что ее тело принадлежит ее ребенку! Замечательное чувство, когда молоко подступает к груди, молочные протоки заметно расширяются, и молоко течет словно само по себе! Все так и осталось, она продолжала отвергать мужа. Еще одна пациентка проходила комбинированную одиночную и групповую психотерапию, забеременела во время терапии и после рождения принесла свою дочь в группу. Она всегда находилась в хорошем контакте с младенцем, брала девочку на руки, когда та беспокоилась, и, конечно, кормила ее. После рождения ее второго ребенка, Джонатана, она вернулась к краткосрочной терапии, потому что не всегда могла держать свою агрессию против дочери под контролем. Она также приносила своего мальчика на каждую сессию, когда тому было около десяти месяцев. Это был очень милый, дружелюбный ребенок, но иногда ему не нравилось, что, когда мама говорит о себе, она недостаточно заботится о нем. Тогда тоже считалось само собой разумеющимся кормить ребенка на сессии. В эти моменты Джонатан торжествующе смотрел на меня, терапевта его матери, с соском во рту, а левой рукой он держался за полную грудь. Он пьет, мать говорит, это ему снова не нравится, он кусает грудь, чтобы снова привлечь внимание. Он управляет телом матери как своей собственностью. «Тут мужчине уже нет места», – говорю я в связи со своими контрпереносными чувствами, будто меня отвергли. При этом пациентка не возражает, чтобы ее муж подходил и гладил ее, чтобы она получала поглаживания. «Да, вы не возражаете, когда он вам что-то дает, ведь вы так много должны отдавать маленькому мужчине, но ваш супруг ничего не получает», – говорю я.
Связь и сексуальность объединяются в образе и реальности груди. Так же как в значении материнских волос, сексуальное сливается с первоначальным драйвом к образованию связи. «У меня теперь есть грудь» указывает на новую идентичность девочка-подросток, «Я хочу женскую грудь» – сексуально-тоскливый взгляд мужчины на женскую грудь, конечно, содержит в себе ностальгию о потерянном рае единства матери и младенца. Мужской взгляд на грудь может восприниматься как посягающий и угрожающий. То, как подростки переживают физические изменения, во многом зависит от того, что это означает для важных опекунов (семьи), и того, как они реагируют на эти изменения. Мать может выразить стыдливо-пренебрежительную ревность из собственной зависти (к молодости), отец – из подавленного страха инцеста. С другой стороны, полные желания взгляды также могут означать оценку зарождающейся женской идентичности.
18-летняя девушка сообщает, что ее первоначальное негативное отношение к груди изменились с ее интересом к мальчикам: «Я не заметила, как выросла моя грудь <…>, в какой-то момент я стояла перед зеркалом и подумала: „Боже, она уже такая большая“. Я была просто в шоке. Как-то я стояла там и не могла в это поверить. Сначала меня это раздражало. Мне почему-то не нравилось, что она там под майкой и ее видно <…>, но постепенно я начала думать, что это красиво. Ну, когда я начала водиться с мальчиками, я стала думать, что это красиво <…>, а раньше мне это не нравилось» (Flaake, 2001, S. 112).
Одна беременная пациентка незадолго до рождения ребенка сообщает, что ее родители хотели бы, чтобы она была мальчиком (она отказывается узнавать пол ребенка до рождения). Долгое время она пыталась подчиниться им, но в конце концов поняла, что стала успешной как девочка. С другой стороны, она определенно не хотела, чтобы ее любили за грудь или другие формы, она носит глубокое декольте, когда это имеет смысл, но не хотела бы, чтобы все к этому сводилось: «тело и разум» должны цениться наравне.
Однако взгляд на женскую грудь не лишен проблематики, своего рода дилеммы. Мужчина (или женщина, почему бы и нет, как потенциальный соперник?) должен видеть ее и в то же время не видеть. Закон разрешает нам ездить с непокрытой грудью в Нью-Йоркском метро, но тот, кто хоть на секунду задержит на ней взгляд, может угодить в тюрьму. Когда женщины действительно начали публично демонстрировать свою грудь без ограничений? (Хотя молочные железы повсеместно называют грудью, это неправильно, ведь грудь[15], подобно морскому заливу, – это углубление между молочными железами. И то и другое вместе называют «бюст»). Из-за того, что начиная, по крайней мере, с эпохи Возрождения (это можно считать по многочисленным портретам женщин и Богоматери), демонстрация декольте стала социально приемлемой, и с тех пор у окружающих появилась возможность рассматривать грудь. При этом сами молочные железы оголились, только когда закончился процесс социальной пропаганды законного брака. Иначе говоря, рассматривание ложбинки между грудями скорее разрешено, чем рассматривание самих молочных желез. Если эта ложбинка женственна, как любое углубление, то ее комбинация с возвышением, мужским элементом, превращает грудь в фетишистский объект, мужской и женский одновременно, как и обувь-фетиш, которая сочетает в себе фаллическую форму и женское углубление. Так можно объяснить магнетизм женской груди для полных желания мужских взглядов. Грудь только угадывается в зависимости от формы лифа, но декольте должно обязательно привлекать внимание и, конечно же, побуждать к сексуальному акту как конечной цели. Однако смотреть на нее прямо запрещает порядочность и такт, и это все еще так. Симона де Бовуар знала о двойной игре женщин и дилемме для мужчин.
В своей гордости за то, что она вызывает интерес и восхищение мужчин, она возмущена тем, что ее, в свою очередь, захватывают в плен. <…> Взгляды мужчин льстят ей и причиняют ей боль одновременно. Глаза всегда проникают слишком глубоко (de Beauvoir, 1989, S. 334, цит. по: Flaake, 2001, S. 248).
Проблема становится еще острее сегодня, когда появляются футболки с текстом: текст следует прочитать, и он привлекает дополнительное внимание к женской груди.
Наблюдатель не воспринимается как читатель мелкой надписи, он – тот, кто пялится на грудь. Оправдываться бесполезно. Слова не помогут. Остается только молча отвести глаза. Проблема: снова и снова глаз задерживается на надписи, совпадающей со всхолмиями груди, пока все вокруг не заметят это, в том числе окружающие. <…> В этом проблема: текст на футболке располагается точно по груди, лучше я этого не могу выразить. Любой, кто начинает читать, попал в ловушку. Его поймали. Неловко быть тем, кто пялится. Действительно ли женщины этого хотят? Боюсь, что да. <…> О да, я видел футболку, где было написано: «Над грудью у меня еще есть голова». Эта надпись пока понравилась мне больше всего. Я внимательно перечитал предложение несколько раз (Hordych, 2004).
Хотелось бы вспомнить и то, с какими трудностями перед обнаженной грудью на пляже сталкивает своего героя Паломара Итало Кальвино (Calvino, 1983, S. 14 и далее).
Голая грудьПаломар прогуливается по побережью. <…> Вот лежа загорает молодая женщина с открытой грудью. Скромный Паломар спешит перевести свой взгляд к морскому горизонту. Он знает – в подобных случаях, заметив незнакомца, женщины часто спешат прикрыться, но не видит в этом ничего хорошего: и потому, что смущена купальщица, спокойно загоравшая, и потому, что проходящий чувствует: он помешал, и потому, что в скрытой форме подтверждается запрет на наготу; к тому же половинчатое соблюдение условностей ведет к распространению неуверенности, непоследовательности в поведении, вместо свободы и непринужденности.
Вот почему, едва завидев бронзовое с розовым облачко нагого торса, он скорее поворачивает голову так, чтобы взгляд его повис в пространстве, гарантируя почтительное соблюдение невидимой границы, окружающей любого индивида.
«Однако, – рассуждает он, шагая дальше и, как только горизонт пустеет, вновь давая глазу волю, – действуя подобным образом, я лишь подчеркиваю свой отказ смотреть и в результате закрепляю условность, в соответствии с которой обнажение груди считается недопустимым; иначе говоря, я мысленно подвешиваю меж собой и грудью – молодой и привлекательной, как я сумел заметить краем глаза, – воображаемый бюстгальтер. В общем отведенный взгляд показывает, что я думаю об этой женской наготе, она меня заботит, и, по сути дела, это тоже проявление бестактности и ретроградства».
По пути обратно Паломар глядит перед собою так, чтобы взгляд его с одним и тем же беспристрастием касался и пены волн, и лодок на песке, и постланной махровой простыни, и полнолуния незагорелой кожи с буроватым ореолом в окружении соска, и очертаний берега, сереющих в мареве на фоне неба.
«Ну вот, – довольно отмечает он, шагая дальше, – грудь стала как бы частью окружающей природы, а мой взгляд – не более докучливым, чем взгляды чаек и мерланов».
«Но справедливо ль это? – размышляет он затем. – Не низвожу ль я человеческую личность до уровня вещей, не отношусь ли к отличительной особенности женщин просто как к предмету? Не закрепляю ли я давнюю традицию мужского превосходства, породившую со временем привычную пренебрежительность?»
Он поворачивается, идет назад. Скользя по пляжу непредубежденным, объективным взглядом, он, как только в поле зрения оказывается нагая грудь, заставляет взгляд свой очевидным образом прерваться, отклониться, чуть ли не вильнуть. Наткнувшись на тугую кожу, взгляд его отскакивает, будто отмечая изменение консистенции картины и ее особенную значимость, зависнув на мгновение, описывает в воздухе кривую, повторяющую выпуклость груди – уклончиво и в то же время покровительственно, – и невозмутимо двигается дальше.
«Наверное, теперь моя позиция ясна, – решает Паломар, – и недоразумения исключены. Но вот не будет ли такой парящий взгляд в конце концов расценен как высокомерие, недооценка сущности груди, ее значения, в определенном смысле оттеснение ее на задний план, куда-то на периферию, как не стоящей особого внимания? И грудь из-за меня опять оказывается в тени, как долгие столетия, когда все были одержимы манией стыдливости, считали чувственность грехом…»
Подобное истолкование не соответствует благим намерениям Паломара: он хотя и представляет зрелое поколение, привыкшее ассоциировать грудь женщины с интимной близостью, однако же приветствует такую перемену нравов – и поскольку видит в ней свидетельство распространения в обществе более широких взглядов и потому, что данная картина, в частности, ему приятна. Такую бескорыстную поддержку и хотел бы выразить он взглядом.
Повернувшись, он решительно шагает снова к загорающей особе. На сей раз взгляд его, порхая по пейзажу, задержится с почтением ненадолго на ее груди и тут же поспешит вовлечь ее в порыв расположения и благодарности, которые он ощущает ко всему – к солнцу, небесам, корявым соснам, дюнам, к песку и скалам, к водорослям, облакам, к миру, обращающемуся вокруг вот этих шпилей в ореоле света.
Что, конечно, совершенно успокоит одинокую купальщицу и исключит возможность всяких недоразумений. Но она, увидев Паломара, вскакивает, прикрывается и, фыркнув, поспешает прочь, с досадой поводя плечами, словно подверглась домогательствам сатира.
«Мертвый груз традиции безнравственного поведения мешает по достоинству оценивать и просвещеннейшие побуждения», – горько заключает Паломар[16].
Психосоматика
Больное тело «действует» на «службе матери»
Моя пациентка Цилли Кристиансен с расстройством пищевого поведения, с которой мы уже сталкивались (она купила пакет яблок, чтобы сделать своему телу что-то хорошее), видит в своем теле врага. Оно «производит» прыщи, или же снова у него грибок. У нее возникает чувство, что ее тело такое же толстое, как тело матери. Она воспринимает свое тело как предателя: «Вероятно, оно не принадлежит мне, оно на службе матери!». – «Тогда ваша мать всегда с вами», – говорю я. Она возражает: «Если бы симптом ограничивался одной частью тела, я бы ее отрезала, чтобы показать, кто тут сильнее!». Она не думает о том, чтобы сделать что-то для своего тела. Она не ухаживает за ним, едва двигается, неправильно питается, не бросает курить: «Я не позволю ему это заполучить!». Пакет яблок действует при этом как примиряющий дар.
Беатус Клаассен, молодой человек чуть старше 20, страдает от тяжелой формы язвенного колита. С начала заболевания его мать звонит регулярно, каждое воскресенье. Ее первый вопрос всегда касается его самочувствия. Он говорит мне: «Кишечник служит зацепкой для разговора с матерью!» Таким образом больной кишечник обеспечивает связь с матерью.
В ходе анализа Вероники Арндт идеализированный образ ее отца сменяется все более негативным. Ей снится сон о человеке, который подвергается уголовному преследованию за преступление. Его находят в доме пациентки с ужасно изуродованным лицом. Человек во сне ужасен, но на самом деле он не такой уж плохой. Она испытывает к нему смешанные чувства. Она держит своего мужа на расстоянии, не может выносить близость с ним, сексуальный контакт сейчас совсем невозможен. И вот перед каникулами в терапии у нее снова возникает вагинальный грибок, спустя несколько месяцев после прошлого проявления болезни. Она просыпается ночью перед сессией с сильным зудом и сразу же думает: «Теперь пять недель не будет твоего Хирша, но у тебя есть хотя бы такая защита от мужа». Я отвечаю: «Да, у вас есть связь со мной, вы сразу же думаете обо мне, и симптом – это связь со мной. В то же время он служит границей, защищающей от человека, который может оказаться слишком близко к вам», т. е. терапия должна иметь функцию триангуляции. Чуть позже она говорит: «Я не хочу горевать из-за каникул. Я хотела бы, чтобы случилось что-то из ряда вон выходящее и вы не смогли бы уехать». – «Что это может быть?» – «Мне в голову приходит только болезнь…» Болезнь держит мужа на расстоянии, но если бы я заболел, я не мог бы оставить ее. Болезнь разделяет и объединяет одновременно.
Подросток берет в руки бритву и атакует свое тело, свою поверхность. Истерика выражается посредством тела, но при самоповреждении само тело «действует» (Ференци) или «думает», как это выразили Бион (цит. по: Meltzer, 1984, S. 79) и Макдугалл (McDougall, 1978, S. 336). Гаддини (Gaddini, 1982) описывал это так, будто у тела есть фантазии, «протофантазии». Посредством своего поведения тело превращает и «Я», и само себя в жертву. Истерический симптом все еще полон символики, которую можно разгадать, поставить в осмысленный контекст. В то же время симптоматика его достаточно подвижна и может исчезнуть, если удается проследить ее значение. Но происхождение и смысл психосоматических реакций предельно скрыты от нас: здесь тело действует из глубин досимволического бессознательного. Вслед за Ференци (Ferenczi, 1919, S. 138) это можно представить как «протопсихику», неразделенную психосоматическую матрицу. Но нераздельны не только тело и психика: мать (с ее телом) также принадлежит к этому триединству («одно тело на двоих» – McDougall, 1987). Эту научную фантазию о триединстве можно назвать и «психосоматической триангуляцией» (Куттер, цит. по: Grieser, 2008): мать, ребенок и его тело. Насколько должно хватать силы воображения, чтобы обосновать загадочные связи между ранней материнской заботой и присутствием и физическим здоровьем, с одной стороны, и, наоборот, связь между дефицитом материнской заботы и обусловленными им общей болезненностью или хроническими симптомами, связанными с определенными органами. Как установить связь между определенной формой недостаточной заботы в раннем детстве (если ребенка мало держали на руках, ему не хватало физического контакта, возникали проблемы с кормлением и воспитанием гигиенических привычек, или же сыграли свою роль сексуальные страхи того, кто заботится о ребенке) и позднейшими симптомами, связанными с определенными органами: головокружением, кожными заболеваниями, нарушениями пищеварения, сексуальными расстройствами? Самоповреждение и конверсионный невроз, в особенности психогенный болевой синдром, можно понимать хотя бы отчасти как модель психосоматического явления. В таком случае мать, собственное «Я» и тело могут замещать друг друга, тело может становиться материнским объектом (его суррогатом), тело или отдельный орган могут демонстрировать нехватку чего-либо или повреждение, но в то же время и быть попыткой исправить это. «Части тела <становятся> заместителями недоступного, отказывающего объекта и в высшей степени аффективно оккупируются» (Kutter, 1981, S. 55). Сюда можно добавить избыточно стимулирующий, травмирующий объект. Эта оккупация своего рода деструктивным либидо разрушает или повреждает орган – представление о жертвоприношении части во спасение целого близко к этому. Области тела, которые Куттер (Kutter, 1980, S. 139) обозначил как «ампутированные части репрезентации тела», приносятся в жертву, чтобы спасти собственное «Я». Аналогичным образом Плассман (Plassmann, 1993) описывает «мертвые зоны тела» при искусственно вызванных заболеваниях, которые содержат (и связывают) патологические фантазии о «я-теле» и проекцию отрицательных репрезентаций частей («я-объектов» и тела). Такого рода концепции деформированных областей тела, которые связывают негативный объектный опыт и проявляются в форме болезни, можно свести к концепции конверсии Феликса Дойча (Deutsch, 1959). Дойч предположил, что ранняя функция символизации, с помощью которой переживается утрата объекта как утрата части себя, т. е. «я-тела» в самом раннем возрасте, восстанавливается посредством «ретроекции», возвращения в тело, но ценой повреждения части тела, которая является репрезентацией утраченного объекта. Поврежденный орган таким образом работает как пломба, которая заполняет дыру в «Я», как это наглядно описал Моргенталер в отношении сексуальных извращений (Morgenthaler, 1974), и обретает функцию замещения объекта.
Триангулирующая функция тела
Другая мысль Куттера (Kutter, 1980, 1981), скорее, отражает функцию защиты симбиотического объекта, т. е. негативную сторону амбивалентной потребности в объекте и страха перед ним: у больного тела есть функция триангуляции. Оно образует границу, барьер между угрожающим материнским объектом, воспринимаемым как вторгающийся. И дискуссия о том, можно ли рассматривать (больное) тело или его части как переходный объект, как «одеяло» или «плюшевого мишку», указывает на функцию дистанцирования, потому что в конечном счете переходный объект можно понимать в качестве первого триангулирующего объекта между материнским объектом и «Я» ребенка.
В контексте отщепления островков тела при психосоматическом заболевании, которые образуют мнимую автономию, неадресованность внешним объектам, можно рассуждать скорее о внутренних органах. О коже мы думаем скорее, когда речь идет о связи с объектом и защите от него. Не в последнюю очередь самоповреждающее поведение нацелено на кожу и отверстия тела. Анзьё (Anzieu, 1985) говорит о коже как о двойной мембране с функцией ограничения тела и одновременно установки контакта с внешним объектом.
Больное тело и функция замещения объекта
То, что больное тело, которое становится ощутимым и неприятным образом обнаруживает свое наличие посредством боли и нарушения функционирования, может встать на место объекта, совершенно очевидно, поскольку психосоматические симптомы часто появляются на фоне сепарации, т. е. утраты объекта. Фюрстенау с соавт. (Frstenau et al., 1964) обозначили оккупированное сердце сердечного невротика как замещение материнского объекта, словно неприятно дающий о себе знать орган заполняет лакуну и, как я бы добавил, проецирует на орган негативные эмоции, например страх и агрессию, вызванные утратой. Человек не может испытать эти эмоции и выражает их посредством нарушения работы сердца. Я описал психогенную боль как суррогат матери (Hirsch, 1989c). То, что боль может представить связь с объектами, проистекает уже из идеи Энгеля (Engel, 1959), согласно которой боль рождается из следов воспоминаний, памяти о травмах, нанесенных родительскими объектами в детстве. Боль, словно реминисценция (мысль, которую можно найти уже у Фрейда в «Очерках об истерии» – Freud, 1895) травмы и тесная связь с преступником, содержит и деструктивную агрессию травматичной ситуации из прошлого, и функцию защиты от угрожающей близости в смысле «Не прикасайся ко мне!».
Больное тело и функция установки границ
Функция замещения объекта, присущая психосоматическому симптому, не приводит к удовлетворительному равновесию между потребностью в объекте и страхе перед ним и не может решить базовый конфликт автономии и зависимости. Поскольку, как мы видели, границы «Я» и тела устанавливаются достаточно четко только в случае, когда опыт отношений с матерью достаточно хорош, травматичный опыт приводит к тому, что соответствующие эмоции, такие как агрессия, страх и боль, встраиваются в единое «я-тело». При синдромах самоповреждения искусственно созданная агированием граница «Я» и тела должна заместить границы «Я», которые отсутствуют или находятся под угрозой. При психосоматической же реакции, которую производит само тело, речь идет об отщепленных областях тела, которые связывают негативное, чтобы защитить целостное собственное «Я» в его стабильных границах.
Иногда психосоматическому проявлению придается смысл или, если сказать скромнее, возникает чувство, что симптом понятен и объясним.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
На русский язык оба понятия корректно перевести как «тело». Однако слово Leib применяется исключительно к человеку и может также означать «нутро» или «утробу». Ср.: Leib Christi – «тело Христово». Словом Körper может обозначаться как человеческое тело, так и корпус неодушевленных объектов. – Прим. пер.
2
Автор благодарит Маргу Лёвер-Хирш за отсылку к Ницше.
3
Если имя переводчика не указано, перевод выполнен Д. Борисенко. – Прим. ред.
4
См. главу «Диссоциация тела в ситуации травмы».
5
См. главу «Мутиляция гениталий» в разделе «Инсценировки тела».
6
В последнее время эти представления, в том числе «адгезивная идентификация» Мельтцера (1975), возводят к идее значения границ «Я» для психозов, которую изначально развил Тауск, а за ним Федерн (1956).
7
Немецкое слове «серый» (grau) созвучно слову «ужас» (Grauen). – Прим. пер.
8
Пер. М. Веселовской.
9
Пер. П. Полевого.
10
Rapunzel – одно из названий полевого салата в немецком языке. – Прим. пер.
11
Пер. В. Брюсова.
12
Пер. А. Блока.
13
В немецком слово ungeschoren означает как, буквально, «неостриженный», так и «невредимый». – Прим. пер.
14
См. воспоминания Ники де Сен-Фалль в разделе «Самоповреждение».
15
Имеется в виду различие слов Busen («грудная клетка») и Brüste («грудь»). – Прим. пер.
16
Пер. Н. Ставровской.