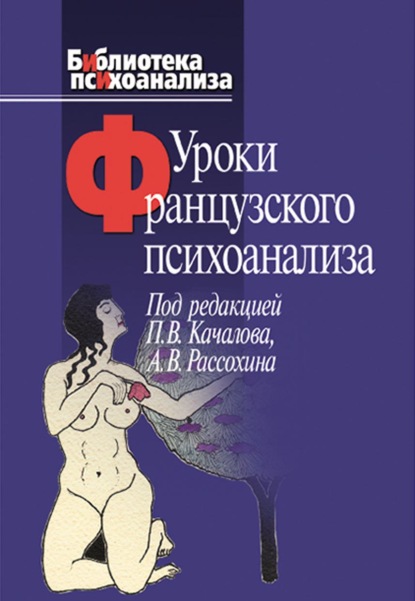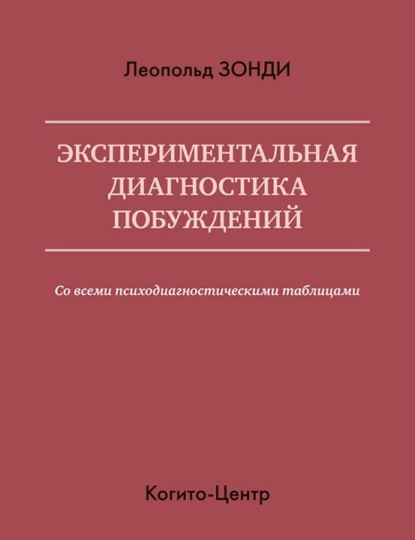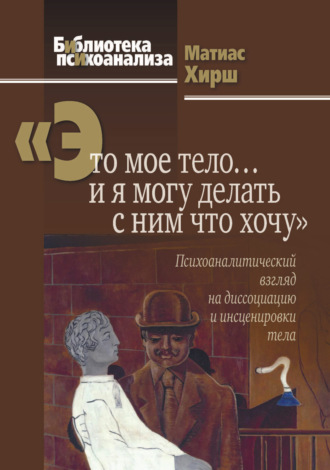
Полная версия
«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу». Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела
Значение волос как символа власти не так легко обосновать. Ветхозаветный Самсон, «избранник Божий», обладал сверхчеловеческой силой, пока ему не остригли волосы. Самсона легко победили, когда женщина, дочь его врагов, узнала его тайну и выдала ее противникам: нужно остричь его голову – и сила утратится.
Длинные, нестриженые волосы служили у германцев признаком свободного человека. Рабы и слуги стригли волосы в знак того, что находятся во власти вышестоящего. Этот способ обозначения зависимости и сегодня находит отражение в тонзуре монахов и католических священников. У франков члены королевской семьи могли никогда не стричься, волосы принцев оставались «невредимыми» (ungeschoren[13]; можно предположить, что второе значение слова восходит к страху за неприкосновенность волос). Королевские волосы спускались на плечи и были больше, чем украшением: они служили выражением королевской власти, потенции (Jeggle, 1986, S. 54).
И наоборот: стрижка волос была знаком подчинения власть предержащему. Военнопленные, жертвы политических преследований, заключенные, а также низшие чины в армии переживают на собственном теле, как манифестируется власть.
Драйв прикрепления
Вернемся к отношениям в раннем детстве. Контакт кожи матери с кожей ребенка не нуждается в посреднике. Волосы как место контакта при этом нуждаются в руке, которая их схватит, чтобы установить этот контакт. Мы наблюдали это в пугающе декадентской сцене из «Пелеаса и Мелизанды»: тела не могут приблизиться друг к другу, но волосы и руки сплетаются. К этому образу подходит концепция драйва прикрепления, разработанная Имре Херманном (Hermann, 1936), венгерским психоаналитиком: Херманн берет за основу теорию привязанностей Боулби, которая десятилетиями не имела доступа к психоанализу, где главенствовала теория драйвов, и предполагает в ее рамках такое несексуальное «влечение». Это обозначение также кажется мне компромиссом в отношении фрейдовской теории драйвов. Но в гораздо большей степени это потребность в привязанности, которая с подачи Лихтенберга (Lichtenberg, 1988) также причисляется к мотивационным системам и выходит далеко за пределы дихотомии сексуального и агрессивного влечения. Согласно фрейдовскому представлению, влечение – доходящее до предела напряжение драйва и его разрядка, согласно концепции потребности в привязанности и потребности к прикреплению, по Херманну, – длительный процесс отношений, лишенных кульминации, несексуальных и неагрессивных. Дери (Deri, 1978) указывает на то, что среди психоаналитиков Винникотт был тем, кто понимал главенство обусловленных влечениями соматических напряжений (например, голода) у младенца не с точки зрения разрядки драйва, а в гораздо большей мере как галлюцинаторную власть над миром и как ее конкретное выражение, удавшиеся отношения «мать – дитя». Я провел границу между сутью мастурбации маленького ребенка и мастурбации подростка или взрослого (Hirsch, 1989d). Мастурбация маленького ребенка кажется мне в меньшей степени выражением сексуального желания, которое направлено на достижение кульминации и последующей резкой разрядки, чем способом обеспечить длительное состояние возбуждения и ощущения существования тела и его границ. Поэтому я отношу раннюю мастурбацию, несмотря на ее сексуальный характер, к физической деятельности, которая успокаивает ребенка в состояниях напряжения и одиночества, а их нельзя понимать как эквиваленты первичной сексуальности на базе драйвов. Поэтому я выступаю против непродуманного обозначения всех детских «вредных привычек», т. е. аутоагрессивной деятельности, направленной на тело как на объект, в качестве «аутоэротических» эквивалентов мастурбации, согласно (раннему) психоанализу.
Херманн рассматривает привычку сосать палец.
Как сам палец в случае привычки его сосать, так и то, за что хватается ребенок в стремлении прикрепиться, идентифицируется с матерью. «Покинутый» матерью ребенок фантазирует, что он одновременно ребенок и мать в состоянии скрепления (Hermann, 1936, S. 70).
Херманн напрямую возводит влечение к прикреплению к соответствующему поведению детенышей приматов, которые цепляются пальцами за шерсть матери. Таким образом он вводит новое измерение кожи: она уже не орган восприятия ребенка, а адресат потребности в контакте, т. е. кожа матери становится целью ищущей руки детеныша. Рука, пальцы и, как я хотел бы добавить, ногти представляют составляющую ребенка, а кожа (мех, волосы как нечто прилегающее к коже) – составляющую матери в их взаимоотношениях.
Здесь последует история пациентки, которая постоянно отыгрывала «прикрепление» к «меху» и, кроме того, испытывала трудности с кольцом, связывавшим ее с партнером, которого она давно и сознательно оставила.
Генриетта Вейсвейлер
Госпожа Вейсвейлер изначально пришла в терапию из-за проблем с партнером, спросила о возможности терапии пары, но в ходе диагностических интервью рассталась с партнером и начала аналитическую психотерапию из-за проблем в отношениях, сопровождающих ее всю жизнь. Однажды она начала сессию так. Она хотела рассказать кое о чем странном: у нее есть привычка заталкивать волосы под ногти, так чтобы кончики ее довольно плотных волос попадали под ногтевую пластину. Кожа под ногтями из-за этого становится очень чувствительной и когда она прижимает кончик пальца к ногтю, она испытывает приятную боль. Боль – это именно то, чего она добивается. При этом она производит неестественное движение большим пальцем левой руки, чтобы волосы попали под ноготь этого пальца. Сейчас у нее воспалилось сухожильное влагалище, из-за чего она почти не может действовать рукой, движения становятся слишком болезненными. Она делает это со времен школы, в основном в одиночестве, но непроизвольно также во время совещаний, когда ее мысли отвлекаются. Началось это в возрасте 10 или 11 лет, но в последнее время из-за расставания с партнером привычка обострилась. У нее есть и другая привычка: она ковыряет пальцами кожу вокруг пупка. Это не причиняет боли, вызывает только приятное чувство, но привычка очень навязчива. Я говорю, что это похоже на двух человек, которые имеют дело друг с другом. Да, она уже подумала, что игра с пупком заменяет мастурбацию. Она часто пыталась «научиться мастурбировать», но почему-то с ней это не работает, ей обязательно нужен другой человек, мужчина. У нее есть подозрение, что кто-то мог жестко вмешаться, когда она пробовала делать это ребенком. Она может вспомнить, что когда она ребенком чувствовала сильный позыв помочиться, она держала руки внизу живота, и взрослые сурово запрещали ей это делать. Я рассказываю ей сцену, которую однажды наблюдал, когда мать, госпожа Куадбек, хотела принести на сеанс терапии своего семимесячного ребенка, который плохо засыпал по ночам. Мать говорила и говорила, ребенок лежал у нее на руках, совершенно спокойный, радостно улыбающийся и играл с ниспадающими волосами матери, наматывал их на руку, хватал, тянул и отпускал. (Конечно, ребенку терапия была не нужна, в большей степени она была нужна матери, которая ее и начала. 17 лет спустя «ребенок» снова пришел ко мне и прошел успешную полуторагодовую подростковую терапию.) Я добавляю к этому, что ребенок выстраивает при помощи волос полуреальную, полусимволическую связь с матерью и что многие девушки задумчиво накручивают свои волосы на палец, кроме того, если они при этом в одиночестве, кладут в рот большой палец другой руки и мечтательно смотрят вдаль. Госпожа Вейсвейлер признается, что она тоже делала это в возрасте 17 или 18 лет. И тогда она, поскольку уже ознакомилась с соответствующей психоаналитической литературой и пришла к идее мастурбации, для которой необходимы как бы два человека и которая замещает отношения с возлюбленным, говорит: «Если человек с помощью собственного тела создает себе партнера, то в этом случае он получает то, чего недополучил от матери».
Сейчас она понимает свой симптом как желание отношений. Своего давно повзрослевшего сына она до сих пор естественным образом обнимает, но не может представить, как обнимает свою мать. Физические контакты в ее семье были крайне ограниченны. Родители никогда не прикасались друг к другу, по крайней мере, на глазах у других, между отцом и пациенткой не было никакого телесного контакта – это было просто табу. Конечно, у нее нет конкретных воспоминаний о самом раннем детстве, но она представляет себе отсутствие контакта, нехватка которого вызвала агрессию и потребность испытывать боль. Но потом возникает позитивный образ матери. Когда госпожа Вейсвейлер родилась, она была совсем маленькой, ее вес при рождении был таким низким, по рассказам матери, что ее нужно было положить в инкубатор. Но мать взяла новорожденную домой. Однажды она спросила тетю, что происходило в ее дошкольном возрасте, о котором у нее не было никаких воспоминаний. Тетя рассказала, что родители часто ездили с ней к бабушке и дедушке, у которых вся семья чувствовала себя очень хорошо, а дети могли резвиться на свежем воздухе. Тогда ей приходит в голову другая история: она тогда была совсем маленькой, ей нужно было спать днем, и она это ненавидела, никогда не засыпала, а однажды она выпуталась из пеленок и измазала всю стену какашками. В другой раз она встала (опять же не могла уснуть) и забралась на подоконник. Окно было открыто, она смотрела на улицу, квартира была на четвертом этаже. Мать вошла в комнату и закричала от ужаса. По меньшей мере, дважды она отбивалась от матери: один раз ее привели назад чужие люди, другой раз – полиция. В детстве у нее не было сладостей, но она с удовольствием облизывала соленые бульонные кубики или просто соль. Госпожа Вейсвейлер понимает, что мать была неправа, отправляя ее спать днем, бездумно оставляя окно открытым, отказывая ребенку в контакте, так что девочка могла просто убежать. Ее сестра обращается со своими детьми похожим образом, «бездумно». Поэтому ей в детстве приходилось заполнять эту пустоту чем-то собственным, будь то размазывание какашек, побеги, игра с пупком или с волосами и ногтями. Она возвращается к своим привычкам. Это имеет мало отношения к настоящему, к тому, есть ли у нее сейчас партнер или нет, получает ли она нежность или сексуальный контакт – привычка остается. Я интересуюсь, меняется ли интенсивность в зависимости от положения дел. Да, она говорит, что бывали времена, когда она была одна и меньше нуждалась в этом. Я рассказываю ей историю пациентки, которая с шестилетнего возраста, когда мать обругала ее за привычку грызть ногти перед другими людьми, когда они были в гостях, перестала грызть ногти, но стала обдирать и откусывать кожу вокруг ногтей, и эта привычка остается у нее до сих пор. Этот устойчивый симптом исчез внезапно и полностью, когда у нее родился первый ребенок. Госпожа Вейсвейлер может это понять: «Когда у меня на руках был ребенок, у меня не было свободной руки…» У нее больше физического контакта с ее ребенком, чем у родителей с ней. Я предполагаю, что, возможно, она смогла восполнить нехватку, получить от своего ребенка то, в чем отказывали ей родители. Теперь она думает о том, чтобы пройти курс гончарного дела, потому что там есть контакт между руками и материалом. Я соглашаюсь, что это конструктивный, творческий контакт с глиной, с материнской землей («материал» и «мать»). «Да, я же не могу сделать себе партнера из глины», – замечает она с иронией.
В начале другой сессии у нее появляется обычный ритуал, совершенно бессознательный. Она понятия не имеет, что этим компульсивным действием она предотвращает опасности анализа, выстраивает оборону против них (согласно Огдену (Ogden, 1989), даже маленькие ритуальные привычки представляют собой аутистически-успокаивающую защиту). Она всегда приходит на две минуты позже, но идет в туалет, проходит уже четыре минуты, потом она снимает сапоги – пять минут… «Я хочу поговорить о своем физическом состоянии». – «Есть особый повод?» – «Нет, но мы должны говорить обо всем, о человеке в целом». Она страдает от слабой соединительной ткани, у нее такие же вены, как у отца, она унаследовала от него камни в почках, но в остальном она редко болеет. Первый раз она попала в больницу во время рождения сына, во второй – из-за странного случая: она была еще студенткой, была замужем, сын был маленьким, но при этом у нее был мужчина, который жил далеко за городом. Ее знакомый работал на фирму, откуда можно было бесплатно звонить, и она часто пользовалась этой возможностью, чтобы говорить со своим другом, потому что телефонные разговоры тогда стоили довольно дорого. Однажды она совсем забыла о времени, было поздно, и двери фирмы уже давно заперли. Ей пришлось лезть через забор, наверху которого были стальные заострения, и она зацепилась за одно из них обручальным кольцом и повисла на нем, когда спрыгивала. Как впоследствии сказал врач, безымянный палец был «освежеван». Друзья привезли ее в больницу, палец смогли спасти, и с тех пор она уже 20 лет не носит кольца. Тогда она корила себя и говорила, что ей нужно держать руки подальше от отношений. Когда она ребенком однажды наблюдала мать за шитьем, та случайно прострочила швейной машинкой палец, в другой раз она ездила к своему парню и, пока рубила дрова, отрубила себе кончик пальца… Бывают фазы, когда она говорит себе, что ей нужно держать пальцы при себе, она сама не знает точно, что это значит. Возможно, несчастный случай был наказанием за отношения. Но это не имеет большого смысла. Я еще раз спрашиваю ее о значении, и она тут же говорит: «Но я тогда была очень влюблена…» И все же она нелегально говорила по телефону и завела отношения не с отцом своего ребенка. Ее сознательные моральные установки как студентки левых взглядов были противоположными, но в ней были живы и установки матери. Та упрекала дочь за любовника, когда та еще была официально замужем – католическая мораль. Обручальное кольцо, конечно, служило связью с мужем, хотя она давно его бросила. Но оно обозначало и связь с моральными установками матери. Мать постоянно подчеркивала, как тяжело иметь троих детей. Нужно стирать за ними в тазу, тогда не было стиральной машины, ради детей пришлось бросить работу: госпожа Вейсвейлер была старшей дочерью, т. е. виновной в том, что мать стала матерью, она отобрала у матери свободу и карьеру. Но похоже, что пациентка всю жизнь сражалась с чувством вины за собственное существование (я называю это базовым чувством вины – Hirsch, 1997): она всегда была проблемным ребенком, для своей семьи она была слишком живой, в то время как другие дети были и остались флегматичными. Она всегда бунтовала и «высовывалась» (размазывание какашек и побеги). Несчастный случай, с одной стороны, означал наказание за стремление к свободе, к выходу из брака, отделению от матери (или ее установок) и т. д. С другой стороны, из-за несчастного случая она с болью освободилась от этих привязанностей.
Приведенная ниже заметка из газеты о реальных событиях отлично подходит к истории госпожи Вейсвейлер.
Взломщик оторвал себе палец при побеге
Вечером вторника взломщик оторвал себе палец во время побега. 35-летний мужчина вломился в сигнальную будку Музея техники на улице Треббинер в Кройцберге. Когда сработала сигнализация, он выпрыгнул из окна с высоты пяти метров. Двое охранников преградили ему дорогу. Тогда он взобрался на трехметровый забор и повис на нем, зацепившись за забор кольцом на среднем пальце правой руки. Палец оторвало. «Взлом того не стоил», – сказал он, когда вернулся на место преступления и обратился за врачебной помощью. Врачи не смогли пришить палец (Tagesspiegel, 7 juni 2007).
Перионихомания
В качестве примера патологии драйва прикрепления Херманн приводит симптом, который он описывает как «привычку обдирать кожу вокруг ногтей», а я обозначал как «перионихоманию» и «перионихофагию». Речь идет о форме самоповреждения кожи посредством «расцарапывания, расковыривания» ложа ногтя и кожи вокруг ногтей («пери-»), часто совмещенного с откусыванием и проглатыванием кусочков кожи. Поскольку привычка грызть ногти называется онихофагией, я присоединил к этому слово «кожа» («пери-») – так и сложился термин. Если привычка ограничивается расцарапыванием кожи без откусывания и проглатывания, я говорю о перионихомании – термины отсылают к трихотиллофагии и трихотилломании соответственно. «Расцарапывание ложа ногтя» стоит в одном ряду с многочисленными подобными регрессивными привычками, такими как покачивание всем телом, привычка нюхать свою кожу, определенные положения тела, например, постоянное трение стоп друг о друга или привычка просовывать руку между бедер, скрежетание зубами, различные формы повреждения кожи или привычки грызть предметы (карандаш), а также кусание губ[14] и слизистой оболочки щеки, взаимодействие с ноздрями, слуховым проходом и анусом. Родственными феноменами можно назвать навязчивое сдирание корочки с заживающих ран, частично связанное с проглатыванием корочки (это невротическая экскориация кожи, т. е. форма самоповреждения), а также расцарапывание очагов поражения экземы и то, что дерматологи называют экскориированными акне, т. е. выдавливание прыщей. Эти формы самоповреждения кожи часто начинаются со случайных небольших повреждений или царапин, от которых исходит некая магическая притягательная сила, как будто они выступ, за который можно уцепиться, или крюк на глади отвесной скалы. Или же у человека возникает ощущение, что избавление от недостатков кожи означает освобождение от дурного, опасного объекта – части тела, от которой нужно избавиться как от струпа на заживающей ране (который на самом деле «хороший» и как раз служит выздоровлению). Все это в большей или меньшей мере самоповреждающее поведение кажется средством преодолеть невыносимые, в крайнем случае доходящие до психоза напряжение и страх пустоты, поскольку она представляет собой, как я думаю, присутствие воображаемого материнского объекта в собственном теле.
Собственно привычка при перионихомании состоит в навязчивом соскабливании, разрывании и расковыривании кожи вокруг ногтей, а также отодвигании и отрывании кутикулы, из-за чего возникают кровотечения, воспаления, смещение ногтевого ложа и глубокие канавки на ногтях вследствие нарушения их роста. Действия со стороны одного ногтя на кожу другого пальца часто связаны с кусанием частей кожи, на которых есть шрамы или выступы, откусыванием, жеванием и проглатыванием кусочков кожи. Часто используются такие инструменты, как пилочки и ножницы. Клиническое наблюдение позволяет сделать заключение о глубинной связи привычек сосать палец, грызть ногти и перионихофагии. Кафка (Kafka, 1969, S. 209) рассказывает о пациентке, которой в детстве строго запрещали сосать палец. У пациентки были аутоканнибалистичные фантазии, и иногда она ела «небольшие <…> кусочки кожи и плоти со своих пальцев». Пациент из моей практики рассказывал, что, когда ему было 8 лет, ему было ужасно неловко, если мать упрекала его за привычку грызть ногти, когда приходили гости (своего рода терапия отвращения, которая использует стыд в своих целях). Он сразу же прекратил это делать, но стал ковырять и кусать кожу вокруг ногтей, и привычка осталась с ним вплоть до зрелого возраста. Эта непреодолимая привычка исчезла, когда пациент стал отцом.
Когда Розали Янц была крайне истощена анорексией, она кусала кожу вокруг почти всех ногтей до крови. Когда вес начал расти, она стала кусать ее меньше, а когда достигла «нормального веса», т. е. того, который был до анорексии, проблема с пальцами исчезла.
Георг Бюхнер спрашивает в «Смерти Дантона»: «Как долго человечество будет жрать свои члены в извечном голоде?».
При перионихомании действуют два враждебно настроенных друг к другу партнера – кожа и ногти, а перионихофагия – расширение симптома: зубы перенимают роль врага, глотание обозначает инкорпорацию части тела, которая должна ощущаться как «хорошая» (иначе зачем нужно что-то добавлять к «Я» посредством инкорпорации?). В конце концов все успокаивающие привычки, связанные с телом, от якобы рефлекторного сосания пальца до использования типичного переходного объекта, а также соответствующие патологические привычки в зрелом возрасте, призваны преодолеть выход из первоначальной диады «мать – дитя» на более или менее символическом уровне. Как волосы при трихотилломании, кусочки кожи можно понимать как связующие объекты. Дери (Deri, 1978, S. 54) описывает «аутоэротическую деятельность», к которой относится и описанное симптоматическое поведение как «редуцированный переходный объект». Есть множество примеров более или менее символического замещения отношений «мать – дитя» посредством сосания пальца, привычки грызть ногти и перионихомании. Херманн (Hermann, 1936, S. 70) рассказывает о трехлетней девочке, которая не переставала сосать палец, несмотря на все усилия, и объясняла это тем, что «не может спать одна». Восьмилетняя дочь пациентки из моей практики отвечала на пожелание матери, чтобы ребенок меньше смотрел телевизор (телевизор как орально-регрессивный феномен): «Ну, ладно, тогда я буду грызть ногти!».
20-летняя пациентка Антье Ингерфельд впервые в жизни завела «настоящего парня». Днем и ночью она вместе с ним, у них налажен физический и сексуальный контакт, она «счастлива». Ее больше не мучит вздутие живота, ее ногти снова растут, потому что она их не обкусывает, она похудела, ее нынешний вес идеален, как ей кажется. Удачные любовные отношения делают соматические проблемы излишними. В другом примере трехлетней девочке все время приходилось следить за своим трехлетним братом, т. е. брать на себя функцию матери, против чего она бунтовала, но у нее не было шансов снять с себя эту обязанность. Позже, будучи пациенткой, она рассказывала, что буквально приучила брата грызть ногти – хотела занять его, чтобы он мог быть предоставлен сам себе.
Согласно изначальной идее драйва прикрепления, по Херманну, с одной стороны, рука и пальцы и, с другой стороны, кожа и шерсть используются как средство образования связи. Для понимания перионихомании мне кажется важным следующий аспект: ноготь одного пальца и кожа другого вступают друг с другом в ощутимый посредством боли контакт, обе стороны выстраивают отношения «мать – дитя» и служат репрезентацией недостаточных или отсутствующих объектных отношений, дефицитный характер которых содержится в деструктивности симптома. Боль и саднящая кожа – знаки агрессии, а посредством кусания и проглатывания содержащаяся в симптоме агрессия расширяется в орально-каннибалистическом ключе (перионихофагия). Особенно когда речь идет о привычке грызть ногти, многие исследователи указывают на содержащуюся в симптоме агрессию: рот и ноготь сражаются как два враждебных друг другу объекта (Schmideberg, 1935). Когда речь идет об обкусывании ногтей, ноготь опять же становится объектом раскусывания. Кусание – это агрессия, направленная против собственного тела, и при этом разрушается потенциально агрессивный орган, коготь, как будто в бой вступают два хищных зверя. Человек «кусает ногти, которые хотят вцепиться и разодрать» (Solomon, 1955, S. 393).
Женская грудь
Когда молодая киноактриса Скарлетт Йоханссон говорит: «Мне нравятся мои груди, я называю их моими девочками», – ей можно позавидовать, ведь это значит, что у нее не будет особых проблем с ее телом, женственностью и, в конечном счете, с ней самой. Совсем другое дело, когда вы беседуете с обычными молодыми людьми: «Почти ни одна из молодых женщин, которых мы обследовали, не воспринимала свою грудь с радостью, куда чаще встречались отрицание и неприятие физических изменений. Такие негативные переживания особенно ярко проявляются у тех, кто сообщает о себе, что были похожи на мальчика до пубертата и чувствовали себя соответствующе… Но и у остальных негативные чувства преобладают. „О черт, что это, я такого не хочу“, – говорит 16-летняя Катрин А. о своих чувствах. „Мне как-то не хотелось этого, не хотелось, мне казалось отвратительным все это бултыхание впереди“, – рассказывает 15-летняя Франка Дуден» (Flaake, 2001, S. 109 и далее). Карин Флааке изучила 20 девочек-подростков, которые ходили в гимназию или общую среднюю школу. «То, что моя грудь выросла, тоже казалось мне не очень красивым, мне хотелось это скрыть», – сказала 13-летняя Яна Имрот. «Потребность скрыть грудь <…> может выражать желание защитить себя от неоднозначных или сексуальных взглядов со стороны окружающих – матери, отца, мальчиков и мужчин» (там же, S. 111). Развитие груди – это, безусловно, заметный признак взросления. Такое изменение тела большинство девочек, исследованных Флааке, сначала воспринимают отрицательно. С другой стороны, они являются объектами желания и, по крайней мере, позитивно воспринимаются наблюдателями, и это внушает надежду на то, что подростки или женщины однажды смогут воспринимать их так же.
Растущая грудь, таким образом, указывает на отделение от детства и развитие девочки в женщину, и, согласно принципу дисморфофобии, она слишком часто становится местом проекции конфликтов, страхов и других проблем, которые возникают у девочки в связи с ее новой, в том числе сексуальной, идентичностью женщины. Возможно, из-за ее относительной видимости «грудь в нашей культуре является одним из центральных символов женской сексуальности» (Flaake, 2001, S. 109). Флааке (S. 248) цитирует Фриггу Хауг (Haug, 1988, S. 90): «Женская грудь не бывает невинной, ее сексуализация совпадает с ее возникновением». Для Фригги Хауг «сексуализация „невинных“ частей тела происходит главным образом <…> через установление значения, связывание знаков в реферальную систему» (там же). «Но грудь никогда не бывает „невинной“, поскольку она напоминает ранний эротически-чувственный контакт с матерью при грудном вскармливании» (Flaake, 2001, S. 248). Грудь не «невинна» не только из-за придания ей смысла, но и поскольку эротически-чувственный контакт матери и ребенка может вполне конкретно воздействовать на сексуальное возбуждение при кормлении. Можно только надеяться, что молодая мать не переживает это возбуждение ребенка как опасное, а может наслаждаться этим «эротически-чувственным контактом». Каким может быть эволюционно-биологический смысл того, что раздражение сосков (у мужчин, кстати, тоже) вызывает сексуальное возбуждение? Следует ли напоминать кормящей матери, что она отнюдь не только мать, но и сексуальное существо, нужно ли ей возбудиться, чтобы снова иметь сексуальную жизнь и, возможно, снова забеременеть? Так ли это задумано природой (эволюцией)? С другой стороны, говорят, что грудное вскармливание, как правило, предотвращает повторные беременности гормонально или психологически, поскольку молодая мать может чувствовать себя всецело погруженной в заботы о ребенке, а для мужчины больше нет места.