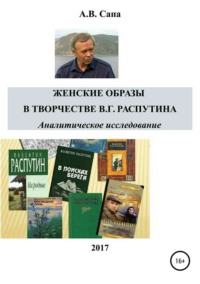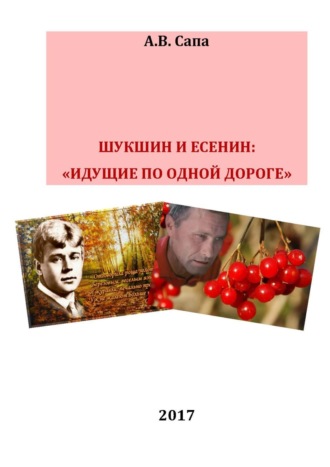 полная версия
полная версияВ.М.Шукшин и С.А.Есенин: «идущие по одной дороге»
Недаром у Василия Шукшина в «Калине красной» есть три «цитаты» из этой есенинской антологии. «Ты жива ещё, моя старушка?» – первое, что приходит на память, когда мы смотрим кадры фильма, в которых Егор Прокудин глядит в морщинистое лицо матери, а она не узнаёт его так же, как есенинский дед не узнал своего внука. Падает убитый своим товарищем-зверем Егор – и тут же всплывает в памяти есенинская строчка: «саданул под сердце финский нож». И третья киноцитата из Есенина – шукшинский герой, освободившись из лагеря, обнимает стаю берёзок и говорит им что-то ласковое, сыновнее, есенинское…
«Блудный сын» С.Есенин последний раз приехал в Константиново 20 сентября 1925 года. А накануне он написал стихотворение-признание в любви к самому близкому человеку – матери:
Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.
Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться —
Чайная чашка скользит из рук.
Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай, под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.
Много я видел и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.
23 сентября 1925 года Татьяна Федоровна в последний раз видела своего сына живым. Ей было пятьдесят, когда она хоронила сына. Она не верила, что сын ушёл из жизни по своей воле. В день похорон она отпевала его заочно у ранней обедни и хотела непременно предать его земле, т.е. по христианскому обряду осыпать, рассыпая землю крестообразно. «Она хотела в Дом печати (где стоял гроб с телом поэта) привести священника с причетом, чтобы тут же совершить обряд отпевания, и пришлось долго её уговаривать, что гражданские похороны с религиозным обрядом несовместимы, – вспоминает Анна Берзинь. – Отговорить от того, чтобы она отпевала Сергея заочно, я не смогла и не особенно отговаривала. Это было её дело…» [17, с.590].
Самоубийц, как известно, не отпевают.
Что знала Татьяна Фёдоровна о гибели своего сына, о чём догадывалась и как сумела убедить в верности своей догадки священника, мы никогда уже не узнаем. При жизни она не проронила об этом ни слова.
Смерть сына стала горестным рубежом в ее дальнейшей жизни. Она часто ходила в церковь, много молилась, хранила у себя разрешительную молитву, которая читается священником над телом в момент погребения и вкладывается в руки почившему. Хранила ее для себя, чтобы Господь простил ей все грехи и принял ее душу в свои небесные обители. В восемьдесят лет завершила Татьяна Федоровна Есенина, константиновская крестьянка, свой земной путь, обретя вечную жизнь в стихах своего сына.
Татьяна Федоровна Есенина похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с великим сыном. Неподалеку, в боковых аллеях, образуя своеобразный «есенинский» квадрат, – могилы сестер Екатерины Александровны и Александры Александровны, его жены, Зинаиды Николаевны Райх, и сына, – Константина Сергеевича.
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
А ещё нельзя не сказать и о сходстве характеров Есенина и Шукшина, которые закладывались в детстве.
Обычно считается, что вера формируется в детстве, что именно детские воспоминания питают, живят душу человека. Детская вера – это не только религиозная вера, но и вообще свет детства: родители, семья… У Шукшина, так уж сложилось, в детстве было мало гармонии и радости. Отца репрессировали, когда писатель был в младенческом возрасте. «Забрали мужа. Выдумали глупость какую-то. Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на него трое и навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьет…», – вспоминала М.С.Шукшина.
На мать, кроме тягот материального характера, в те голодные годы коллективизации легло клеймо жены врага народа, со всеми последствиями. Не случайно, пишут биографы Шукшина, эта боль, чувство ущемленного человеческого достоинства, ранимость, ощущение обиды было у писателя с детства. С детства же – самое светлое: воспоминания о матери, сестре, алтайской природе – горе Пикет, Катуни, Чуйском тракте… И еще: пристальный взгляд на человека, недоумение относительно человеческой злости и жестокости – это тоже у писателя с детства.
По воспоминаниям очевидцев, Шукшин рос мальчишкой замкнутым, что называется, «себе на уме». В общении со сверстниками он держал себя строго и требовал, чтобы те называли его не Васей, а Василием. Те, естественно, не понимали подобных просьб и частенько насмехались над товарищем. В таких случаях Шукшин поступал соответственно своему характеру – убегал в протоки Катуни и скрывался на ее островах по нескольку дней.
Драчуном не был, но не терпел никакой обиды, ни ровеснику, ни взрослому не спускал. Васька—безотцовщина, как его иногда называли товарищи тех лет, был в числе мальчишеских заводил и атаманов. «Совсем от рук отбился, Марья—то прямо уж и не знает, что с ним, таким лоботрясом, и делать—то, – ничего не слушает…» – в таких примерно и даже еще в более хлестких выражениях сообщали далеко живущей родне в письмах сросткинские родственники о «непутевом Ваське».
Это ведь он и о себе, мальчишке, говорит – вспоминает от лица одного из героев в рассказе «Наказ»: «Такой – щербатенький, невысокого росточка… но подсадистый, рука такая… вроде не страшная, а махнет – с ног полетишь. Но дело не в руке… душа была стойкая. Ах, стойкая была душа!»
Как нельзя лучше подходит здесь есенинское:
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет.
Проказы, шалости, опасные игры, бесстрашное и безрассудное отстаивание от всех и вся мальчишеской независимости, рыбалка, походы за ягодами и сорочьими яйцами… – все это было и навсегда осталось в памяти. Но было и другое – тяжелый труд, недетская усталость, вечное недоедание и недосыпание.
Сестра Василия Шукшина Наталья Зиновьева в своих воспоминаниях утверждает, что наряду с такими чертами характера, как независимость, суровость, «Вася с детства был жалостливым. Случалось, разобью я тарелку (а они все были на счету), приходит мама и спрашивает: «Где тарелка?» Не успеваю рта раскрыть, как он опережает меня: «Я ее разбил нечаянно». Он знал, что мне за это попадет, а ему нет, потому что в доме он был мужичок, помощник. Боже, как я ему была благодарна! И не только явные его провинности прощались мною, но я даже делилась кусочком сахара, который мама нам выдавала два раза в неделю.
А как он, еще подросток, переживал по-взрослому за корову Райку! Стояли лютые морозы, а кормить ее нечем. Мама купила воз сена и говорит, что сено плохое, одни дудки. Вася начал в руках мять это сено-дудки и с рук давать его корове. Но мама убедила сына, что Райка сама разжует. А когда мы ждали теленочка, Вася готов был с Райкой ночевать, он гладил ее, жалел…» [19].
В рассказе «Далекие зимние вечера» – Ванька, в другом – Петька, в третьем – Витька… Но повсюду в произведениях Шукшина «о детстве» действует, в сущности, один и тот же герой – мальчишка, подросток военных лет – герой и характер явно автобиографический… Ванька Колокольников, главный герой рассказа «Далёкие зимние вечера» – образ противоречивый, как и Вася Шукшин: может дракой закончить игру в бабки, прогулять в школе уроки, но дома он – главный помощник матери.
Есть у писателя и целый биографический цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова» (во время учебы в школе и в Бийском автомобильном техникуме Василий Шукшин был записан как Василий Попов, по девичьей фамилии матери).
Перед нами – пугающий образ опустошенного ребенка. Ваня Попов словно не знает даже азов нравственности. Он пытается курить, ворует в огородах, ворует книги из школьного шкафа, помогает матери в воровстве колхозного сена, в тринадцатилетнем возрасте матерится и лжет на взрослых колхозных полевых работах… Не случайно автор отмечает, что на базаре в городе Ваню больше всего вдохновили жулики. «Однако у читателя не появляется желания осудить за эти явные грехи ни героя, ни его мать, которая должна была бы научить, что воровать, лгать – нехорошо, – пишет протоирей Сергий Фисун. – И автор не судит их. Герои коллективизации и военного времени словно существуют в ином нравственном бытии. Эти люди в прямом смысле выживают. Несмотря на стихию разрушения, несмотря на все усилия внешнего мира, – выживает семья. Именно поэтому так жалко корову Райку – она не только член семьи, она основание, она последняя надежда сохранить это достоинство семьи. Не случайно именно после гибели Райки в цикле рассказов появляется новая страница – уход в город. Но Шукшин показывает, что невозможно даже ради выживания попирать нравственность. За это приходится все равно платить. Герои выживают физически в тех нечеловеческих условиях коллективизации и войны. Но души их ранены, кажется, навсегда. Попранная нравственность рождает растревоженную совесть. И весь ужас этой растревоженной совести и души в том, что герои Шукшина не знают причины и истоков этих мук. Тем более не знают, как эти муки унять» [18].
Мир Шукшина был во многом обусловлен военным детством. «Пусть это не покажется странным, но в жизни моей очень многое определила война. Почему война? Ведь я не воевал. Да, я не воевал. Но в те годы я уже был в таком возрасте, чтобы сознательно многое понять и многое на всю жизнь запомнить», – пишет в своей автобиографии В.М.Шукшин. Но каким бы трудным ни было детство, для писателя оно было неповторимым праздником: «Ах, какие это были праздники! (Я тут частенько восклицаю: счастье, радость, праздники!) Но это – правда, так было. Может, оттого что детство…»
«Я уверен, что писателем человека делает детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что и дает ему затем право взяться за перо»,– эти слова принадлежат Валентину Распутину, но относятся и к Шукшину, и к Есенину.
В отличие от Шукшина, Сергей Есенин в первые годы сознательной жизни воспитывался не матерью, а бабушкой. «Сиротство при живых родителях, безусловно, сказалось на его душевном облике. Впечатлительность, душевная хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый напускной дерзостью, своеобразным деревенским «юнкерством», за маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир будущего поэта», – так характеризуют суть есенинского детства и отрочества Куняевы [17]. Это подтверждает и то, что в 14 лет Есенин выучил наизусть «Мцыри», а прозвище «монах» (хотя эту кличку получило всё потомство дедушки поэта по отцу) в отношении к Сергею как нельзя лучше отражало его душевную уязвимость.
И хотя во всех автобиографиях Есенин старался представить себя коноводом, вожаком, лидером, подчёркивая свою силу и ловкость, вспоминая, как дрался со сверстниками, как был «средь мальчишек всегда герой», как удачливо ловил рыбу, как ловко – ловчее всех! – лазал по деревьям к птичьим гнёздам, как «обносил огороды», играл в бабки, плавал за подстреленными утками (один в один как в детстве Шукшин), но это, скорее всего, была лишь маска, скрывающая легко ранимую душу и отнюдь не богатырское тело. А ещё из детства он вынес искреннюю любовь ко всему живому. «Птиц и щенков, и любое живое существо любил кормить с рук», – вспоминала мать поэта. Эта любовь к животным осталась у него на всю жизнь.
Не черты деревенского «супермена», а отроческая замкнутость, созерцательность, душевная исключительность определят во многом и тон и тематику поэзии Есенина. Не скандалистом и сорванцом рос мальчик Есенин, а скорее мечтателем, кем и остался до конца жизни.
И в школе-интернате Спас-Клепиков, где учился Есенин, по мнению биографов, будущий поэт отличается от других учеников повышенной чувствительностью, уязвимостью, интеллигентностью. Учитель литературы Е.М.Хитров вспоминает, что Есенин отличался «нежностью своего характера», «у него первого заблестят от слёз глаза в печальных местах, он первым расхохочется при смешном». В 1912 году, в возрасте 17 лет, уязвлённый, как ему показалось, насмешками над ним, пытается отравиться, что ещё раз подтверждает, насколько хрупкой и уязвимой была его натура.
«Но не следует думать, что это было лишь какой-то игрой или позой, – пишут в своей книге «Жизнь Есенина» Станислав и Сергей Куняевы. – Несомненно, в отрочестве и юности у Есенина наступали такие минуты, когда он с трудом справлялся со всеми своими сомнениями, комплексами, слабостями, неудачами. «Небольшую, но ухватистую силу» поэт приобрёл позже, после знакомства и дружбы с Клюевым, научившим его надевать различные защитные маски, чтобы спастись от «страшного мира». С годами Есенин понял, что самая лучшая защита его поэтической души – это не воля и даже не талант, а умение носить ту маску, которая сегодня спасает тебя от посягательства корыстных и тёмных сил, жаждущих власти над беззащитным талантом. Итог этой многолетней внутренней работы сформулирован им в «Чёрном человеке»:
В грозы, бури,
В житейскую стынь,
При тяжёлых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым –
Самое высшее в мире искусство» [17,с.40] .
А ещё, что, безусловно, формировало характер и Есенина и Шукшина, – это страсть к чтению, появившаяся в раннем детстве.
Сергей Есенин был заядлым книголюбом, и среди сверстников его выделяло то, что в руках или под рубахой у него почти всегда была какая-нибудь книга. Приезжая домой на побывку из училища, утыкался в привезенные книги и, по свидетельству сестер, «ничего другого не желал знать». А ежели мать начинала ворчать, убегал из отчего гнезда то на рыбалку, то в поля, а чаще в гости к константиновскому священнику отцу Ивану. Любимым писателем Есенина на всю жизнь стал Н.В. Гоголь.
А Шукшина в детстве сельские ребятишки дразнили «Гоголем», у него же есть биографический рассказ «Райка и Гоголь».
По воспоминаниям сестры, «книги к нему пришли как-то сразу, они не были его увлечением с детских лет, и он резко сменил бабки на книги. Читал все подряд без разбору, а мама боялась, что он зачитается и «сойдет с ума». Все его школьные учебники были без корочек. Когда мы были дома, он в эти корочки от учебников вкладывал художественную книжку, ставил ее на стол и читал. Мы видели, что у него, например, «География», а через некоторое время он ставил перед собой «Историю». Но однажды я заметила, что у него на корочке «Арифметика», а он ничего не пишет. Заглянула – и, конечно же, художественная книга. На этот раз я сказала маме, потому что боялась, как бы он не «свихнулся».
Брал Вася книги из библиотеки и тайком из школьного шкафа, который стоял в коридоре. Это были тоненькие брошюры о Мичурине, Лысенко. «Происхождение жизни на земле» и много, много других. Читал днем и ночью. Даже умудрялся читать при лунном свете или с жировухой. Наливая во флакончик жира, протягивал веревочку (фитилек) через картофельный пластик, укрывался одеялом с головой и читал. А однажды заснул с этим горящим фитильком и чудом не задохнулся. Но одеяло все-таки прожег.
По соседству с нами жила учительница географии Анна Павловна Тиссаревская, эвакуированная из Ленинграда. Мама однажды поделилась с ней о запойном чтении сына и ее боязни за его здоровье. Учительница пришла к нам домой, поговорила с Васей, написала список книг и посоветовала, как читать, чтобы было не во вред школьным урокам и оставалось время для тех же игр. Или он был таким послушным, или помогло ее искреннее желание помочь Васе, но он изменился и читал уже спокойнее, не прячась, и потом мама даже сама покупала ему книжки.
В зимнее время мы залезали втроем на любимую русскую печку, ставили рядышком лампу. Вася ложился с краю, мама в середине, а я у стенки, и он читал нам. Злился, переживал, когда мы с мамой начинали засыпать, заставлял нас пересказывать прочитанное или сказать, на чем он остановился. Но так как ни та, ни другая ничего не могли ему ответить – плакал» [19].
О круге чтения Шукшина вспоминает и Мария Шумская, первая любовь писателя: «Когда книги читал, брал все положительное к себе. И полушутя старался походить на «великих». На Джека Лондона, на Ленина, даже и на Сталина («Знаешь, буду носить сапоги, как Сталин»). Когда ходил в библиотеку, всегда брал и художественную литературу, и Маркса, Энгельса, Ленина. Многое брал и стремился быть известным, как они».
Шукшин несколько раз упоминал в некоторых интервью и статьях «книгу юности» – «Мартин Иден», высоко ценил в целом Джека Лондона как писателя, не раз вспоминал о нем в задушевных товарищеских беседах о литературе. «Эта книга, – говорит В. Мерзликин, – была им не просто прочитана, а изучена еще до 1950 года». По тому же свидетельству, молодой Шукшин даже во внешних каких—то черточках и манерах подражал Мартину Идену. К тому же можно было без особого труда заключить, что молодой Василий Макарович воспринял эту книгу еще и как своего рода руководство к действию, как «писательский самоучитель».
Подражание, следование Мартину Идену неминуемо приводили к воспитанию железной воли, к строгому и даже аскетическому образу жизни. Герой Джека Лондона говорил о себе: «Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто оттого, что выспался… Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните, у Киплинга – о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что, если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух… И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа». То же самое мог рассказать о себе не только совсем молодой Шукшин, но – и еще в большей степени – Шукшин тридцатилетний и сорокалетний. С той только разницей, что он не пристраивал стальную шпору, а пил стакан за стаканом черный кофе, тер до боли в глазах виски и курил сигарету за сигаретой.
Это будет потом, а в детстве и юности, которые прошли в родных местах, Есенин и Шукшин начнут свой творческий путь, здесь их настигнет первая любовь, здесь сделают свои первые шаги на трудовом поприще. И снова многое их сближает.
Сергей Есенин заканчивает Спас-Клепиковскую второклассную церковно-учительскую школу, получив «звание учителя школы грамоты», но учителем так и не поработает, уехав в Москву и став поэтом. Василий Шукшин недолго проработает в школе сельской молодёжи директором и учителем русского языка и литературы, с теплотой вспоминая об этом времени: «Учитель я был, честно говоря, неважнецкий. Без специальности, образования, без быта. Но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-то новое, важное и интересное. Я любил их в такие минуты и в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас таких минут. Из них составляется счастье». Весной 1954 года Шукшин уедет из Сросток, как и Есенин, в Москву, где будет проповедовать доброе и вечное в роли писателя, актёра и режиссёра.
Ещё до Москвы Есениным были написаны первые стихи, которые в 1912 году составили маленький цикл «Больные думы» (из произведений, созданных Сергеем Есениным в 1910-1912 годах, в настоящее время известно более 60, среди которых и первая поэма – «Сказание о Евпатии Коловрате…»), а Шукшин, по воспоминаниям современников, приезжая домой на каникулы или на выходной день, «что-то писал, но читать написанное никому не давал».
А однажды попросил сестру отправить пакет в журнал «Затейник». На обратном адресе была написала фамилия – «Шукшин». Но из Москвы он ответа так и не получил. Бросив техникум, Шукшин открылся матери, что поедет в Москву, потому что посылал рассказы в журнал «Затейник» и ему написали, чтобы он приехал в редакцию. Это был обман». Только в 1958-м году состоится писательский дебют Шукшина – в журнале «Смена» будет напечатан его первый рассказ «Двое на телеге».
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Ещё до отъезда в Москву Шукшин первый раз влюбился. Его избранницей стала Маша Шумская. Они познакомились, когда Василию было пятнадцать, а ей – четырнадцать лет. Он – студент Бийского автотранспортного техникума, она – школьница. «Красивая», «улыбчивая», «обаятельная», «доверчивая» – такими теплыми эпитетами награждают Марию Шумскую все, кто ее когда-либо знал близко.
Однажды Маша возвращалась с молодежной вечеринки по Чуйскому тракту домой и вдруг услышала сзади чьи-то шаги. И хотя места у них считались безопасными, она не на шутку испугалась. Сошла на обочину, а незнакомец – за ней. Тут у нее сердце вообще в пятки ушло. Незнакомец же вдруг подбежал к ней, прижал к груди, а после того как она вскрикнула, умчался прочь.
В своем письме другу Шукшин так описывал чувства, охватившие его в тот вечер: «Домой на крыльях полетел…, разволновался очень. Все сразу полюбилось мне в этой девочке: глаза, косы, походка. Что она тихая, школьница, комсомолка…» В течение двух недель после того первого, ночного, «свидания» Шукшин не решался подойти к Маше. А потом на одной из вечеринок Василий все-таки поборол свою робость – подошел к Маше и попросил разрешения проводить ее до дома. Она согласилась.
В письме другу Шукшин потом писал: «Помню, была весна… Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией (ее все так называли, и мне это очень нравилось), изумлялся собственной смелости… Иду и молчу как проклятый. А ведь мог и приврать при случае…»
Отношения – тогда это называлось «дружили» – затянулись на годы. Вскоре после знакомства с Шумской Шукшин бросил техникум и уехал из дома. Родным сказал, что уезжает в Москву делать карьеру писателя, а на самом деле отправился в Калугу. Там устроился на работу. В течение двух месяцев Маша не получила от него ни одной весточки. Естественно, сильно переживала по этому поводу, считая, что Василий ее забыл. Видя Машину тоску, сестра Наташа стала писать ей письма якобы от него. И когда Шукшин наконец прислал весточку, обман открылся. Потом Василий ушел в армию, и переписка между влюбленными продолжилась. Из армии Шукшин вернулся в 1953 году. В 1955 году Шукшин и Шумская поженились.
Какое-то время все было прекрасно: молодые друг в друге души не чаяли и частенько, сидя вечерами на крыльце, пели свою любимую песню «Вечерний звон». Но потом Василий заметался и решил отправиться в Москву поступать на сценарный факультет ВГИКа. Жена и мать не стали препятствовать. Василий поступил во ВГИК с первого захода, и с этого момента столичная жизнь захватила его полностью. Нет, контактов с женой он не прерывал, общаясь с ней посредством писем, но постепенно весточки от него приходили все реже и реже. А потом по Сросткам и вовсе пошли гулять слухи, что у Шукшина в Москве появилась новая любовь. Шумская была настолько поражена этой новостью, что и сама перестала ему писать. А ее отец, воспылав к зятю лютой ненавистью, отправился в Москву с твердым намерением его… зарезать. К счастью, его задумка не осуществилась. Но он вернулся на родину злой как черт, и это окончательно убедило Марию в том, что слухи о романе мужа – верные.
О бурной московской жизни Шукшина она знала. Знала всё… А он ей писал: «У меня тут ничего не произошло и не происходит. Некогда писать. Побриться некогда». Говорит, что верила. Поставила его на пьедестал и смотрела снизу вверх.
Увиделись только в 1964-м единственный и последний раз. Он предлагал начать все сначала. Она промолчала и ушла. Оставила свою фамилию. Видимо, чувствовала, что все выйдет примерно так. А когда начался обмен паспортов, свой, со штемпелем о заключении брака с Шукшиным, хранила до последнего.