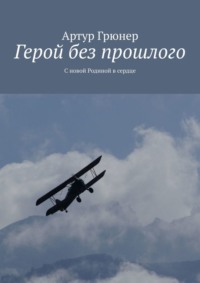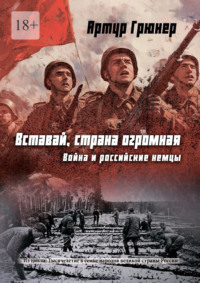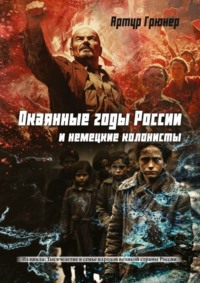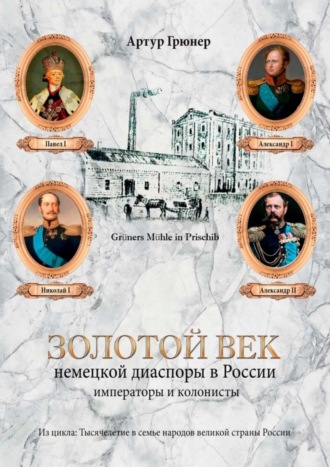
Полная версия
Золотой век немецкой диаспоры в России. Императоры и колонисты
Грани ее деятельности настолько разнообразны, что их можно сравнить разве только с безграничными просторами ее державы. Ее манифесты с приглашением крестьян и ремесленников были лишь одной частью ее государственных мероприятий. Она должна была проявить себя настоящей правительницей государства, заслужить доверие и поддержку русского дворянского окружения. В этом ей было в тысячу раз труднее, чем ее кумиру Петру I, но она добилась своего.
Для величия России она сделала не меньше, чем Петр, хотя было уже другое время, другие взгляды на события, другие подходы. Она не тратила время на балы и маскарады, празднества и фейерверки, хотя и это было присуще для жизни высшего общества того времени. Она старалась укрепить свои позиции и достигала этого тем, что находила правильное решение важных для страны вопросов.
Опыт ее жизни при дворе Елизаветы Петровны, ее наблюдательность, глубокий аналитический ум и умение правильно оценить ситуацию позволили ей утвердиться на российском Олимпе и править (очень хорошо править!) огромной Державой в течение трети века, постоянно приумножая ее территорию, значение в мире и ее величие.
Осознание своей роли и подготовка
к управлению державой
Великая княгиня Екатерина Алексеевна готовилась к руководству великой державой Россией все годы пребывания в стране при дворе Елизаветы Петровны. Об этом она сама пишет в «Записках Императрицы Екатерины II», опубликованных в изданиях Вольной русской типографии Герцена и Огарева в Лондоне в 1859 году.
Немецкая принцесса, совершенно легитимным путем, как супруга будущего Императора Петра Третьего, она вошла в русский правительственный двор Императрицы Елизаветы Петровны и в продолжении 17 лет была Великой княжной со своим «молодым двором», определенными правами и одной лишь обязанностью – родить очередного наследника, чтобы продолжить род Петра I на российском престоле.
Этот период ее жизни она описывает как время бесконечных развлечений и танцев, переездов из одной резиденции в другую, время склок и флирта при дворе на самом высоком уровне. Наряду с этим она отмечает, что в противовес своему бестолковому супругу, она серьезно занималась образованием, как с приставленными учителями, так и самообразованием. Готовясь к высокой миссии в России, она приняла православие, соблюдала все религиозные законы и обычаи и предпочитала прислугу из русских людей, чтобы быстрее и как можно лучше освоить русский язык.
Вписаться в дворцовую жизнь!
Молодая и чувственная женщина, она быстро приобщилась к нравам двора и в ответ на холодность супруга, в открытую предпочитавшего других женщин, также заводила любовников. Время и нравы высшего общества того времени были таковы, что не иметь любовника считалось неприличным.
O tempora, o mores!
Она не отставала от других великих и невеликих княгинь и принцесс, имела несколько беременностей, возможно, от разных мужчин, закончившихся неудачно. С рождением сына-наследника у нее как-то не получалось, что она сама объясняла недостаточным вниманием к ней ее законного супруга. В приведенной книге-исповеди она прямыми намеками проиводит читателя к мысли о том, что Елизавете Петровне после долгого ожидания важно было получить от нее наследника, и уж не так важно, от кого, от ее бестолкового племянника, или кого угодно, но чтобы был мальчик.
Елизавета Петровна якобы даже велела фрейлине Чоглоковой, приставленной к Екатерине в качестве наставницы и шпионки, нанять красивую вдовушку аптекаря, чтобы та научила дурака-племянника делу. Можно предполагать, что дело улучшилось после операции по поводу фимоза у супруга. Или вдовушка аптекаря хорошо справилась со своими обязанностями. Или все-таки… Салтыков помог? Но на одиннадцатом году жизни при дворе Екатерина разрешилась, наконец, мальчиком, нареченным Павлом.
Есть наследник!
Императрица сразу же забрала от нее ребенка, решив воспитывать его в любви ко всему русскому, в отличие от прусского духа, пропитавшего его племянника Петра. А про только что родившую мать, как пишет Екатерина, совершенно забыли, и она двое суток лежала одна, без какой-либо помощи – еле выжила.
Такое поведение всевластной Елизаветы привело позднее к кривотолкам о том, что рожденную девочку подменили родившимся в это-же время мальчиком-калмычонком, лишь бы был наследник мужского рода. Ребенок был до чрезвычайности курносым, что не укладывалось в профиль двух длинноносых родителей. Это особенно заметно на картине художника Георга-Христофора Гроота, где счастливые родители представлены с мальчонком лет пяти-шести, одетым по-восточному и в чалме. Хотя находились люди при дворе, как сообщают хронисты, которые отмечали внешнее сходство Павла с отцом Петром Федоровичем.
Ходили слухи и о другой версии. По этой легенде к моменту родов во дворец доставили только что родившегося ребенка из чухонской (так называли в то время эстонцев и финнов, населявших окрестности Петербурга) семьи из близлежащей деревни Котлы, которую в течение одной ночи снесли до основания, а жителей вместе со священником переселили в Сибирь. Позднее в Сибири объявился «брат Павла I Петровича», которого привезли в Петербург, несколько месяцев допрашивали, а затем отправили обратно.
Вопрос о подмене ребенка как-то не укладывается в сообщения современников о том, что при родах присутствовала целая высокая компания в лице самой императрицы Елизаветы Петровны, мужа Петра Федоровича и особенно доверенных лиц императрицы братьев Шуваловых. Навряд ли при столь многочисленном представительстве подмена ребенка могла остаться в тайне. А вместе с тем, присутствие при родах высоких особ могло быть создано специально, чтобы запутать вопрос, а?
Еще раз: O tempora, o mores! Каковы времена, таковы и нравы!
Бабка Елизавета Петровна воспитывала Павла именно как будущего наследника, надеясь исправить ошибку выбором своим наследником Петра, сына голштинского герцога Карла Фридриха, племянника шведского короля Карла XII. Слухи, сплетни или разговоры при дворе о сомнительном отцовстве не прошли впоследствии мимо ушей Павла I Петровича, самого «некрасивого», как пишут о нем, императора, который своему министру даже давал задание прояснить вопрос о его происхождении. Также он велел сохранить и проанализировать все документы, оставшиеся после скоропостижной смерти матушки. Но и эти документы, как и вышеуказанные «Записки» матери свет на его происхождение не пролили.
Тайна рождения Павла I тревожила императорский дом Романовых в течение всей дальнейшей его истории. По воспоминаниям современников, Александр III, а это почти через сто лет, в связи с кривотолками относительно рождения Павла I Петровича, даже создал закрытое общество из доверенных людей, которое должно было заниматься изучением генеалогии рода Романовых. Узнав, что его прадед – вероятный сын Салтыкова, воскликнул: «Слава Богу, мы русские». А получив от историков опровержение, облегченно вздохнул: «Слава Богу, мы законные».
И еще дети?
Как донесли до наших дней злые языки, молодая и здоровая великая княгиня Екатерина за 17 лет при дворе успела родить нескольких детей, законность которых вызывала сомнение. Упоминается о двух девочках, и сыне. В хронологическом порядке это выглядит следующим образом.
Еще при жизни Елизаветы Петровны она 9 декабря 1757 года родила дочь Анну Петровну, которую Петр Федорович не хотел признать своей, но под давлением тетки Елизаветы и хорошего денежного вознаграждения согласился признать законнорожденной. Ходили слухи, что отцом девочки являлся Станислав Понятовский, саксонский представитель при дворе, который незадолго до рождения девочки был отослан в Польшу, где в 1764 году с помощью Екатерины (уже императрицы) был провозглашен королем.
Елизавета Петровна не доверяла воспитание детей молодым супругам и редко допускала свидания с ними. Но несмотря на такие предосторожности Анна Петровна, великая принцесса, умерла 19 марта 1759 года, в возрасте одного года и трех месяцев от оспы.
Кому тайные роды, кому развлечение
Затем 11 апреля 1762 года был снова мальчик, но уж очень явно от ее фаворита того времени Григория Орлова. Елизавета Петровна скончалась 5 января того же года, и на престоле уже был Петр III, так что рождение ребенка от фаворита должно было произойти в строгой тайне. Дело обставили так, что при наступлении схваток гардеробмейстер Екатерины Василий Григорьевич Шкурин устроил поджог своего дома, чтобы отвлечь Петра, любившего наблюдать пожары. Государь поехал смотреть, как горит дом, а государыня за это время успела родить сына и тут же передать его на воспитание Шкурину, с детьми которого он рос в детстве.
Ребенок получил имя Алексей Григорьевич Бобринский и в 1774 году вместе с сыновьями Шкурина был отправлен учиться за границу, в специально для них организованный пансион в Лейпциге. Затем он с золотой медалью окончил Сухопутный кадетский корпус, получив чин армейского поручика. В армии, однако, не служил, а по уставу Кадетского корпуса того времени вместе с другими лучшими выпускниками получил право на трехгодичное путешествие по стране и за границей. Живя несколько лет за границей, сделал огромные долги, чем вызвал недовольство матери, определившей ему место жительства в городе-крепости Ревеле.4
После увольнения из армии в чине генерал-майора А.Г.Бобринский удалился в свое имение Бобрики в Тульской губернии. Был женат на баронессе Анне Унгерн-Штернберг, с которой имел четырех детей. А кроме того, граф Бобринский имел еще и внебрачного сына Райко Николая Алексеевича (1794—1854), российского офицера, участника Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, подполковника греческой армии.
Еще три девочки?
По слухам, распространявшимся английским послом Геннингом, Екатерина II и граф Григорий Орлов были родителями еще двух девочек, которых под фамилией Алексеевы воспитывала первая камер-фрейлина и поверенная императрицы Протасова, называя их своими племянницами.
Последним ребенком Екатерины II, по-видимому, следует считать Елизавету Григорьевну Темкину (24 июля 1775 – 6 июня 1854), предположительно от Григория Потемкина, ее фаворита того времени и сподвижника, с которым она, по слухам, была тайно обручена. Девочка родилась и воспитывалась в московском доме князя Григория Потемкина, считалась его дочерью с укороченной фамилией, как это было принято в то время для незаконнорожденных, но признанных детей.
Ее рождение Екатериной вызывало сомнение у современников по причине того, что Екатерине в 1775 году было уже 46 лет, то есть, была в сомнительном родоспособном возрасте. Косвенным подтверждением этому является и то, что сама Екатерина ее дочерью не признала до конца своей жизни.5
Укрепление монаршей власти
Сумбурный приход к власти уже через полгода после смерти Елизаветы Петровны стал для Екатерины возможным благодаря бездарности правления Петра III, восстановившего против себя своим преклонением перед всем «пруссаческим» и дворянство, и армию. Как только она узнала о том, что он отдал приказ строить для нее дом на территории крепости Кронштадт, куда он решил заточить ее и жениться на своей любовнице Елизавете Воронцовой, она поняла, что тянуть с переворотом нельзя.
Ей помогли гвардейские офицеры братья Орловы, с одним из которых, Григорием, она находилась в любовной связи. Все пятеро братьев Орловых были любимы в армии, они и еще несколько офицеров (братья Иван и Никита Панины, братья Алексей и Кирилл Разумовские, Петр Пассек и другие) сумели убедить солдат выступить против Петра III и возвести на престол Екатерину, имевшую к тому же сына, законного наследника Павла Романова.
Дворянский род Орловых
в судьбе Екатерины II
Первые годы после государственного переворота были временем, о котором Екатерина писала подруге, что «Орловы – это для меня все». И действительно, примерно первое десятилетие своего правления она могла быть уверенной в беспрекословной поддержке армии благодаря Григорию Орлову и его братьям.
Дворянский род Орловых взял свое начало от бывшего стрелецкого подполковника Ивана Ивановича Орлова. Этот стрелецкий начальник по прозвищу Орел, приговоренный к смертной казни, был прощен Петром I за храбрость, проявленную на пороге смерти. В дальнейшем он верой и правдой служил Императору.
Но сына своего Григория Ивановича он направил не в армию, а на государственную службу, и тот со временем стал Новгородским губернатором. В 51 год он женился на 24-летней дворянке Лукерии Ивановне Зиновьевой, которая подарила ему 9 сыновей, из которых выжили пятеро. Отец воспитывал своих сыновей по-спартански, тем более что этому способствовала унаследованная еще от деда природа. Все они были уже с юности богатырского телосложения, как на подбор высокими, стройными и крепкими парнями.
Все они поочередно, Иван, Григорий, Алексей, Федор и Владимир, были записаны отцом в Императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус – военное училище для детей дворян (в то время называвшейся на польский манер шляхтой). Однако, в числе выпускников корпуса братья Орловы замечены не были, очевидно, по причине того, что они, неимоверно храбрые и честолюбивые, рвались на фронт, в действующую армию. Ведь шла Семилетняя война с постоянным противником Пруссией, надо было успеть отличиться, завоевать награды и признание.
Все они явились активными участниками государственного переворота и прихода Екатерины к власти, за что были ею возведены в графское достоинство. Наибольшую известность получил Григорий Орлов, тайный возлюбленный Екатерины, а после утверждения ее самодержицей, ставший ее официальным фаворитом.
Не закончив обучение в Кадетском корпусе, он в битве при Цорндорфе остался в строю после трех ранений, заслужив признательность в среде офицеров и солдат. Он возвратился в Петербург в свите плененного графа Шверина, личного адьютанта Фридриха II, и после некоторых любовных похождений (а чем еще заниматься гвардейцу вне войны?) попал в поле зрения созревшей для любви 30-летней и скучающей великой княгини.
Обеспечив приход Екатерины к власти, он в короткий срок занял самые высокие посты в армии и государстве. Он собирался жениться на Екатерине, для чего для него был исхлопотан титул князя Римской империи. Его желание жениться на государыне поддерживали все его братья, но при дворе были и трезвые головы, имевшие большой вес и такие же заслуги при восхождении Екатерины к власти, как и братья Орловы.
Таким властным вельможей был Никита Панин, руководитель внешней политики и наставник цесаревича Павла, активный участник возведения Екатерины на престол. На заседании Государственного Совета он по этому поводу заявил, что «Государыня властна выйти замуж, но госпожа Орлова никогда не станет Государыней», а когда Григорий Орлов начал по этому поводу возмущаться, то добавил, что и его могут «вздернуть». Подтверждением тому был назревший против Орловых заговор, известный как «дело Хитрово», заговор гвардейских офицеров против братьев Орловых в 1763 году. На улицах Москвы и Петербурга люди срывали со стен портреты императрицы и Григория Орлова, которого считали братом убийцы законного императора Петра III.
Отступив от мысли женитьбы Григорий Орлов старался пополнить свое образование, но все-же, по мнению самой императрицы, не преуспел в этом. Он не проявил себя как государственный деятель, не стал ее правой рукой, как позднее Григорий Потемкин, а был только проводником ее замыслов.
Как пишут историки, не отличаясь крупным умом, но мягкий и добрый, он поддерживал ее в благих начинаниях, особенно первые годы ее царствования. Он участвовал в Комиссии по составлению Уложения, был выбран в Маршалы (руководителем комиссии), но отказался от этого звания. «Не царское, мол, это дело – четыре дня в неделю заниматься говорильней». Да еще в этой глуши, в Москве. Лучше жить в соседней комнатке государыни и спать в ее обьятиях!
Но он был способен выполнять ее особые поручения. Так, в 1771 году он был послан Екатериной в Москву для борьбы с «моровым поветрием» – чумой, принесенной в Москву из Северного Причерноморья во время русско-турецкой войны. Умирало больше тысячи человек в день, что привело к чумному бунту с убийством архиепископа Амвросия. Толпа разграбила Чудов и Донской монастыри и стала громить богатые дома, карантины, чумные больницы. Григорий Орлов действовал умело и решительно и сумел ликвидировать чуму и навести там порядок.
Во время первой турецкой войны он выдвинул план освобождения Греции и настоял, совместно с братом Алексеем, на посылке флота в Средиземной море.
В 1772 году был направлен в Фокшаны для переговоров с турками, но выведенный из терпения двуличием турок, прервал переговоры, чем вызвал неудовольствие императрицы.
Ну что тут поделаешь?
Не дипломат он с натянутой улыбкой на лице, а простой русский рубаха-парень…
Он был 11 лет фаворитом императрицы Екатерины II, затем, получив «отставку», 43-летний Григорий Орлов женился на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. Брак был недолгим, через 4 года супруга скончалась от чахотки. Григорий помешался рассудком и тоже умер еще через 2 года в апреле 1783 года.
Его брат Алексей Орлов (1737—1808), генерал-аншеф. Как самый даровитый из братьев, был инициатором переворота 1762 года, удавшегося главным образом, как утверждают историки, благодаря его расторопности и распорядительности. В 1765 году он был командирован на юг для преупреждения готовившегося там восстания среди казаков и татар. С заданием успешно справился.
Был, по-видимому, больше дипломатом, чем касавчик младший брат.
Первая турецкая война застала его в Италии, где он находился на лечении.
При этом интересно, чем мог болеть этот, как бык здоровый, детина, чтобы ему надо было лечиться обязательно в Италии? Не иначе, как «французской болезнью», лечившейся в то время исключительно меркурием, то бишь, ртутью, которую надо было точно дозировать, а это могли лучше всех делать итальянские врачи, имевшие 2—3 вековой опыт лечения болезни, не знавшей границ и залетевшей в Россию вместе с увлечением дворянства галломанией, то есть, всем французским.6
А поправивший здоровечко в Италии Алексей Орлов направил в Петербург составленный им план действий против Турции в Средиземном море и был назначен руководителем всего мероприятия. В этой роли он оставался до окончания войны и достиг важных успехов. За победу над турецким флотом под Чесмой был награжден титулом Чесменский. В 1773 году он сумел заманить к себе на эхту и пленить самозванку княжну Тараканову.
После войны в связи с охлаждением Екатерины к брату он и к себе испытал ее холодное отношение. В 1775 году уволился со службы. Жил в своем Орловском имении, разводил лошадей (знаменитых Орловских рысаков путем соединения арабской, фрисладской и английской породы).7
Владимир Григорьевич Орлов (1743—1831) на 20 году был отправлен в Лейпциг, где в течение 3 лет занимался естественными науками. В 1766 году был назначен директором Академии Наук. Он содействовал научным экспериментам (Паллас) и заботился о русских студентах за границей. В 1767 году сопровождал Екатерину в ее путешествии по Волге, которое описал в своем дневнике. В 1775 году был уволен от всех дел и перехал в Москву.
Иван Григорьевич Орлов – старший из братьев, награжденный пенсией за государственный переворот 1762 года вскоре вышел в отставкау и жил в Москве или своих поволжских имениях.
Федор Григорьевич Орлов (1741—1796) генерал-аншеф. Юношей участвовал в Семилетней войне. После переворота 1762 года был назначен обер-прокурором одного из департаментов Сената. Во время турецкой войны участвовал вместе со старшим братом Алексеем в блистательной «Архипелагской экспедиции», кстати, оказавшейся совсем не блистательной, так как своей цели, освобождение греков из-под османской тирании, она не достигла.8
Глава 3
Екатерина II и «завоевание» дворянства
Екатерина II быстро познала, что опорой абсолютной монархии может быть только дворянство – класс собственников земли и крестьянства, к которому относится и гвардия, приведшая ее к власти. Политике опоры на дворянство она следовала всю свою жизнь, нисколько не заботясь о положении самого забитого, бедного и бесправного класса крестьянства, составлявшего абсолютное большинство населения. Она как огня боялась революции, как это произошло во Франции, противилась малейшим поползновениям ущемления своей власти конституционной монархией, которую предлагали передовые мыслители того периода, в частности, Никита Панин.
Ознакомительная поездка императрицы
по Волге
Для укрепления своего авторитета в высших кругах общества Екатерина II на шестом году своего правления предприняла ознакомительную поездку, так называемый «Волжский вояж», водным путем по Волге из Твери в Синбирск, который длился со 2 мая по 5 июня 1767 года. При этом посещение ею саратовских земель с ее колонистами даже и не планировалось, хотя смысл поезки, вроде бы, был «ознакомление с состоянием дел в Поволжье».
Это путешествие по Волге с посещением лежащих на пути городов на специально построенных речных судах представляло собой целую флотилию из одиннадцати больших и ряда малых кораблей и лодок с общим экипажем в 1122 человек «армейских и прочих флотских, солдатских и адмиралтейских чинов». Кроме своего окружения из высшего дворянского сословия императрицу сопровождали иностранные послы со своими свитами. Для сухопутного «шествия» Екатерины II и придворных вельмож из Москвы до Твери было приготовлено 300 «дорожных колясок». Специально оборудованные кареты везли гардероб, ширмы, приборы, аптеку.
К приезду императрицы на тверской верфи была полностью закончена постройка судов флотилии для путешествия, закончена отделка Императорского путевого дворца и у пристани была пришвартована парусно-гребная тринадцатибаночная, то есть, с двумя вспомогательными парусами и 13 парами гребцов, галера «Тверь», уже опробованная на пути от Твери до Казани и обратно ее строителем и капитаном. Эта галера была флагманским судном гребной флотилии, специально обустроенной для постоянного пребывания знатных особ: императрицы Екатерины II и двух фрейлин, капитана, а также командира галерного флота графа И.Г.Чернышова.
Сопровождать государыню во время ее путешествия в качестве командира «Твери» был назначен капитан 1-го ранга П.И.Пущин. Согласно составленногй им табели, в экипаже галеры состояли 1 штаб-офицер, 3 обер-офицера, 14 унтер-офицеров и 190 рядовых. Даже если учесть, что большая часть рядовых использовалась в качестве гребцов, то все-же эта команда представляла неплохой штат охраны «Ея Императорского Величества»!
Водный маршрут начинался от Твери и шел на Углич, Рыбную слободу и затем на Ярославль. В каждом городе императрица со свитой сходила на берег, останавливалась у губернатора или в специально построенном дворце, отстаивала молебен в местной церкви или соборе, посещала исторические места, знакомилась с предприятиями, принимала подданных, выслушивала пожелания и жалобы.
В Ярославле по случаю приезда императрицы был устроен бал, на котором «государыня была одета в русском ярославском платье и кокошнике». Праздник закончился феейерверком. А далее, разобрав споры местного купечества, императрица велела Сенату заменить ярославского воеводу Кочетова, так как он «по нерасторопности своей должность исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством».
При подходе флотилии к Костроме императрица прежде всего посетила Ипатьевский монастырь – «колыбель Дома Романовых». Здесь она слушала литургию, после чего обедала с местным духовенством и дворянством, расспрашивая их о легенде про Ивана Сусанина и о городе. Узнав, что «как город сей, так и его уезд не имеют никакого герба», Екатерина II отправила в тот же день письмо генерал-прокурору Сената А. А. Вяземскому: «Прикажите в Герольдии сделать городу и уезду костромской герб, коим намерена их пожаловать».9
И еще одно событие заслуживает упоминания. Как отмечают историки, речи генерала А.И.Бибикова и местного архиепископа Дамаскина по случаю приезда императрицы в Ипатьевский монастырь стали дополнительным публичным признанием Екатерины II как законной правительницы как продолжательницы династии Романовых со стороны, как духовной, так и светской элиты государства
В Нижнем Новгороде императрице был представлен местный изобретатель-механик Иван Петрович Кулибин, впоследствии приглашенный в столицу. По просьбе местных купцов она постановила основать Нижегородскую торговую компанию, указав «торговать им, чем за благо разсудят».10
В Казани императрица пробыла более, чем в иных городах, целых пять дней. Посетила Богородицкий монатырь, где слушала обедню и прикладывалась к Казанской иконе Божьей Матери, украсив ее и образ Спасителя бриллиантовыми коронами. У ворот монастыря она встретила 90-летнего генерал-майора Нефеда Никитича Кудрявцева, соратника Петра I.