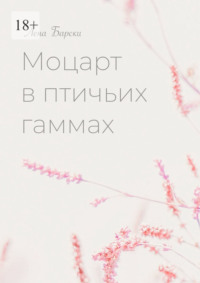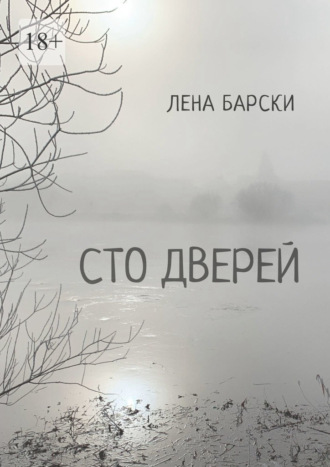
Полная версия
Сто дверей
Удары ногами по стенкам живота были очень ощутимыми, так что иногда ей казалось, что они переговариваются друг с другом, – её нерождённый сын и умирающая дочь, как по азбуке Морзе, – неровное дыхание здесь и два толчка в правый бок там. Сбивающийся ритм сердца здесь – и кувырок через голову где-то там. Рядом с ней сидел Штефан, прямо, как сейчас, сцепив ладони рук в замок и немного подавшись вперёд. Но в определённый момент всё вдруг стихло. Не чувствовались больше удары ног по стенкам живота. Смолкли удары сердца. Остановилось дыхание. И она всё поняла.
И никто не знал, повторится ли эта история ещё раз. Что будет дальше? Будет ли она повторяться вечно?
Мы сидели в гостиной. На столе остывали чашки с чаем. И все мы чувствовали себя ужасно беспомощными перед лицом завершённости природы. Безразличного совершенства природы. И понимали, как мы здесь бессильны.
В первые годы знакомства Штефан несколько раз навещал Ян Цин в Китае. С этой целью он ехал сначала в Москву на поезде из Берлина, там пересаживался на Транссибирский экспресс, который вёз его чуть больше недели до Пекина, а оттуда уже добирался до деревни Ян Цин местным транспортом и перекладными.
Мы восхищались его выносливостью и не уставали удивляться, как он выдерживал такое длинное и монотонное путешествие в поезде. На что Штефан невозмутимо отвечал, что всё очень просто, и нужно только уметь погрузиться в особое состояние ожидания и ничего не предпринимать. Сидеть и ничего не предпринимать. Так в полусонном медитативном состоянии он несколько раз добирался до Китая и возвращался обратно. Сидя в Транссибирском экспрессе Москва—Пекин, Штефан понял, что времени не существует.
После того, как мы уехали из Берлина в деревню, Ян Цин собиралась нас навестить, и мы даже договорились когда. Потом она внезапно исчезла. Связавшись через несколько месяцев со Штефаном, мы узнали, что Ян Цин уехала назад в Китай. Насовсем. Она устала тосковать по родине и бросила семью, а он устал её ждать и подал на развод.
С тех пор я часто думала о состоянии ожидания и о Штефане, когда он ехал в поезде по маршруту Москва—Пекин. Штефан не просто сидел в правильном поезде, который вёз его в правильном направлении. Он сидел в нём больше недели и не испытывал при этом дискомфорта. Неподвижное сидение, целая неделя без событий и свободы передвижения не наталкивались в нём на внутреннее сопротивление.
Всё происходило совершенно естественно. Он погружал себя в своего рода состояние антивремени, в котором время уничтожает само себя, но не навсегда. Оно как бы впадает в зимнюю спячку и программирует себя на самовосстановление к определённому сроку. Поезд ехал целую неделю. Штефан сидел в поезде и не чувствовал времени. Он не испытывал страдания. Времени больше не существовало. На его место приходило ожидание.
Нам говорят, что нужно жить так, как если бы каждый день был последним. Упаковать всё, что важно в один-единственный день. И сделать это очень быстро. Но когда вещи происходят слишком быстро, ты больше не можешь быть в чём-либо уверенной. Даже в самой себе. И тогда вещи, которые делаются быстро по принципу последнего дня, моментально превращаются в охапку неорганизованных событий, которые так стремительно проносятся над планетой твоей жизни, что ты не успеваешь заметить их индивидуальные черты. И чем выше их скорость, тем выше вероятность забвения. Чем быстрее, тем меньше содержания, о котором можно и стоить вспомнить.
Другое дело жить так, как если бы нам дана была целая вечность. Зная, что у нас есть несколько десятков, а то и сотен лет, мы бы окончательно перестали куда-то спешить. Тогда ценность теории необходимости проживания каждого дня как последнего была бы окончательно упразднена. На её место пришла бы другая: нужно жить так, как если бы перед тобой была целая вечность. И каждый из нас превратился бы в марсианина из романа Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране», который знает, что если друг хочет с тобой поговорить, то друг подождёт.
И если тебе необходимо что-то понять, то думать об этом можно целую вечность. Имея в запасе целую вечность, мы бы сохраняли понятия скорости, одновременности и многозадачности, но только как математических категорий, необходимых для развития техники и прогресса. Наши эмоции под эти категории бы не подпадали.
Крёстная мама моего сына начала в шестьдесят три года писать диссертацию. Соседка в семьдесят восемь лет записалась на курсы французского языка. Кто-то начал рисовать картины в возрасте сорок пять и пятьдесят лет. Время свершений и поворотов судьбы не определяется возрастом. Ожидание должно наполниться, как сосуд водой, до самого края. Время не имеет значения. Для того, что по настоящему важно, времени просто не существует.
Я часто вспоминаю Ян Цин. С тех пор, как она исчезла, прошло несколько лет. Недавно Штефан сообщил нам, что он так же, как и мы, оставил Берлин и переехал жить в деревню. Том играет на фортепиано и подаёт большие надежды. А Штефан купил себе мотоцикл «Харли-Дэвидсон» и передаёт нам всем большой привет. И ни слова о Ян Цин. Как будто её никогда и не было. Как будто она никогда и не жила.
Мой муж полушутя-полусерьёзно говорит, что там не всё чисто. И искать Ян Цин, наверное, нужно в окрестностях леса, на дне озера или в саду. Когда два человека из двух концов света совпадают по генетическому коду на 99.9 процента, то между ними складываются очень непростые отношения.
А я так не думаю. Я верю, что время не имеет значения. И когда-нибудь ожидание исполнится, как наполняется сосуд водой, – до краёв. Ян Цин наберёт мой номер, я подниму трубку на другом конце Вселенной, в ответ мне прозвучит высокое китайское «халльо» с особой вздёрнутой интонацией, как задранный подол платья. И мы встретимся. Здесь или там.
И я буду повторять – по-английски или по-немецки, по-русски или по-китайски, или даже просто молчать: «There is no time, but waiting is»,4 как строчку из романа или заклинание. И буду ждать, как Штефан в купе Транссибирского экспресса Москва—Пекин, нашей с Ян Цин встречи. И чувствовать себя, как студент из притчи, который каждый день садился перед лотосом и повторял мантру: «Драгоценный камень находится в середине лотоса».
Повторял, повторял. И не заметил, как погрузился в нирвану.
БУДДА ПОД БЕРЁЗОЙ
У нас есть друг по прозвищу Флинци. Он живёт со своей женой в маленьком домике – уютном гнёздышке, которое они вдвоём неустанно улучшают, обновляют и держат в стерильной чистоте. К дому примыкает сад, в котором растут два больших дерева – черешня и берёза. Черешня очень старая, высокая, до веток не доберёшься и стоит как-то сбоку, даже лестницу не приставишь, чтоб ягоды собрать. В начале лета несобранный урожай перезревает и падает на землю. И на эту сладкую падалицу слетаются тучи пчёл, ос и другой кишащей ползучей нечисти.
Чтобы попасть к террасе, за которой мы обычно пьём чай у Флинци, необходимо пройти возле черешни, осторожно обходя груды гниющего фруктового роскошества. При этом иногда наступаешь на влажные и скользкие лепёшки, всегда рискуя быть ужаленной каким-нибудь обиженным насекомым. Без болезненных последствий никогда не обходится.
Поэтому путь к террасе у Флинци в начале лета непростой. Добравшись до вожделенного стула, чертыхаешься на чём свет стоит, не теряя надежды своим бездонным страданием доказать для хозяина фундаментальную сомнительность существования черешни в это время и в этом месте. Но в ответ получаешь неизменное: черешня была, есть и будет.
В глубине сада растёт роскошная берёза с раскидистыми ветвями-косами, которые как в жалейной песне, по-девичьи грустно падают к земле. На одной из них болтаются качели, а у ствола сидит каменный Будда в позе медитации.
Это место имеет собственную энергию. Здесь чувствуешь себя по-особому спокойно и защищённо, как если бы ты попал в центр урагана – снаружи разбиваются волны и летят искры, а ты сидишь в укрытии тишины, где ничего больше не происходит. Благодать.
Поэтому любое чаепитие в доме у Флинци в начале лета заканчивается причастием к Будде под берёзой. Сначала проходишь через тернии и испытание черешней и укусами пчёл, а потом тебе даруется нирвана.
Флинци всю жизнь проработал в местном городском управлении. Работа непыльная и, самое главное, скучная, что позволяло ему часто уходить на больничный и заниматься настоящим любимым делом – медитацией.
Когда-то в бурной молодости Флинци попробовал медитировать и пропал. В медитации он познал свою истинную сущность и ясно увидел своё предназначение. С тех пор на протяжении более тридцати лет он медитировал – один, с женой, участвовал в летних лагерях и всевозможных массовых медитационных акциях, мог месяцами не произносить ни слова, поскольку того требовал устав той или иной программы. В перерывах между медитациям и работой организовывал и курировал в местной ратуше выставки художников из региона, где мы с ним и познакомились.
И вот недавно городская администрация решила сократить штат и аннулировать его должность. До пенсии ему ещё четыре года гулять, а должности и места в офисе больше нет. Уволить его нельзя из-за особого для Германии статуса чиновника. И тогда городская администрация решила отправить его на работу в школу – для пользы обществу.
Школа приказ приняла, но тяжело призадумалась и стала смущённо чесать себе голову: какие обязанности возложить на новоприбывшего? Диплома педагога у него нет, значит, права преподавать не имеет, ну а для социальных комбинаций и ситуаций в школе тоже есть сертифицированные работники.
Дать ему работу по сортировке колб в кабинете химии или по склеиванию палочек для игры на ксилофонах? Что делать?
Помню, я, зная об этих кулуарных разговорах, очень сочувствовала Флинци. Думала: вот так унижение – был, был человек, а теперь вот палочки подавай, да тарелочки переставляй с места на место. Несколько раз пыталась говорить с ним об этом и удивлялась отсутствию реакции и всякого душевного движения с его стороны.
И вот Флинци стал ежедневно появляться в школе. Ему выделили место в учительской недалеко от кофеварки. Он там сидел и сосредоточенно смотрел на экран компьютера. Иногда оживлённо общался с коллегами. Порой его можно было застать за склеиванием палочек и сортировкой тарелочек. Если нужна была срочная замена, Флинци был готов помочь и не роптал.
Со временем к нему стали посылать двоечников, которые упорно не делали домашние задания. И Флинци старался как мог, делился с ними тем, что умел лучше всего, – рассказывал им об основах медитации.
У него выработался способ влияния на разнуздавшихся хулиганов. В критические моменты во время урока он мог вдруг затянуть: «О-о-ом-м-м» – и класс тотчас же замолкал.
Наше общение в школе сводилось к small talk.5 Флинци подсовывал мне какие-то диссертации по медитации, делился ссылками на YouTube. И со временем я начала ловить себя на том, что, заходя в учительскую, первым делом ищу взглядом Флинци. Увидела, закрепила его в пространстве, успокоилась. Можно бежать дальше.
Однажды в перебежках между корпусами, выпускными экзаменами, обсуждениями, консультациями и просто уроками по плану я, проносясь мимо Флинци, услышала тихое:
– Лен, давай я тебя угощу кофе.
Бросила короткий взгляд на часы – успеваю.
– Хорошо.
В перерывах между первым и вторым глотком кофе услышала:
– Ты знаешь, недавно опубликовали исследование, которое научно обосновывает, что при глубоком вдохе и выдохе освобождаются особые симпатические энергии тела.
Молчим. Пьём кофе дальше.
– Слушай, Флинци, – затараторила я, внутренне подскакивая, как резиновый мячик, который не может остановиться. – Тебе надо вести блог. Многие люди ведут, которым есть что сказать. И люди будут это читать и им, может быть, будет интересно. – Я подбирала слова, одновременно пытаясь следить за глубиной собственного дыхания.
– Если я начну писать, то все сразу начнут меня определять в какую-то категорию: коммунист, расист, пацифист, нон-конформист, националист. А это будет неправильно, – ответил Флинци. – И вообще, я перерос в себе потребность высказываться и что-то сообщать людям. Если я что и рассказываю, то только, если меня попросят.
– Ну а ты всё-таки попробуй, – не могла успокоиться я.
В ответ улыбка и молчание.
Разговор оставил след. Время проходит, а я по-прежнему думаю о том, как это – не иметь потребности высказываться и сообщать что-то людям. Вдыхаю и выдыхаю полной грудью и думаю о симпатических энергиях тела, действие которых наконец доказала наука.
Вот так и живёшь, как в саду с черешней: пробираешься через тернии повседневности, претерпеваешь и вызываешь катастрофы, зализываешь своё ужаленное и жалишь сама, встряхиваешься и идёшь дальше.
А рядом Будда под берёзой, никуда не торопится и не имеет потребности в высказывании и сообщении чего бы то ни было людям.
И находясь рядом с ним, чувствуешь, как тебе становится хорошо.
ОБРАЗ БЕРЛИНА. NICHTS
Иногда я пишу очерки о великих городах. Но не так как это делает экскурсовод или культуролог. Я описываю города такими, как я их почувствовала в одно мгновение, в которое там находилась: в стиле быстротекущего впечатления, мимолётного взгляда, поворота головы или запаха мокрых листьев, всплеска воды в фонтане и отблесков солнца, запутавшегося под колёсами машин.
Париж, например, я восприняла, как столицу печали. Когда я впервые посетила этот город, целую неделю лил дождь. Мы жили в небольшой гостинице недалеко от Галереи Лафайет. В крошечной комнатке стояли две кровати, разделённые узкой щелью окна от пола до потолка, выходящего в глухой внутренний дворик. Дождь шёл и шёл, изо дня в день.
Капли стекали по стеклу, за окном стояла серая мгла, я старалась туда не смотреть и всё равно чувствовала, как великая грусть поднимается из глубины моей души и беззвучно заливает меня, как вода. Вода текла отовсюду – снаружи и внутри, со стен и с потолка, сначала тихо и безлико, а потом всё сильнее и сильнее, превращаясь в мощный поток и заполняя собой каждый угол и каждую щель, – в неизвестность и в никуда. От неё не было спасения – без формы и состояния, она находилась одновременно здесь и где-то далеко. При этой мысли меня охватывала невероятная тоска.
В Лондоне, наоборот, я увидела множество стилей и эпох, которые сосуществовали вместе на одной территории, как вещи на чердаке столетнего дома, вырастившего несколько поколений. Ни одна из вещей, накопленных веками, не выбрасывается. Ни один из предметов мебели не покидает стен дома. Всё сносится на чердак и ставится туда, где ещё есть свободное место, без плана и структуры. Казалось, Лондон построили люди, которые не в состоянии с чем-либо расстаться и держатся за каждую вещь и каждую былинку, лелеют в ней тысячи воспоминаний и не помнят её практической цели.
Старое и новое сосуществует в Лондоне на одной территории, но не сливается друг с другом, а как-то странно делит одно и то же пространство. Как если бы всем этим управляло сознание, которое боится отпускать и для которого расставание с каждым образом или стилем подобно маленькой смерти. Отчего вся культура, весь ареал Лондона кажется основанным на отрицании смерти и проявляется в этом навязчивом накоплении артефактов и истории, и неспособности о них забыть, даже если они давно умерли. И это состояние я называю экстравагантной сложностью.
В отличие от экстравагантной сложности Лондона в Берлине царит своего рода обезоруживающая простота. Она возникает в результате тонкого баланса между разрушительными и созидательными тенденциями на грани прошлого и настоящего, старого и нового. Попадая в Берлин, ты отпускаешь всё, что не соответствует тебе настоящему и получаешь взамен то, что тебе в данный момент нужно. Но не более того.
Когда мы жили в Берлине, у нас была знакомая – коренная берлинка, в молодости хиппи, асоциалка, социалистка, коммунистка, феминистка, пофигистка и вообще очень своеобразная женщина. Звали её Вендла.
Говорила она на чистом берлинском диалекте – Da kamma nich meckan6 – имела хорошо подвешенный язык и ни на что не жаловалась. Намазывала губы красной матовой помадой frei Schnauze,7 моргала опухшими глазами, как фальшивыми бриллиантами, никогда не брила ноги и подмышки, одевалась в несколько слоёв летней и зимней одежды одновременно в самых невозможных сочетаниях цветов, летом носила тёплые шерстяные носки на фирменные тапки «Биркеншток», а в остальном не знала никакой косметики, кроме хозяйственного мыла.
Вендла любила ходить в гости, просиживала в гостях часами и никуда никогда не торопилась. Времени у неё было много, трудовых обязательств никаких, муж давно умер, а из родственников осталась одна только троюродная племянница, которая занималась искусством. Вот именно это искусство часто становилось темой наших разговоров, из чего я заключила, что Вендла, хоть и безработная, но не без некоторого шарма таинственного артистического прошлого или, на худой конец, специального образования.
Вендла никогда никого к себе не приглашала. Даже единственную троюродную племянницу. Встречалась с ней где угодно – на вернисажах, на остановках метро, у входа в супермаркет или на скамейке в парке. Но никогда у себя дома. Собственно, никто даже не знал, где она живёт и в каких условиях. Поговаривали, что квартира у неё завалена от пола до потолка дорогими сердцу предметами из всех периодов прошлой и настоящей жизни, реальной и подразумеваемой, своей и чужой. И она не могла ни с одним из них расстаться.
Однажды я попросила её позаниматься со мной немецким:
– Поговори со мной. Мне так этого не хватает.
Вендла как-то криво улыбнулась, но сразу не послала. Я подумала, что это плюс. А потом взяла и внезапно исчезла из нашей жизни. И я подумала, что это минус. Вскоре после этого мы переехали в Северно-Вестфальскую деревню JWD, janz weit draußen, у чёрта на куличках, как сказала бы на берлинском диалекте Вендла. И контакт оборвался. Ещё через несколько лет нас навестила её троюродная племянница, та самая, которая занималась искусством, и рассказала, что Вендла умерла. Умерла она, как и жила, в совершенном одиночестве в приюте для тех, у кого не осталось больше никаких иллюзий.
Умирая, в беспамятстве повторяла одно единственное слово: «Nichts». Ничто. Я представила себе, как она лежит на чужой кровати в комнате, стены которой выкрашены в безликий серый цвет, из носа её торчат трубки капельницы, монитор отсчитывает последние удары сердца, тепло медленно покидает тело. И без остановки повторяет: «Nichts». «Ничто», как пароль или заветное слово, связывающее её с душой Берлина. Nichts. Ничто. Пустота.
По своему географическому положению Берлин был первым большим городом на пути эмигрантов с Востока на Запад. Исторически сложилось, что именно в Берлине эмигранты делали свою первую остановку и проводили там несколько лет жизни в поисках других самих себя и нового образа жизни. Они оставляли за собой всё – имущество, социальную группу, которая говорила с ними на одном языке и разделяла их ценности, работу, семью и оказывались в Берлине практически ни с чем. Как если бы их раздели догола, или содрали кожу, или сократили до контуров. Так разнообразные человеческие судьбы оседают, как дорожная пыль, и превращаются в тень в этом городе. Бродят по широким улицам и проспектам в ожидании того, что будет.
Владимир Набоков, спасаясь от Октябрьской революции, прожил в Берлине 15 лет с 1922 по 1937 год. Он зарабатывал на жизнь уроками английского языка и писал книги, которые публиковал в эмигрантских газетах и издательствах в Берлине, а также во Франции. Именно этот период его критики называют периодом первой эмиграции.
В романах и рассказах Набокова Берлин оставил свой ощутимый отпечаток, свою ни с чем не сравнимую атмосферу и аромат. «В этой заблудившейся русской провинции все друг друга знают».8 Или «Берлин. Скучный чужой город. И жить в нем дорого».9 «А вот теперь я – нищий. Застрял в самом неудачном из всех европейских городов, день-деньской, как тюря, сижу в конторе, вечером жую хлеб с колбасой в шофёрском кабаке. А было время…»10
Именно Набоков описывал жизнь соотечественников, которые приспосабливались к новым условиям и новым судьбам, как своего рода стыдный компромисс или сделку с совестью, которая хороша до тех пор, пока никто не видит. По прошествии какого-то времени, помыкавшись туда-сюда, некоторые из них начинали много и разнообразно трудиться, не брезгуя ничем и даже продавая собственную тень: профессора мыли тарелки в ресторанах или прислуживали в кафе. И «тогда в красных стёклах заката можно видеть, как медленно догорают огни и в них тлеет человеческий стыд».11
Иногда в осеннем воздухе Берлина можно почувствовать отголоски праздности и пустоты, о которой пишет Набоков. И понять пустоту, о которой, умирая, говорила Вендла. Эта пустота лишена лёгкости и окрылённости, тех, что делают неожиданно свалившееся на тебя огромное количество свободного времени привлекательным. Бездействие тяготит, а дела у тебя в этой новой жизни ещё не нашлось. И ты спрашиваешь: а найдётся ли оно вообще? Или, может быть, твоя жизнь на этом и закончилась? И какое оно, вообще, это дело?
Прошлая жизнь навязчиво доводится воспоминаниями до совершенства, начинает слепить глаза, просвечивает блестящим узором сквозь жёлтую темноту берлинских будней, день за днём. И ты мчишься по ночному городу, освещённому огнями, пытаясь наступить на собственную тень или поймать в ладонь воспоминания о лучших днях, и перед тобой всплывают лица, которые ты когда-то знала. Иногда воспоминаний так много, что ты больше не чувствуешь времени. Но по-прежнему чувствуешь боль. Или пустоту. От невозможности вернуться. И невозможности забыть.
И так проходит жизнь в Берлине. День за днём. Большие чёрные дома, изрешеченные пулями со времён Второй мировой войны, зияют незажившими ранами и кажутся призраками. В них можно зайти, там нет ни души, сквозь стены можно просунуть руку и пошевелить пальцами. Настоящее перетекает в прошлое и там пропадает. И это есть живая история.
И больше не нужно искать рая земного – ты уже там, где должна быть. Никому не нужно спасать заблудшие души, ты уже заблудилась. И не нужно ничего искать, ты всё уже знаешь. И некуда бежать – ты уже на самом дне глубокого колодца. Перед лицом пустоты.
И ты понимаешь, что по улицам Берлина ходят не люди. По этим широким улицам расхаживают наглухо заколоченные миры, неизвестные друг другу летающие объекты. Тебе негде остановиться, у тебя нет крова над головой, твой мир принадлежит только тебе, сделка совершена и безымянные тени пущены по миру. Тоска по прошлому мучает, и возможность ехать дальше будоражит ум.
Дороги назад нет. Вокруг – пустота. Nichts.
Образ Берлина.
SMALL TALK
Small talk есть, по определению, искусство лёгкой беседы. В Германии владение навыками small talk чрезвычайно важно и составляет суть общения между людьми. Чтобы вести small talk, необходимо говорить быстро и, по возможности, короткими предложениями. Не рассказывать в подробностях о своей личной жизни и самочувствии, обмениваться только самой необходимой информацией. Не давать собеседнику передохнуть, то есть парировать сразу и немедленно по принципу отражения теннисных мячей – он тебе, ты ему, тебе, ему и так какое-то время дальше.
Обязательно сказать что-нибудь смешное, чтобы оставить о себе позитивное и, самое главное, длительное впечатление, а то о вас забудут ещё до окончания разговора. Чутко реагировать на сигналы к окончанию разговора – обычно это повторения слов, которые всё больше и больше не имеют никакого смысла. Искренне верить в то, что говоришь. Поддерживать эту веру в собеседнике твёрдостью взгляда, дружелюбностью улыбки, значительными кивками головы и прочей мимикой.
В Германии small talk очень часто случается на лету.
– Na-a, Alles gut? Всё в порядке?
– Ja, und selber? Да, а у самого?
– Muss ja, muss ja.
Эта фраза непереводима, обозначает примерно: жизнь идёт своим чередом, изменений нет, спокойно трудимся и не жалуемся.
Ещё хуже вариант разговора с меньшим количеством слов, которые произносятся несколько более стремительно.
– Na-a? – интересуется твой собеседник. – ?
Всё остальное опускается, в ответ нужно или улыбнуться, или сказать что-нибудь смешное, отчего твой собеседник должен облегчённо засмеяться и пойти дальше. Это сигнал к окончанию разговора.
Когда мы были студентами, у нас был любимый парк. Там, сидя на скамейках, мы запивали долгие разговоры дешёвым кофе и заедали сигаретным дымом. Мы любили сидеть в уличных кафе и вести длинные разговоры. И тогда время замедлялось, мы рассказывали, наслаждаясь каждым словом, не планируя и не суетясь.
В Берлине начала 2000-х годов меня поразила культура уличных кафе – мягкие подушки с одеялами на удобных скамейках, бранч по выходным, комнаты матери и ребёнка, где наконец можно расслабиться. Но чего здесь было не найти – это тех задушевных разговоров, к которым привыкла.