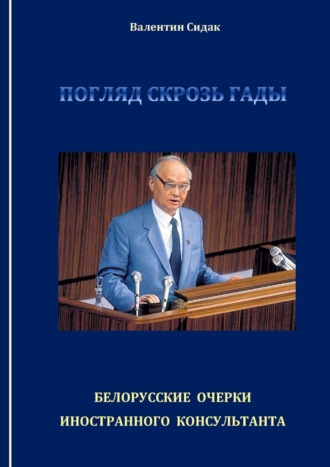
Полная версия
Погляд скрозь гады. Белорусские очерки иностранного консультанта
Забегая вперед, расскажу еще один примечательный эпизод. Когда после окончания учебы в КИ я шел по коридорам ПГУ в столовую и случайно встретился там с Яковом Прокопьевичем Медяником (к слову будет сказано – моим земляком из села Вороны Полтавского района, где я побывал и даже побеседовал с его односельчанами, которые хорошо его помнили еще пацаном, но которые совершенно не знали и не ведали, что с тех времен он стал видным советским разведчиком), то, глядя на его тонкое, интеллигентное лицо, уверенную и, вместе с тем, скромную поступь, гордую посадку его совершенно седой головы, подумал: «Да, именно таким я и представлял себе облик заслуженного советского разведчика!». Увы, в разведке, как и повсюду в природе, были совершенно разные люди, и процент откровенных мерзавцев и карьеристов, как оказалось, там тоже был немалым.
К моменту поступления в Краснознаменный институт КГБ при СМ СССР в моем чекистском активе уже были три благодарности и две почетные грамоты начальника УКГБ по Москве и МО, почетная грамота Парткома КГБ при СМ СССР и два ценных подарка Комитета ВЛКСМ КГБ при СМ СССР. Так что весь мой «чекистский бэкграунд» до прихода в разведку был целиком и полностью связан с работой контрразведчиков, которым я всячески старался помочь и словом, и делом. Поэтому контрразведку как орган специальной службы в массе своей я очень уважаю, ценю нелегкий труд полевых, но никак не кабинетных, контрразведчиков, и искренне сожалею, что не в ту сторону, как выяснилось после августа 1991 года, они вместе с внешней разведкой пристально глядели. И что кое-кого из скрытых врагов СССР на самом верху государственной пирамиды власти советского государства мы, по моему глубокому убеждению, все дружно проглядели…
Когда я работал в комсомольских оперативных отрядах дружинников (КООД) города Москвы, мы по степени эффективности проводимой работы и по конечной отдаче от полученных результатов были далеко не всегда, но порой все же выше, чем рядовые сотрудники подразделений так называемой «пятой линии» КГБ СССР. Некоторые из них работали абсолютно без искры в глазах и без толковых мыслей в голове – так себе, ни рыба, ни мясо. Только и были способны разве что на то, что при необходимости могли важно надувать щеки от сознания, что у них в нагрудном кармане лежит «корочка» с пугающим названием очень известного всем ведомства. Находились они примерно на том же профессиональном уровне, что и переполненный ощущением важности собственной персоны бывший депутат Госдумы и нынешний глава полка, бригады, а, может быть, даже и дивизии частных охранников (по советским меркам – обычных дежурных на входе в офисы и ночных сторожей («бабуся божий одуванчик») многочисленных складов, только на сей раз вооруженных не берданкой с солью, а служебным или гражданским оружием). Его зовут Иван Александрович Хлес…, виноват – Геннадий Владимирович Гудков – работник младшего оперативного звена Коломенского райотдела УКГБ по городу Москве и Московской области. Мне кажется, что все эти «детские болезни „левизны“ в коммунизме» явились прямым следствием совершенно унылых, тусклых времен «комсомольского» правления Комитетом госбезопасности периода Шелепина-Семичастного. Не зря ведь в народе говорят: «Каков поп – таков и приход».
Имею полное право говорить столь уверенно и даже категорично: абсолютно все, подчеркиваю – все! направленные в тот период «записки в Инстанции» (а каждая такая записка – это квинтэссенция проведенной отдельным органом КГБ и КГБ СССР в целом оперативной работы, посмотрев рассекреченные материалы «яковлевского фонда» можете сами легко в этом убедиться) были просмотрены В.И.Жижиным и мною лично по распоряжению В.А.Крючкова. В том числе и материалы обо всех чекистских операциях, проведенных по линии 5-го Управления. Была очень веская причина для столь тщательного просмотра, о ней говорить здесь не буду.
И я прекрасно знал и знаю их истинную, а не намеренно преувеличенную цену с точки зрения профессионала специальной службы Советского Союза, на протяжении целого ряда лет имевшего повседневный доступ к обширному массиву самых закрытых материалов. Прошу хотя бы в этом не ставить меня на одну доску с каким-нибудь очередным «генералом ельцинского разлива» типа Евгения Савостьянова или Александра Михайлова. У них в публичных высказываниях больше непредумышленно или намеренно искаженных фантазий, чем реальных знаний о глубине агентурно-оперативного проникновения зарубежных спецслужб во многие властные структуры СССР.
А красивые побасенки об «общесоюзной государственной важности полученных от агентуры донесений» относительно разветвленной системы хищений и контрабанды изумрудов с уральских копей (читай с Малышевского тантал-бериллиевого редкометального месторождения Свердловской области, других у нас просто никогда не было и нет) вам любой более-менее продвинутый «хитник» из поселка Малышев или из города Асбеста во всех цветах радуги разрисует, причем с леденящими душу подробностями. Совсем иное дело – реально вскрытые КГБ крупномасштабные хищения драгоценных металлов из Приокского завода цветных металлов с самого момента его основания в 1989 году. Но так ведь это уже Рязанщина, город Касимов, там свои собственные чекисты имелись.
Или, например, не очень известное широкой публике дело группы дельцов из «Рембыттехники», производственные подразделения которой имели от государства вполне законное право ставить собственные пробирные клейма на свои ювелирные изделия. В том числе и на изготовленные из драгоценных металлов, имеющих вполне отчетливое и очень характерное криминальное происхождение самого различного генезиса, а не только из уворованного шлихового золота с Магаданского края и Колымы. Еще до революции главными скупщиками краденных ювелирных драгоценностей и, одновременно, основными изготовителями кустарным способом вполне работоспособных взрывчатых веществ типа «гремучего студня» из нитроглицерина были тогдашние местечковые ювелиры, фармацевты и часовщики. Изобретательного изготовителя «биллиардных шаров» в исполнении актера С. Филиппова из серии буйных кеосаяновских фантазий под общим названием «Неуловимые мстители» припоминаете в этой связи?
Господи, скольким же серым, невзрачным «пятакам» с их мелковатыми нечистоплотными повадками я, будучи прямым и непосредственным куратором комсомола всех правоохранительных органов Москвы, в том числе и чекистских, мог бы, по тогдашним суровым временам при желании очень и очень сильно «подпортить биографию» за, условно говоря, «коррупцию и хищение социалистической собственности»… Объясняю популярно для недогадливых – сотрудники КООД при задержании с поличным изымали у фарцовщиков, спекулянтов и валютчиков некоторое (однако в масштабах всей Москвы – немалое) количество материальных ценностей, являвшихся предметом спекуляции и нарушения правил о валютных операциях и, соответственно, потенциальными вещественными доказательствами для будущего административного или даже для уголовного дел по КГБ-шной 88-й статье УК РСФСР (т.н. «бабочке»). Здесь присутствовало полное товарное изобилие под общим брэндом «счастье фарцовщика»: валюта, чеки и сертификаты «Внешпосылторга», зарубежные джинсы, колготки, духи, кремы, помада, долгоиграющие пластинки, импортные сигареты, спиртные напитки, ордена, медали, наградные знаки и значки, жвачка и всякая прочая потребительская ерунда. Мы долгое время никак не могли окончательно «утрясти вопрос» с партийно-советскими и прокурорско-милицейскими органами – куда же все это изъятое добро надлежит сдавать строго по закону? Возвращать обратно? Так хозяева от него обычно «открещивались» уже в начальный момент своего задержания – не мое, мол, мне товарищ дал подержать, а сам убег куда-то в туалет, чего это вы меня на спекуляцию провоцируете, дорогие товарищи комсомольцы-добровольцы…
Вначале поступила централизованная команда из Моссовета – «бесхозные» материальные ценности следует сдавать в райфинотделы при райисполкомах. Но там очень быстро завопили благим матом: райкомы комсомола, куда это вы со всей этой мелочёвкой к нам лезете, да при этом еще и с подробными описями на сдачу материальных ценностей? Не видите, что ли, что у нас вагонами воруют, совсем как «отец уголовника Шарапова по фамилии Сидоренко» в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Мешаете нам, однако, путаетесь тут под ногами у потенциальных будущих олигархов…
Милиция в лице своих дежурных отделений и районных отделов соглашалась принимать по описи преимущественно только мелочевку: одежку и обувь, сигареты, жвачку, импортные помады, презервативы и прочие предметы первой необходимости. Видимо те, которые можно было пустить в собственный, личный обиход без излишних на то мозговых усилий – акт приема-передачи материальных ценностей тут же порвал, да и пользуйся себе на здоровье, кто там тебя проверять станет? И некоторые пользовались этим вовсю, до сих пор помню хапугу с широко известной ныне всем фамилией из Киевского РОВД, как не приду к нему в гости – все «Мальборо», «Кент» или «Кэмел» курит…
Райотделы КГБ в лице оперативных сотрудников низового звена (в основном работников пятой линии) забирали у нас преимущественно те же самые сигареты из магазинов «Березка» и иностранную валюту со всеми ее заменителями – сертификатами и чеками «Внешпосылторга». Ну, разве что «впридачу» дополнительно брали еще ту же «антисоветскую литературу» или те же порнографические издания – самим малость просветиться на досуге.
И только когда я вышел в своих потугах и мучениях аж на уровень заместителя начальника Главного таможенного управления при Министерстве внешней торговли СССР, то хотя бы в одном сравнительно небольшом, но зато наиболее сложном с правовой точки зрения вопросе, настал относительный порядок – всю изъятую валюту и ее заменители все КООД столицы стали централизованно сдавать «под отчет» в Московскую городскую таможню на Ленинградском вокзале.
Кстати, насколько мне припоминается, именно на незаконных махинациях с изъятым на смотровой площадке МГУ на Ленинских горах спекулятивно-фарцовочным добром достаточно крепко погорел в те времена командир комсомольского оперативного отряда МГУ и член Парткома (!) университета А. Смушкевич (Смушкевичус) – преемник на этом посту известных ныне российских политиков А. Громова и К. Затулина.
Рассказывая вам все это, я хочу тем самым подчеркнуть ровным счетом лишь одно: уровень работы отдельных профессионально неподготовленных энтузиастов-комсомольцев из оперативных отрядов был порой ничуть не ниже, чем у отдельных профессионально подготовленных сотрудников пятой линии в органах КГБ, работавших в молодежной среде. Единственно, в чем они неизменно и уверенно превосходили КООД – это использование специальных приемов и методов агентурной работы и применение специальных технических средств, которых у «коодовцев» изначально, просто по определению быть не могло – действующее законодательство никогда не предоставляло им подобных прав. Мы даже промышленные рации типа «Ласточка» (которыми крановщики и прочие высотники пользовались для своих переговоров) и то долгое время никак не могли для оперотрядовцев приобрести, и четыре штатных милицейских «Тюльпана» у нас появились уже в самом конце моего пребывания в МГК ВЛКСМ. Да и то только потому, что у меня в секторе ООП МГК ВЛКСМ стали работать на постоянной штатной основе сразу два сотрудника ГУВД по г. Москве: освобожденный секретарь Совета секретарей комитетов ВЛКСМ органов милиции Москвы в чине капитана и симпатичная старший лейтенант милиции, курировавшая всю работу с «трудными подростками» столицы.
Если поразмыслить по-трезвому, без надрыва и истерики, «стукач» – он ведь и в Африке добровольный информатор, неважно, есть у него оперативный псевдоним или отсутствует. Просто агентура органов КГБ или уголовного розыска МВД была в правовом отношении защищена законом – и это было очень важным и существенным обстоятельством. Были ли в КООД собственные информационные возможности, отличные от милицейских или «комитетских»? Конечно, были, причем кое-где и кое в чем очень даже немалые, качественные и эффективные. Но это уже было небезопасной «самодеятельностью», что называется – работой на свой страх и риск. И иногда у ребят-энтузиастов, поклонников «шпионской романтики» случались крайне неприятные «накладки» в работе, иногда чуть ли не «на грани правового фола». Вопросы решались, конечно, но без дополнительной нервотрепки обходилось далеко не всегда.
Наиболее ярко и отчетливо это проявилось в эпизоде с широкомасштабной операцией комсомольских оперативных отрядов по задержанию в Москве 1 июня 1971 года, в Международный день защиты детей, многочисленной (порядка 250 человек) группы московских «хиппи», которые намеревались в тот день устроить у посольства США демонстрацию «в знак протеста против убийства американской военщиной детей во Вьетнаме». Об этом событии отечественной истории сегодня уже не только книги пишут, как, например, известная активистка движения хиппи, популярный литератор Марина Арбатова с ее «Сейшен в коммуналке», но даже полномасштабные художественные фильмы снимают типа «Дом Солнца» Гарика Сукачева. Я об этом фильме и ранее слышал много всякого разного, но полностью, он начала и до конца, специально посмотрел его только недавно. В отличие от Марины Арбатовой, которая после просмотра фильма, по ее собственному признанию, «откровенно плевалась», я посмотрел эту киноленту с большим интересом и даже, не скрою, с откровенной симпатией. На мой взгляд, получился хороший фильм, построенный на реальной основе.
Да, на белом свете действительно были и «Солнышко» и его верная подруга «Принцесса». Были также «Солдат», «Диверсант», «Дейзи» и многие другие яркие персонажи истории столицы – далеко не самые худшие люди, как уже вскоре оказалось. Может быть, моя симпатия к этому фильму возникла еще и оттого, что к Гарику Сукачеву лично я отношусь с огромным уважением не только по причине его несомненного музыкального таланта, но и из-за его исключительно высокой, ответственной гражданской позиции и тех лучших человеческих качеств, которые он продемонстрировал в дни октябрьского кризиса 1993 года. В то время, как небезызвестная Лия Ахеджакова аж захлебывалась от переполнявшей ее злости и ненависти при произнесении ставшего историческим призыва «Ельцин, раздави гадину!», только такие высоконравственные, высокоморальные и авторитетные творческие работники, как певец Гарик Сукачев или актер Василий Лановой (светлая и вечная ему память!), могли бы реально понизить градус напряжения и открытого противостояния в обществе и предотвратить надвигающуюся беду. Увы, кардинально поменять ситуацию они уже, к сожалению, не могли, как ни старались тогда многие лучшие люди страны, включая Патриарха Московского и всея Руси Алексия II…
Во многих современных публикациях утверждается, что вся эта разогнанная демонстрация хиппи была обычной провокацией КГБ в стиле гапоновщины, а тогдашний лидер московских хиппи Юрий Бураков по кличке «Солнышко» был агентом органов госбезопасности, действовал по их команде и под их контролем. Насчет агента – не знаю, в период своей службы в КГБ этим вопросом не интересовался, но, откровенно говоря, очень и очень в этом сомневаюсь. Дело в том, что сведения о намерении Ю. Буракова и его соратников организовать демонстрацию, точнее – шествие, у посольства США поступили к нам от самого «Солнышка», который за пару дней до того пришел в приемную Моссовета и попросил поддержки городских властей в организации этого мероприятия. Типа временного перекрытия движения транспорта на улице Чайковского (ныне Новинский бульвар), организации милицейского оцепления по периметру колонны, принятия других необходимых мер организационного характера. Там ему, естественно, в этом решительно отказали, но, одновременно, на всякий случай предупредили МГК ВЛКСМ об активном продвижении этой инициативы авторитетами данного субкультурного движения молодежи.
По своим собственным каналам мы уже об этом были в достаточной мере информированы. Но, получив сигнал из Моссовета, накануне предполагаемого события, в понедельник, пригласили на беседу в отдел спортивной и оборонно-массовой работы горкома комсомола нескольких представителей «инициативной группы», которые были комсомольцами и имели билеты членов ВЛКСМ. Беседу с ними (их было человек семь, никак не меньше) проводили завотделом Владимир Стрижевич, завсектором Анатолий Кащеев и два инструктора – Олег Бутахин и я. Наша позиция была недвусмысленной и очень жесткой – никаких митингов, демонстраций, шествий и иных сборищ молодежи не только у посольства США, но также в других традиционных местах собраний «хиппи», которые хорошо известны и им, и нам. Настоятельно попросили довести это до сведения всех предполагаемых участников во всех районах города, что и было ими обещано. Если бы вся эта инициатива Буракова и его друзей действительно была бы заранее спланированной «провокацией КГБ» – ну, кто нам (комсомольцам) позволил бы «поломать обедню» чекистам? Тем более, что развитие ситуации мы были в состоянии отслеживать не только извне, но и изнутри, причем в динамике, что называется – в режиме «on-line».
1 июня (это был вторник) к нам из районов стала нарастающим потоком поступать информация, что «хиппи», несмотря на наше предупреждение, все же планируют собраться на «психодроме» (сквер между помещениями юрфака МГУ и МГРИ), в «трубе» (подземный переход к Красной площади) и еще в паре-тройке привычных для них мест в центре столицы, но, правда, без уже заготовленных ими антивоенных лозунгов и плакатов. Поскольку это могло стать нежелательным массовым скоплением весьма характерной по своему облику и стилю поведения молодежи в непосредственной близости от Кремля, а также вблизи стоянки примерно десятка экскурсионных автобусов турфирмы «Интурист», и привлечь тем самым внимание иностранцев, в том числе и корреспондентов зарубежных СМИ, было принято решение усилить наряд КООД в этом районе и придать ему несколько единиц транспорта, заказанных через возможности районных комитетов ВЛКСМ. Никакого мифического спецотряда «Березка» и в помине не было, были только члены комсомольского оперативного отряда при МГК ВЛКСМ и оперативных отрядов ряда районов, в первую очередь Ленинского, Фрунзенского и Свердловского, поскольку предполагаемые события должны были происходить на их территории.
Должен особо подчеркнуть, что никаких массовых задержаний «хиппи» поначалу не предусматривалось вообще – «головка» активистов была временно изолирована чекистами от остальной массы «протестующих». Члены оперативных отрядов находились в автобусах, чтобы своим присутствием не увеличивать численности толпы собравшегося «на психодроме» народа. Там было также достаточно много посторонней публики из числа местного студенчества, которые просто с любопытством разглядывали многочисленную толпу непривычно разодетых хиппи. И лишь когда прибывающие «демонстранты» переполнили собою сравнительно небольшую территорию «психодрома» и стали перемещаться на проезжую часть Манежной площади, мною, как старшим наряда, было принято решение сажать их в наши автобусы и везти для разбирательства в городской штаб на Советской площади. Поскольку «демонстрантов» только на «психодроме» было не менее полутора сотен человек, а еще были достаточно многочисленные группы «хиппи» в других местах в центре Москвы, руководством оперативного штаба ГУВД г. Москвы, который расположился в помещениях городского штаба ДНД тоже на Советской площади, было решено развозить задержанных для установления личности по нескольким близлежащим отделениям милиции. Совсем как в нынешние времена… Могу со всей определенностью сказать, что никаких мер принуждения к «митингующим» не применялось, они сами с охотой и даже как-то весело, с насмешливыми репликами садились в наши автобусы. Об использовании для разгона толпы «хиппи» отряда конной милиции с нагайками, как это было представлено в вышеупомянутом фильме – чушь полнейшая, они бы на тесной площадке «психодрома» всех бы передавили своими битюгами – и правых, и виноватых…
В описании личности Буракова, его биографии и даже его внешности содержится немало неточностей, фантазий и домыслов. Кто-то представляет его сыном высокопоставленного военного из Министерства обороны, кто-то утверждает, что его отец служил в КГБ, М. Арбатова говорит, что его отец был врачом и так далее. Я, конечно, сегодня уже не могу утверждать что-то абсолютно категорично, ибо не являюсь персональным биографом «Солнышка» (или «Подсолнуха»), но у меня почему-то отложилось в памяти, что он был сиротой, жил с матерью, которая по профессии была дворником. По внешности был самый обыкновенный парень, слегка рыжеватый шатен (отсюда, возможно, и его прозвище), занимался мелкой спекуляцией, фарцовкой, не брезговал и торговлей легкими наркотиками. Авторитет среди московских хиппи у него действительно был очень большой, но к элитарной прослойке (т.н. «арбатской тусовке») он не относился. Был, скорее, центровым завсегдатаем «плешки», «пушки» и прилегающих к ним кафеюшек – то есть являлся самым настоящим московским «генералом песчаных карьеров» для сравнительно немногочисленных «районных хиппи». Несколько раз у него случались эпилептические припадки, один раз, помнится, даже «скорую» пришлось вызывать.
Короче говоря, когда всех задержанных рассортировали по отделениям, зачинщиков акции оставили для углубленного разбирательства в городском штабе КООД, на Советской площади вдруг появляется ответственный дежурный МВД СССР, как сейчас помню – генерал-лейтенант Шевченко. Причина его появления была для меня очень даже понятной и легко объяснимой, но по прошествии многих лет уточнять столь пикантные детали не буду. Однако все местное милицейское начальство – стайка генералов и полковников – дружно «наложило в бриджи», стало вовсю оправдываться перед вышестоящим начальством и дружно тыкать пальцем в сторону комсомола. Чекисты же вообще все куда-то вдруг дружно испарились…
И лишь на следующий день, когда о происшедшем накануне было доложено первому секретарю МГК КПСС В.В.Гришину, который одобрил действия комсомольцев, и от него поступила личная команда предметно разобраться не только с самими задержанными, но и с их родителями (если задержанные были несовершеннолетними), милиция сразу же воспрянула духом и во всех своих докладах «наверх» стала указывать примерно так: «нами совместно с комсомолом» – далее по тексту. Список задержанных, переданный пятой службой УКГБ по г. Москве и МО в московский горком партии, был неполным, из него чекисты сознательно изъяли фамилии более двадцати человек из числа детей работников партийно-советской, военной, мидовской и внешторговской номенклатуры, сотрудников органов КГБ. Но у нас-то в анналах КООД следы остались…
Вообще, разговор о Пятом управлении КГБ заслуживает нескольких отдельных строк. Далеко не случайно в постсоветские времена значительная, если не бόльшая, часть кадрового состава этого управления, а это несколько сот человек, в том числе и ряд бывших его руководителей во главе с генералом армии Ф.Д.Бобковым, массово перешла в услужение к одному из наиболее одиозных олигархов того периода, основателю и первому руководителю Российского еврейского конгресса Владимиру Гусинскому. Ныне благополучно пребывающему в подданстве Королевства Испании на правах потомка пострадавших от католиков сефардов. Как там у Сергея Трофимова поется в его песне «Аристократия помойки»? «Чекисты дали волю аферистам, имея свой бубновый интерес»… Нравится это кому-то или нет, но наш замечательный поэт и музыкант именно таких господ-товарищей офицеров и имел в виду, сочиняя эту популярную песню. Слова из нее теперь уже никогда не выбросишь, в них хотя и горькая, но чистая и обнаженная правда…
В чем, на мой взгляд, заключалась общественная опасность деятельности бывших сотрудников советских спецслужб в структурах типа «Аналитическое управление группы «Мост» Гусинского или охранная структура «Атолл» Березовского? Прежде всего, в том, что они использовали в деятельности работавших на грани «правового фола» указанных охранно-аналитических структур свои профессиональные знания и специфические методы работы специальных служб, включая вербовку агентуры в правоохранительных органах и даже в среде своих бывших коллег по работе. Известное дело подполковника Александра Межова из ФСБ – яркое, но, увы, далеко не единственное тому подтверждение. На щедрые материально-финансовые вливания олигархов они широко задействовали для сбора информации, прежде всего – компрометирующего характера, самые совершенные в техническом отношении средства контроля и слежения. Ими активно использовались данные оперативных картотек и прочих накопленных в советские времена огромных информационно-справочных массивов правоохранительных органов для решения узкокорыстных (политических и экономических) задач частного бизнеса. От «частного мини-КГБ» олигархов Березовского, Невзлина, Ходорковского или Гусинского до «частной армии» украинского олигарха, руководителя Европейского еврейского совета Коломойского – лишь один смысловой шаг, все эти уродливые явления имеют одну и ту же природу.



