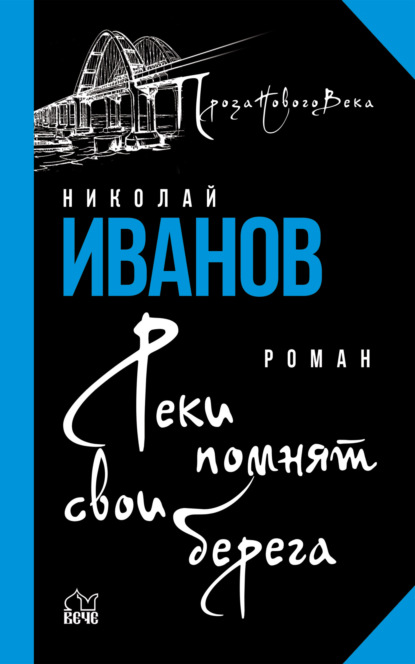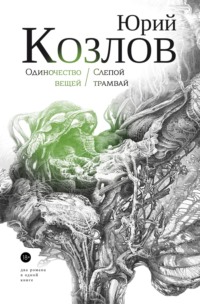Полная версия
Белая вода
Но признания быть не могло. Словесное стадо двигалось динозавровым путём к концу времён, подсвечивая дорогу светящимся маячком айфона. Оно решительно не замечало путающегося под ногами писателя Василия Объёмова. Ледокольного, чтобы взломать мир, вывести человечество на чистую воду, таланта Господь ему не дал. Таким преобразившим мир талантом обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным, но внутри другого – земного – измерения талантом обладал Сталин, преобразивший Россию наказанием. Как иначе можно расценивать многотысячные лимиты на выявление и уничтожение врагов народа, спускавшиеся в конце тридцатых годов из центра на места? Злые семена падали на подготовленную почву. От местных агрономов потоком шли требования увеличить квоты. А что если, – привычно травмировал истину копьём Объёмов, – это и есть… высшая справедливость? Сказано же одним из апостолов: нет наказания без преступления!
Вот почему, успокоился Объёмов, литературе не дано перевернуть мир. Ей дано выродиться. Путь её – от жгущего сердца людей глагола к веселящему зажравшегося обывателя-потребителя комиксу. Но я, – гордо расправил плечи над столом с закуской и остатками водки в графинчике, – отказываюсь следовать этим путём! Господь дал мне талант тихий, лепечущий, носимый ветром над неясными смыслами, – одним словом, не замечаемый миром талант. Я могу писать что угодно, но в вакууме, в тёмной душной пустоте – там, где слова и мысли складируются, как тюки войлока до лучших (или худших) времён. Скрывая меня в безвестности и ничтожестве, – Объёмов ощутил размягчающее, предшествующее слезам тепло в глазах, – Господь простирает надо мной сберегающую руку, которую я, как вздорная собачонка, пытаюсь… тяпнуть. Что же мне остаётся? – тупо упёрся он взглядом в графинчик. Недостойная возраста суета, гневные статьи на полуживых оппозиционных сайтах, редкие поездки по зачищаемому от русского языка некогда общему литературному пространству. Когда не находится (Объёмов отдавал себе в этом отчёт) более именитых и известных авторов. Или когда эти авторы ставят условия, какие организаторы мероприятия не могут выполнить. Не имеющее исхода ощущение проигрыша, мрачно подвёл он итог тому, что остаётся. Страх даже не перед своим, а коллективным – вместе со словесным стадом – будущим, перед неотменимой катастрофой, от которой не убежать, не спрятаться, потому что она по душу и тело каждого. А там… за точкой, – заинтересованно смерил уровень водки в графинчике, – благословенная тишина, покой, абсолютное, то есть неподвластное времени и вирусам вечное здоровье в земле или в урне с пеплом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце переживаний, а главное – упоительная свобода от собственной принадлежности-отъединённости к (от) словесно-телесному(го) стаду(а). Там то, что выше и первичнее… всего, что было до моего прихода в мир и пребудет в нём после. Великое отсутствие – так Объёмов определил извилисто, как дождевая капля по стеклу, скользящую, но никогда ни от кого (и чего) не ускользающую точку. А вот водочка, с грустью посмотрел на графин, ускользает, ещё как ускользает…
Объёмову стоило немалых трудов преодолеть магнитное, точнее вселенско-гравитационное притяжение точки, вернуться в реальность, вникнуть в то, что говорила буфетчица.
Она сыпала слова, как крупу в сухую кастрюлю, говорила на русском, но каком-то особенном, как бы уже и не вполне русском языке. Это был упрощённо-технический язык-передвижник, язык-переселенец, язык-выживало, помыкавшийся в новых государствах, ободранный недружественными границами, обтёртый пластиковыми сумками с барахлом и продуктами, сточенный в оптово-ярмарочных, автобусных, вокзальных, таможенных, полицейско-миграционных и прочих «тёрках». Но он ещё хранил фантомную память о советских школьных уроках литературы, прочитанных отрывках из хрестоматии, заученных в далёкие пионерские годы стихотворениях. Он давно шёл (куда?) своей дорогой, но ещё тянул за собой исчезающую тень СССР, где все были хоть и скромно, но равно обихожены государством и никому (разве только носителям пресловутого пятого пункта) не были закрыты пути вперёд, а если удачно сложится, то и наверх.
…Вдова офицера-лётчика. Шестнадцать лет назад – уже при Батьке – муж разбился на истребителе. Только-только присвоили майора. Второму пилоту приказал катапультироваться, а сам до последнего пытался спасти машину. Самолёт упал на поле с подсолнухами, никто внизу не пострадал. А мужа… не нашли, как и не было его в кабине. Сказали, – всхлипнула, – он, как это… аннигилировался, то есть бесследно испарился. Манекен из магазина одели в форму, на лицо положили фотографию в рамке, похоронили с почестями. Ольга Ильинична – наша клубная библиотекарша – нагнулась, чтобы фотографию поцеловать, да как-то неловко, сбила, а там манекенная морда с кретинской такой подленькой улыбочкой, словно что-то знает, но никому не скажет. Какая-то в том полёте испытывалась секретная, биогравитационная, что ли, установка. От СССР осталась, не успели в Россию увезти. Ну а наши взялись испытывать. Вроде бы самолёт должен был сделаться невидимым и перенестись через время и пространство, куда намечено. Она была запрограммирована на самоуничтожение, если что. Вот мой Лёшка и… самоуничтожился. Ещё подписку о неразглашении взяли, сволочи!
Объёмову как-то некстати припомнились рассказы о похищении Гагарина инопланетянами, телепередачи о неопознанных летающих объектах. Буфетчица, похоже, входила в состояние психоза, как в древнегреческую реку, в которую якобы нельзя войти дважды. В реку – нет, а в психоз – сколько угодно. Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объёмову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны приглашающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них, как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали… где?
…Представили посмертно к Герою республики, продолжила буфетчица, не позволяя Объёмову однозначно определить, где она – в коридоре или в пространстве за винтовыми ушастыми дверями, но дали только орден Мужества. Здесь, под Лидой, самая современная советская авиабаза. К каждой взлётно-посадочной полосе подведён под бетоном топливный терминал, чтобы сразу всем взлетать без задержки. Такого нигде в СССР, да и в Европе не было. До НАТО за десять минут могли долететь. Говорят, Путин сейчас просит у Батьки в аренду, а тот упирается, потому что Европа не разрешает. Сказали, санкции снимут и визы для белорусов отменят, если Батька откажет. А по мне, так лучше бы пустил, скольким людям нашлась бы работа. Тут и запчасти делали в мастерских по ремонту, и своё хозяйство со свинофермой имелось. Раньше вокруг жизнь была, а теперь только два предприятия работают – лакокрасочный завод и комбинат химудобрений. База пустая стоит, пока охраняется, а офицерский городок разобрали на блоки в конце девяностых. Теперь там лес, грибов много. С грибами ведь как? Год на год не приходится, а там всегда. Подосиновики, белые, а по осени рыжики. Она и солит, и маринует, только есть некому…
– Хотите, завтра принесу? – предложила буфетчица. – Вы ведь здесь будете обедать?
– Не знаю, – пожал плечами Объёмов. – Я ещё не смотрел программу.
– Принесу, – как о деле решённом сказала буфетчица, – и с собой дам банку, куда мне их девать?
– Всегда есть куда. Родственникам, детям, – посоветовал Объёмов.
…А она одна здесь живёт. Дочь в Одессе, у неё семья, своя жизнь, работала в фирме по установке домофонов, недавно сократили. Зять – водила, упёртый хохол, и раньше злой был на москалей и жидив, а после Крыма совсем озверел. Живут плохо, на четверых – у них двое детей – меньше семи тысяч гривен выходит. Если бы он курятину из фур ящиками не таскал, вообще бы голодали. Она здесь, в Лиде, через день работает – и то получает почти четыре тысячи. Хотя там у них всё дешевле, а здесь уже почти как в Европе. До Польши час езды, Литва вообще под боком. Народ туда-сюда снуёт. Бензин, правда, в Белоруссии дешевле, но его только две канистры разрешают, хорошо, если на обратную дорогу хватит, не по два же евро за литр брать.
В речь буфетчицы, как цветная тесьма в косу, вплетались белорусские и украинские слова. Объёмов обратил внимание, что она, хоть и живёт в Белоруссии, почему-то оценивает уровень достатка окружающих в гривнах и долларах, а не в белорусских или российских рублях.
…Последний раз к дочери и не заезжала. Сразу в Умань, там дом, где она жила в детстве. Раньше деревня была, гуси траву щипали, везде цветы, а теперь городская окраина – ни цветов, ни гусей. Мать и отец померли, а дед живой, восемьдесят пять, в разуме, не болеет, сам о себе заботится. В магазин ходит, баню топит, две теплицы держит на огороде. Руки – золотые, всю работу по дому делает. Следит за собой – бороду подстригает, волосы из носа, чтобы как клыки не торчали, дёргает, пятки напильником трёт, потом весь пол белый, как в муке. У него две пенсии – от хохлов тысяча триста гривен и ещё от немцев двести пятьдесят евро – за то, что работал в оккупацию на их продуктовом складе, а потом в нашем лагере сидел. Она в этом году почти всё лето у него жила. Дед – молодец! До сих пор курит, самогон пьёт, книги читает. Телевизор вообще не смотрит, не держит дома телевизор. Раньше смотрел, а однажды вынес в огород и… из ружья прямо в экран. Участковый приходил: чего, дед, хулиганишь? А он: лучше так, чем по-настоящему, пусть эти, которые там мордами светят, живут, а телевизор не жалко. Она хотела новый – плоский – купить, скучно вечером, он не разрешил. Сказал, лучше книги читай. А она от книг давно отвыкла. Какие книги, когда такая жизнь? К новым не подступишься, самые дешёвые – как бутылка водки, а старые – про людей, каких уже нет. Может, только этот, который топором старуху зарубил, остался и… размножился. Каждый второй сейчас такой – зарубит и не чихнёт. Дед как мужик, наверное, ещё… способен. Ходит одна к нему, шестьдесят пять, худенькая такая, чистенькая, губки в ленточку, носик остренький, в очочках, в школе завучем работает… Никак на пенсию не выпрут, некому в районе детишек учить. Якобы за старыми журналами, у деда в подвале подшивки «Роман-газеты», когда-то выписывал. Лохматые такие, когда наводнение было, подвал подтопило. Просушил, не выбросил. Я ему: дед, я тебе не сторож, только не вздумай этой указке ничего отписывать, убью! Она к тебе не за журналами ходит! В них мыши туннели прогрызли, хоть метро запускай! У нас чернозёма сорок соток! Евро он тоже не тратит, копит на счёте. К нему летом немецкие журналисты приезжали, на камеру снимали, он последний остался в Умани, кто видел Гитлера, когда тот в августе сорок первого по рынку ходил. Ещё Муссолини был, но тот помалкивал: видать, чуял беду. Дед и его запомнил: глаза как черносливы, лобастый, губастый, как бык, челюсть лоханью.
– Какой ещё… лоханью? – с трудом выпутался из липкой словесной паутины Объёмов.
– Какой-какой, – недовольно пробурчала буфетчица. – В какой новорожденных поросят купают!
– А их… разве купают? – растерянно спросил Объёмов.
– У нас нет, – отрезала буфетчица, – немцы привезли, приказ на ферме вывесили, за грязных поросят расстрел!
– Это… Гитлер на рынке объявил?
Некоторое даже противоестественное уважение к фюреру немецкого народа, мгновенно ухватившему быка за рога, с математической точностью вычислившему формулу приобщения неарийского населения на занятых вермахтом территориях к традициям европейского животноводства ощутил писатель Василий Объёмов. И только потом до него дошло, что буфетчица порет дикую чушь.
– Какой Гитлер? Какой рынок? Что он там делал?
– Ходил, смотрел, с народом общался. Дед сказал, что переводчик переводил, высокий такой, чуб из-под фуражки, как пена, и с царским Георгиевским крестом на кителе, – дед определил, потому что его отец в первую германскую воевал, у них два таких же в красивой коробке из-под царских ещё конфет вместе с документами лежали. «Русалка» назывались, я в эту коробку свою любимую куклу Бусю спать укладывала, думала, что ночью русалка со дна морского конфеты пришлёт и хоть Буся их попробует. Наверное, из казаков-белогвардейцев был переводчик. Но дед и без переводчика всё понимал, у него в школе учительница была из колонисток, её сразу, как война началась, наши арестовали. Операторы на аэродром умчались, где «юнкерс» ждал, генералы под крылом выстроились. А Гитлер увидел людей на площади, велел остановиться, прошёл по рядам, посмотрел, чем торгуют. Подсолнухи его заинтересовали, там одна баба огромные, как тазы, подсолнухи, – в тот год урожай был бешеный, никогда больше такого не было, – меняла на сахар. Советские деньги уже не ходили, немецких ещё не было, а румынские люди брать не решались, не знали, что это за деньги такие. А дед, ему тогда десять лет было, на мешках сидел. Баба, когда в туалет приспичило, туда его посадила, чтобы вроде как присмотр был. Волосы светленькие, глаза голубые, любопытные, смышлёный, наверное, был парнишка. Она Гитлеру сразу мешок хотела с перепугу всучить, но тот не взял, сказал только, что никогда таких больших не видел. Здесь земля, переводчик перевёл, как музыка Вагнера. Потом Гитлер деда на мешках приметил, потрепал по голове, сказал: запомни, пацанчик, этот день. Долго будешь жить, увидишь новый мир, за который мы сражаемся, вспомнишь меня. Как в воду смотрел, – задумчиво добавила буфетчица.
– В какую… воду? – запнулся Объёмов.
– Я про новый мир, – хлопнула глазами буфетчица, – который сейчас.
– За этот мир Гитлер не сражался, – возразил Объёмов. – Он бы точно ему не понравился.
– А что дед будет жить долго, угадал, – быстро нашлась буфетчица. Похоже, она не сомневалась, что любые произнесённые слова автоматически (на лету) наполняются смыслом, а поэтому не имеет большого значения, какие именно слова вылетают у неё изо рта.
– Тут не поспоришь, – развёл руками Объёмов. Он вдруг засомневался в существовании уманского деда. Частицей ландшафта стремительно меняющегося мира показался Объёмову загадочный дед. Белоруссия – уже не Россия, а наследница Великого Литовского княжества, той самой белой (европейской) Руси, которую кроваво и тупо задавила Русь чёрная, московская, татаро-монгольская и угро-финская. Украина – «ревёт и стонет» от ненависти к России. Европа – в маразме, мигрантах, толерантности и отказе от христианской веры. А Гитлер… Гитлер, конечно, душегуб, злодей, преступник номер один, как справедливо указывали советские историки, но ведь и к нему сейчас отношение меняется… В Прибалтике, например, или на той же Украине… И про Румынию он что-то такое читал. Уманский дед, подумал писатель Василий Объёмов, сродни тыняновскому поручику Киже, товарищу Огилви из «1984» Оруэлла. Эти персонажи – не из текущей жизни. Они – фантомы жизни новой и страшной, которая в данный исторический момент замещает привычную текущую, давит и месит её, как скульптор глину. Но не стал делиться с Каролиной сложной и спорной мыслью. – Ленин тоже, – почти весело подмигнул ей Объёмов, – в воду смотрел, а что видел?
– Что? – растерялась буфетная дама.
– Коммунизм! – назидательно произнёс Объёмов. – А где он?
– Где? – Она, как изваяние, замерла над его головой с пустой тарелкой в руке.
– Там же, где и тот мир, за который сражался Гитлер, – многозначительно понизил голос Объёмов. – Нигде и… везде! – осторожно увёл голову из-под летающей тарелки.
– В Умани возле кино «Салют» стоял памятник Ленину, – легко, как чёрная бабочка, перелетела с Гитлера на вождя мирового пролетариата буфетчица. – Сломали. Только нога в штанине, как кочерга, осталась торчать. Ботинок в жёлтый потом покрасили, а штанину – в голубой. Голову лысую в парк, в павильон ужасов, откатили.
– Не повезло Ильичу. – Объёмову вдруг сделалось как-то тревожно. Как и всегда, когда он слышал то, что не хотел слышать, или был вынужден говорить о том, о чём не хотел говорить, но о чём постоянно и безытогово думал. Такой пока отсутствующий в русском языке, но мощно присутствующий в русской жизни термин тут был уместен. – И Гитлеру тоже.
Зачем я это сказал, расстроился Объёмов, почему я всё время об этом думаю, с кем… вообще… разговариваю? Наверное, так было в сталинском тридцать седьмом. Люди не смели говорить о необъяснимых репрессиях, но о чём бы они ни говорили, они по умолчанию говорили о них. Ему вспомнился школьный физический опыт, когда на электропроницаемую пластинку сыпали железную пыль. Её можно было сыпать как угодно, но когда пропускали ток, пыль мгновенно укладывалась в один и тот же, напоминающий совиную морду рисунок.
Казалось бы, ничто (кроме алкоголя) не могло (ментально) сблизить русского писателя Василия Объёмова и неизвестной национальности буфетную даму по имени Каролина. Но дама была абсолютно трезва, да и Объёмов выпил пока что весьма умеренно. Стало быть, не алкоголь, а невидимое напряжение нового (совиного?) мира необъяснимо воздействовало на пыль произносимых Объёмовым и Каролиной слов. Совиная морда угрюмо смотрела на них с электропроницаемой пластинки нового мира.
Объёмов допускал, что Гитлер превратился в миф, что он, как и Сталин, по мнению генерала де Голля, не умер, а растворился в будущем. Хотя Объёмов сильно сомневался, что де Голль это говорил. Сомневался он и в истинности знаменитого, как будто списанного из монолога Петра Верховенского в романе «Бесы» Достоевского, плана Даллеса по поэтапному уничтожению России. Или (в преддверии выборов) цитируемого на застеклённых уличных стендах умозаключения Бисмарка, что Россию одолеть военным путём невозможно, победить её сможет только внутренний враг. Даже если Бисмарк ничего подобного не произносил, в данном изречении, по мнению Объёмова, заключался глубокий конспирологический смысл. Потенциальному избирателю предоставлялся шанс самостоятельно определить – не сам ли этот внутренний враг победительно и не таясь декларирует свои намерения, принимая потенциального избирателя за законченного идиота? Гораздо большее доверие у Объёмова вызывала другая (подтверждённая) цитата «железного канцлера»: «Россия опасна мизерностью своих потребностей». «По воле управляющего ею внутреннего врага», – творчески дополнял цитату Объёмов.
Но всё равно, странно было рассуждать на эту тему с малосведущей в историко-политологических изысканиях буфетчицей в независимой Белоруссии спустя без малого век после смерти фюрера немецкого народа, истребившего в этой самой Белоруссии, кажется, треть населения.
А может, очень даже не странно, подумал Объёмов. Миф обретает необходимую для преобразования действительности динамику именно тогда, когда спускается с выморочных научных высот в пышущую живой глупостью и жизненной силой толщу масс. Они или реагируют на него, начинают, как брага, пузыриться и бродить, чтобы затем взметнуться в революционно-военный (это неизбежно) змеевик и сцедиться по капле в новом качестве в подставленную посуду, или отвергают, точнее не вступают в реакцию, оставаясь в первозданной, с библейских времён определённой как труд и повиновение, управляемой тишине. Временно не востребованные массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они – везде и нигде.
Объёмову не нравилось будущее, где растворённые Гитлер и Сталин были готовы материализоваться подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. В нестихающих диспутах о судьбе России Гитлер был тёмным, как ночь, как дым из концлагерной трубы, кристаллом, а Сталин незаметно, но упорно напитывался белокрылым ангельским светом. Объёмов сам видел в одной кладбищенской часовне икону с «отцом народов». Генералиссимус, втоптавший церковь в пыль так, что она до сих пор не могла отряхнуться, кощунственно стоял в длинной до пят шинели, как митрополит в рясе, рядом с Богоматерью, угрюмо уставившись на оробевшего Младенца Христа. Наверное, внутри соляного раствора в очереди на кристаллизацию скрывался и Ленин. В данный момент Ильич пропускал вперёд Гитлера и Сталина, но это была очередь без порядковых номеров. Фюрер и «отец народов» были понятны и (каждый в своё время) бесконечно любимы массами, в то время как Ленин… Способны ли вообще массы, то есть малые сии, без понуждения понимать и любить человека с собранием нехудожественных сочинений в пятьдесят четыре тома? Даже если этот странный человек задался неисполнимой целью превратить малых сих в больших? Сделать того, кто был никем – всем. Новый (совиный) мир стремился к простым, как смерть, в духе Гитлера и Сталина, решениям, а потому Ленин с его беспокойными мыслями об электрификации, коммунизме, отмирающем государстве, главное же – о том, что делать и кто виноват, был сове, как говорится, мимо клюва.
Но как-то эти три кристалла таинственно взаимодействовали, возможно, предуготавливая раствор к переходу в новое, не известное человечеству качество. Объёмов склонялся к мысли, что это будет всерастворяющая существующий мир кислота. Призрачная кристально-кислотная совиная тройка пронеслась, шелестя крыльями, перед его испуганным взором и растворилась в тёмных заоконных белорусских небесах. В ночи и в водке, наполнил очередную рюмку Объёмов.
Всё-таки не молдаванка и точно не белоруска, подумал он, закусывая белой от уксуса селёдкой, про взявшуюся протирать за стойкой салфеткой пивные стаканы буфетчицу. Точно – украинка. Наверное, из Галиции, там много Каролин. За такие воспоминания её бы зацеловали на Майдане. Сколько, она говорила, было годков в сорок первом мифическому деду, десять? Ему бы в пионеры-герои, а он – под юбку к бабе, меняющей подсолнухи на сахар. Где он всю войну работал – на немецком продуктовом складе? Значит, не голодал! И силушку сберёг, если к нему очкастенькая завуч – губки в ленточку – бегает, и пенсию от Меркель получает! Парень не промах! А что телевизор в огороде расстрелял и подшивки «Роман-газеты» хранит – это… правильно, наш человек, как-то сбился с мысли Объёмов.
– Дед с немцами, которые фильм снимали, по Умани ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему пятьсот евро заплатили.
– Мало! – возмутился Объёмов. – Кто живого Гитлера видел – по пальцам пересчитать, сколько их осталось? – Объёмов вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды и не через вторые руки, как сейчас, а напрямую общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему своё общество.
Зачем?
Писателю Василию Объёмову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут.
Они отрастали вполне естественно, как у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде голого короля в новом формате. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому – в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объёмову доводилось читать немецкие листовки времён Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу Тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками в плен советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто – одетым, а кто вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, новый мир.
Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки.
На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в неё, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про триумф воли. И вообще, они хотели добра, но Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.
На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) опустил Германию, превратил в дойную корову для новой – объединённой, толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.