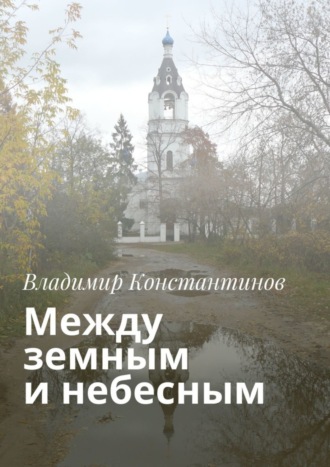
Полная версия
Между земным и небесным
Интересна наша вера, каждый находит в ней то, что хочет. Справедливые – видят Бога справедливым, милостивые – милосердным, злые – судьей. И этот спор вечен, потому что невозможно злому объяснить, что у Бога иная мерка, чем у человека. И наши понятия вообще не отражают Божественного замысла.
Основное толкование притчи о богаче и Лазаре сводится к нравственному поучению – недопустимо пренебрегать бедными. Так ее и понимают.
Но иногда из этой притчи пытаются извлекать иные смыслы. Если на ее основе начать строить понятия о загробном мире, можно прийти к следующим нелепостям: Авраам спокойно и безучастно смотрит на страждущего богача, даже поучая его. Никто ни на чью участь повлиять не может; ни живые на отошедших в мир иной, ни обратно; не только молитвой, но даже и своим явлением. Стена непреодолимая стоит между всеми.
Присутствует некая странность. Лазарь и Авраам вроде обладают памятью, как мы это понимаем, и здравым рассуждением. Они, как бы находясь в теле, видят все и осознают. Но у них отсутствует то, что мы называем состраданием. А сострадание напрямую связано с памятью. И если напрямую понимать эту притчу, то надо вспомнить, что мизерное число спасенных (по сравнению с безграничным объемом ада) постоянно видят мучения грешников, как Лазарь видит мучения богача. Можно ли при этом находиться в блаженстве? Поэтому давайте понимать, что не следует на основе притчи выдумывать условия, в которых существуют души, ушедшие в иной мир. Надо понимать, что притча – это короткое назидательное повествование в иносказательной форме, заключающее в себе нравственное поучение (премудрость). Поэтому, делая выводы, необходимо понять, что нарисованные яркие и простые образы должны пробить стену, закрывающую душу, и оживить ее от смерти или летаргического сна, в котором она пребывает.
И если бы такова была действительность, как описано в данной притче, какой смысл имели бы наши молитвы об усопших, если ничто не может изменить их участь, если пропасть, как сказано, непреодолима. На мой взгляд, если к притчам относиться как к правде жизни, вывод будет абсурдным, что мы часто и наблюдаем.
Когда Христос говорит о Царствии Небесном, то Он сравнивает его с закваской или горчичным зерном. Это происходит из-за отсутствия реальных образов в известной нам жизни. Образ геенны огненной также взят из жизни. Разговор здесь идет о свалке вне города, которая все время охвачена огнем. И в этом мы также видим лишь образ наказания. Зато слова Христа: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией; ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как ангелы Божии на небесах», звучат не в притче, а становятся ответом на вопрос саддукеев. Они предельно конкретны и показывают, чему уподобляется душа после смерти человека. Она становится подобна ангелам. И мы даже не можем предположить, в чем состоит подобие. В отсутствии тела? Ангелы – суть служебные духи, бесплотные существа, сообщающие волю Бога! В этом ли человек уподобится им? Думаю, что не в этом. «А о воскресении мертвых не читали ли вы речоного вам Богом: Я Бог Авраама и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слышав, народ дивился учению».
Мы уже убедились, насколько Божие слово разнится с нашим представлением о нем. Думаю, что нет смысла отвечать на все вопросы. Евангелие столь удивительно, что его надо просто созерцать. Надо увидеть в нем красоту, ибо она неземная. В нем нет прагматики, но есть течение – есть жизнь, уходящая в бесконечность, есть смерть, о которой сказано: «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Что значат эти странные слова? Понятно, что речь идет о духовных мертвецах. Человек живет, но душа мертва. А как можно воскресить духовно мертвое – камень? И когда мы слышим, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, кажется, в этом и есть надежда на то, что мертвецы не мучаются за гробом, ибо живая душа идет от жизни в жизнь вечную, а мертвая от смерти (при жизни) в смерть вечную. В этом видится надежда!
А что же скажем о состоянии комы?
Это состояние бездействия тела, но не мозга, потому что мозг работает, как и прежде. Мы знаем, как в определенных ситуациях обостряются наши органы чувств. И это происходит с людьми вовсе не святыми, а самыми обыкновенными. И как уже было сказано, человек может видеть, не открывая глаз. И во сне мозг не перестает работать. Причем пищей для него является весь предшествующий опыт и накопленный материал в виде знаний. Мозг так устроен, что дорисовывает незавершенные линии, пытаясь воспроизвести целостную картину. Он ищет логические связи во всем, и человек испытывает дискомфорт, когда не находит их. Он, анализируя окружение, чувствует приближающуюся опасность, которой напитан воздух и почти с точностью узнает приближающееся будущее, угадывает, что происходит за стеной и иногда рисует точные очертания этого.
Поэтому у меня не вызывает вопросов, почему человек, находясь в коме, переживает иную жизнь. Каково качество этой жизни? Едва ли хорошее! Сама травма мозга и тела не может способствовать комфортному состоянию человека. Поэтому, по-видимому, мозг (или активная часть мозга) живет, прокручивая тот материал, который был накоплен человеком до травмы, до состояния комы. Можно предположить, что религиозный человек (но вовсе не обязательно религиозный), понимая свою греховность и будучи наслышан о воздаянии, видит страшные образы. Они сотканы из лоскутов пережитых в жизни элементов, из собранных при жизни образов. Поэтому когда мы слышим разговоры об увиденных образах геенны, надо понимать, что они жили в этой голове, а может быть, они дремали, а теперь вырвались наружу, поскольку компенсационный механизм мозга в состоянии комы может быть просто заблокирован. И это состояние может быть действительно страшным.
Каким же образом человек видит себя со стороны и то, что происходит с его телом?
Что же нас в этом удивляет? Мы ведь знаем, что душа далеко распространяется за пределы тела. Она чувствует малейшие изменения вокруг даже при отсутствии видимой жизни в теле. А будучи связанным с телом и мозгом, запечатлевает в нем все происходящее вокруг.
***
Для чего же тогда столько слов в Евангелии говорится о муке вечной?
Думаю, для того, чтобы активизировать возможно большее число душ к жизни вечной, одних увлекая красотой, других страхом.
Но ведь мы знаем, что все слова Евангелия истины. Да! Но надо сказать, что они никак не объясняют нам перспективу. Они создают образы, задействуя свойство нашей души живо представлять картины на основе услышанного.
А что говорят святые о загробном мире?
Что бы они ни говорили, нам все равно представят их слова в определенном толковании.
Получается, что если душа лишается тела, то лишается и любого памятования? Или она избирательно все же будет помнить грехи? Это же абсурд! Все, о чем говорят святые отцы, также нуждается в толковании. Поэтому, чтобы мы не поняли святого буквально, принято таким образом трансформировать смысл высказывания, чтобы увести взор от прямого понимания. И если это высказывание Антония Великого толкуют как изшествие души из тела во время молитвы (хотя это странно весьма), то следующее высказывание толковать таким способом сложнее.
Соломон: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем» (Еккл. 9: 5,6).
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9: 10).
Лопухин А. П. Ст. 4—6: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. В шеоле же все равны, все равно ничтожны, ничтожны настолько, что жизнь самого незначительного человека ценнее пребывания в шеоле великого человека, так как умершие не знают ни надежды, ни воздаяния, ни любви, ни ненависти и, вообще, не имеют части ни в чем, что делается под солнцем. Все проявления духовной жизни человека; любовь, ненависть, знание, мудрость, размышление (Еккл. 9: 10). Екклесиаст ставит в неразрывную связь с условиями земного существования как явления, возможные лишь „под солнцем“, в соединении с телом. С разрушением тела прекращаются и жизненные проявления, наступает состояние глубокого сна, состояние полужизни. При таком представлении о загробной жизни, разумеется, не могло быть речи о различии в судьбе праведников и грешников, о воздаянии за гробом; утверждая, вообще, существование суда Божия, Екклесиаст нигде не распространяет его на потустороннюю жизнь. Мало того, он описывает ее в чертах, исключающих всякую мысль о воздаянии…»
Да, Екклесиаст не распространяет существование суда на потустороннюю жизнь. Он мыслит исключительно в логике Ветхого Завета. Христос, говоря о суде, поясняет, в чем он состоит:
«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3: 19—21).
Мы видим, что человек сам определяется, быть ли ему во свете или оставаться во тьме. Таким образом происходит разделение.
«Последний же, Страшный суд, – говорит Лопухин А. П., – Собственно, не привнесет чего-либо нового в определении участи таких (не верующих Во Христа) людей: он только засвидетельствует перед всеми их виновность».
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч…» (Мф. 10: 34).
Под мечом мы понимаем слово веры. Слово и разделяет.
Говоря о разделении, которое уже происходит, Лопухин А. П. говорит и о существе огня, который пришел низвести на землю Иисус Христос:
«С пришествием Христа должно наступить время трудной борьбы, которая произойдет между людьми при решении вопроса, стать ли им на сторону Христа или идти против Него.
«Огонь пришел Я низвести на землю…» Существо же огня состоит в том, что он разрушает вещи и истребляет все, что может быть истреблено, а неистребимое, не поддающееся его разрушительному действию, очищает от всяких к нему приставших примесей. Определяя ближе значение огня, как он понимается здесь, мы должны видеть в нем духовную силу, которая разрушает настоящий строй мира, уничтожает в нем все тленное и противобожественное, и этим очищает сущность этого мира, и преображает его в новый, способный к вечному существованию.
«И как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Точнее: «и как сильно желаю Я…» (καὶ τί θέλω)».
Коль скоро рассуждения подвели нас к огню, то мы не можем пройти и мимо слов апостола Павла:
«…каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3: 13—15).
Стало быть, если человек строил свой дом из соломы, то есть не имеет добрых дел, то все что он скопил и на что полагался, то погибнет в пламени, а душа, как пришла голая в мир, с тем и вернется к Господу. Та же душа, которая приняла огонь, который пришел низвести на землю Христос, то есть имела возделанную почву, просто соединится с общим пламенем, о котором говорит апостол и будет сиять еще ярче.
Комментируя данное высказывание апостола, блаж. Иероним Стридонский обращает внимание на то, что о сеющем в плоти добавлено: в плоти своей. А о сеющем в духе не говорится: в духе своем. «Поэтому, все, что мы говорим, мыслим, делаем, сеется на двух полях: в плоти и в духе. Если то, что исходит от руки, уст и сердца, хорошо, то оно посеяно в духе и принесет обильный плод вечной жизни. А если дурно, то взято с поля плоти и заразит нашу жатву тлением…». Как видим, вот оно, христианство без приукрашиваний и фантазий. Вечно только то, что свято, все остальное истлевает вместе с телом.
Но как в таком случае нам относиться к многочисленным явлениям умерших? Чистое учение говорит о необходимости отсекать любые образы, как светлые, так и темные, но об этом будет идти речь в следующем разделе книги.
Вспомним и слова Давида, которые поются каждые выходные и известны каждому. «Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его» (Пс. 145: 4).
Кажется, теперь понятно, что мысли и образы, которые заполняли жизнь человека, умирают вместе со смертью тела, поскольку они являются порождением мозга. Поэтому слова Максима Исповедника можно использовать в качестве вывода:
***
«Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою» (Ис. 38: 18, 19).
***
Вот, собственно, и все. Евангелие так «хитро» устроено, что говоря о многом, как бы ничего и не раскрывает. Оно обозначает 2 полюса, между которыми мечется человек.
Оно, как бы являясь зеркалом, показывает человеку, что он из себя представляет, и дает пищу для ума и сердца каждому, независимо от качества души. Поэтому каждый видит в нем то, что имеет в своей душе.
Собственно, смысл Евангелия состоит в том, что оно активизирует силы души, выводя человека на новые уровни брани невидимой для того, чтобы, явственно обнаружив наклонность человека ко злу или добру, скорейшим образом произвести разделение добра от зла, что мы и наблюдаем. Для чего это необходимо? По-видимому, это дает то напряжение духу, которое необходимо для прорыва некой оболочки, которая уже мешает зародышу явиться в мир новым творением. Катаклизмы, которые должны с необходимостью захлестнуть мир, станут тем молотом, который должен будет сломать скорлупу и выпустить новую жизнь на свободу.
Надо понимать, что все, о чем сказано выше – это лишь попытка рационально объяснить то, что на самом деле находится за семью печатями. Попытка приоткрыть завесу, конечно, выглядит смешно. Помимо всего, каждый человек имеет свой уникальный опыт и свое видение. Поэтому не стоит относиться строго к сказанному. Это лишь материал, который можно отвергнуть или переосмыслить в соответствии со своим опытом.
«Итак, душе и телу, как частям человека, существовать во времени одному прежде или после другого невозможно, потому что тогда растлится логос отношения их к чему-то [чего они являются частями]».
«Впрочем, – говорит Иоанн Златоуст, – надобно знать, что есть иная смерть, о которой сказано: „оставите мертвыя погребсти своя мертвецы“ (Лк. 9: 60)».
Вот что говорит Антоний Великий: «Как, изшедши из чрева, не помнишь того, что было в чреве; так, изшедши из тела, не помнишь того, что было в теле».
«…сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6: 8).
«Итак, душе и телу, как частям человека, существовать во времени одному прежде или после другого невозможно, потому что тогда растлится логос отношения их к чему—то [чего они являются частями]» (прп. Максим Исповедник).
(прп. Исаия Отшельник). «У кого сердце чисто, тот всех людей почитает чистыми, но у кого сердце осквернено страстями, тот никого не почитает чистым, но думает, что все ему подобны»
В поисках истины
О принципе подобия
«Понимание некоторых принципов
освобождает от знания многих фактов».
(Клод Адриан Гельвеций)
Трудно разобраться в духовных законах, и не о всех мы можем говорить, так как существует уровень бытия, который нам совершенно недоступен. Тем не менее, представлять перспективу нашего движения и развития необходимо. Для установки ориентиров мы и используем принцип подобия. Мы видим, как работают законы в физическом мире, познание которых до определенной степени вполне доступно нам. Также мы можем попытаться войти и в духовный пласт. Не все в нем поддается анализу, потому что ум мыслит рационально, и здесь нам может помочь интуиция, потому что, опираясь на накопленный опыт, она опускает логические связи. А вера позволяет принимать в простоте, не подвергая сомнению, знания и опыт старцев. И не просто принимать, но и пытаться воплотить его в своей жизни, поступая сообразно с рекомендациями. Иначе вся работа может оказаться пустой.
Возвращаясь к принципу подобия, можно сказать, что если вы видите, что растения и деревья растут корнями вниз, а листвой вверх, то из этого можно заключить, что так было всегда и везде. И, даже, если на другой планете есть растительная жизнь, мы, несомненно, обнаружим сходство. Если основой жизни является вода, значит везде, где она может находиться, можно с большой долей вероятности обнаружить в ней жизнь. Это я и называю принципом подобия. Принцип этот работает и в области духа. Опираясь на него, мы можем прогнозировать последствия нашей жизнедеятельности. Для этого нужна наблюдательность, анализ и вера. Обо всем этом хотелось бы поговорить в следующих главах.
Мы не сможем что-либо утверждать с полной уверенностью – слишком много белых пятен. Но когда в мозаике отсутствует часть пазлов, мы домысливаем очертания картины по тем, что уже сложены. Поэтому нашей задачей станет сложить как можно больше элементов, чтобы избежать многих ошибок. Поскольку предмет весьма сложен, хотя вместе с тем интересен и загадочен, то попрошу не судить строго, ведь все о чем будет сказано далее – это всего лишь частное мнение, в котором, безусловно, могут содержаться ошибки. Но, как известно, кто ничего не делает – тот не ошибается.
Иисус Христос сказал: «Я есть Истина и путь и жизнь». Именно поэтому мы и будем говорить в основном об Евангельских истинах. И если мирская формула гласит: «Всякое изреченное слово есть ложь», то Евангельское слово утверждает обратное:
В следующих главах будут рассмотрены вопросы, которые давно волновали меня, но на них был найден ответ лишь недавно. Ответы добывались из святоотеческой литературы, а также путем естественного познания, основанном на моделировании аналогичных, знакомых ситуаций. Через подобного рода параллели можно получить ответы на вопросы, кажущиеся не имеющими решения.
Ни в коем случае не верьте моим выводам. Исследуйте все самостоятельно и проверяйте каждое слово. Может быть, мы найдем точки соприкосновения, а может быть, нет. Но и в том и в другом случае вы сможете взглянуть на предлагаемую работу критически и начать свой поиск жизненных смыслов.
Хочу обратить внимание, что каждая последующая глава вытекает из предыдущей и чаще всего имеет с ней непосредственную связь. Так, если в главе «Бог благ и бесстрастен и неизменен», объясняется именно это изречение Антония Великого, и прп. Марка Подвижника, то в следующей главе «Как действует молитва?» предполагается твердое знание, что означают эти слова, иначе вторая упомянутая глава может быть не вполне понятна.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть…» (Ин. 1: 1).
Бог есть любовь?!
О чем эта всем известная фраза? О чем вы думаете, когда слышите ее в очередной раз? О милосердии? О привязанности? А может быть, это утверждение вызывает у вас непонятные чувства, ведь речь идет не о той любви, что связывает людей на земле, имея в своем основании влечение.
Давайте рассмотрим отрывок из Евангелия от Иоанна:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16).
Обычно наше внимание направляется на первую часть: «Бог возлюбил мир и отдал за него Сына Своего…» Продолжение обычно с такой пристальностью не рассматривается: «…дабы ВСЯКИЙ, верующий в Него, не погиб…» О чем это? О том, что слова эти относятся к мизерному количеству спасающихся – к верующим. А как же остальные? Миру он говорит:
«Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3: 20).
Вспоминаются и иные слова Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…» (Мф. 7: 6). Видите, однако, не ко всем Христос относился одинаково. Трудно любить свиней! Прибавьте к этому и следующие слова: «Много званых, но мало избранных» (Мф. 22: 14). Значит, любовь Божия подразумевает еще и жесткий отбор? Продолжим ряд: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира… Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его… И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную…» (Мф. 25: 31).
Значит, любовь Божия не имеет жалости? Что же это за любовь такая?
Давайте скажем честно, сопоставив все эти отрывки (а можно добавить и еще), что не на всех распространяется любовь. А если учесть, что в грядущее царствие ничто нечистое не войдет, но только святые, давайте представим, где окажется большинство. Надо понимать, что все, что мы говорим о Боге – неверно и не отражает настоящей Его сущности, но все слова адаптированы к нашему пониманию, то есть, огрублены и приземлены – небесное сведено к земному по причине грубости нашей падшей природы.
Авва Исаия, приоткрывая смысл этого заезженного слова – любовь, говорит: «Повержение себя пред Богом с разумом, и повиновение заповедям со смирением приносят любовь, а любовь – бесстрастие» (слово 25).
Понимаете, что Бог не плачет о каждом отвернувшемся от него! Любовь – это бесстрастие, то есть отсутствие привязанностей ко всему земному.
И вот о чем еще говорит прп. авва Исаия: «Вот что жалко, что бесстрастие имеем мы в устах, а беззаконие и зло имеем в сердце».
Также и другие св. отцы говорили о том же: «Порождение бесстрастия – любовь; бесстрастие же есть цвет деятельной жизни, а деятельная жизнь состоит в исполнении заповедей. Блюститель сего исполнения заповедей есть страх Божий, который есть плод правой веры, вера же есть внутреннее благо души…» (авва Евагрий: 85, 604).
Вот мы и пришли к пониманию причинно-следственной связи между словами: бесстрастие – любовь, деятельная жизнь – исполнение заповедей, вера – страх Божий. А так же: вера – есть внутреннее благо души. Приложим к этим словам и следующие:
«Бесстрастие не имеет врагов, не боится падения, чуждо неверия, безопасно от возмущений, не имеет пожелания какой-либо вещи» (прп. авва Исаия: 60, 145). Также и эти: «Не считай себя бесстрастным, пока влечет тебя грех». (прп. авва Исаия: 85, 343).
«В состоянии бесстрастия человек достигает чистой любви, и мысль его начинает постоянно пребывать при Боге и в Боге» (свт. И. Брянчанинов: 40, 167).
Но, несмотря на кажущуюся простоту, обрести бесстрастие оказывается весьма сложно, потому что вместо бесстрастия и любви легко обретается равнодушие и душевная черствость.
Выводы:
1) Ни в коем случае нельзя путать чувство любви с влечением, состраданием или жалостью (врач безжалостно отсекает ногу или руку, если в этом есть необходимость!)
2) Наша цель состоит в обретении бесстрастия, потому что «порождение бесстрастия – любовь».
3) Необходимо быть внимательным к себе, потому что часто равнодушие принимается за бесстрастие.
4) Часто, игнорируя требования души, мы идем на поводу собственных желаний, легко поддаваясь требованиям тела. А это отводит от главной цели…

