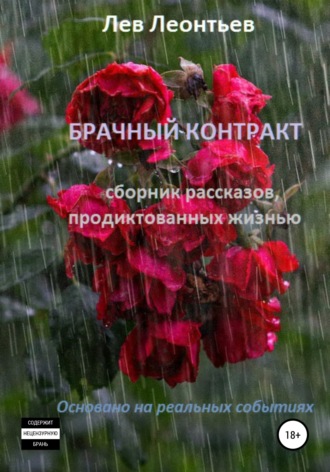
Полная версия
Брачный контракт
– Ты куда сейчас, Тань?..
– Пройдусь по магазинам, поглазею. Хочу немного обновить гардероб. А ты?..
– Я – домой. По пути куплю бутылочку «Мартини» и коробку конфет. Для Марины, диспетчера такси. Вечерком загляну к ней, давненько не общались. Отличная девчонка!..
– А!.. Ну, передавай привет!.. – улыбнулась Татьяна.
– Обязательно передам, – махнула рукой Ольга и шагнула в поток людей. Вскоре её цветастый зонт затерялся среди других – жёлтых, зелёных, красных, синих, чёрных… У Татьяны зарябило в глазах, она отвернулась и зашагала в противоположную сторону. Шла и думала о себе – такой счастливой и такой несчастной одновременно. На глаза навернулись слёзы. А может быть, это были капельки дождя.
Маринованные помидоры
-1-
Нина Ивановна торопилась в поликлинику. Впрочем, торопилась – громко сказано, шла не быстро, сил не было на резвый шаг. Причём уже не первый месяц. С тех пор как у неё обнаружили серьёзное заболевание. С того времени и силы на убыль резко пошли. Будто бы даже не от самой болезни, а оттого, что Нина Ивановна узнала о ней. Узнала, пришла в отчаяние и в одночасье смирилась с участью. Результат?.. Была цветущей женщиной и вдруг превратилась в старушку.
Взяв в регистратуре карточку и поднявшись на нужный этаж, Нина Ивановна тоскливо окинула взглядом длинную очередь. Ох, сколько больных нынче! И с каждым приходом в поликлинику кажется, что очередь всё длиннее и длиннее. А врачи, как нарочно, держат каждого в кабинете всё более продолжительное время. Будто специально – чтоб не всех успеть принять! Им ведь за количество принятых пациентов не много приплачивают, сущие копейки, причём – только за платных, так чего стараться, из кожи лезть?.. И потом от скорости в этом деле, как и во многих других, может серьёзно пострадать качество, а это уже совсем никуда не годится!..
Дождавшись, когда подойдёт очередь, и успев за это время вздремнуть немного, Нина Ивановна вошла в кабинет. Смотри-ка, терапевт новый. Вернее – новая. Прежде был молодой симпатичный мужчина, а теперь вот – женщина в возрасте, под пятьдесят лет. Строга уж очень! А как зыркает через очки! И взгляд, главное, какой-то жутковатый, будто она тебя насквозь видит!..
Нина Ивановна положила карточку на стол перед докторшей и осторожно присела на краешек стула. Врач поперебирала небрежно исписанные листы, откровенно повздыхала. Опять онкология. Четвёртый пациент за день. И все – женщины. Видимо, мужики с таким вот заболеванием раньше на небеса отправляются. Ох, уж эта онкология!.. А чего удивляться?.. Научно-исследовательский институт атомных реакторов поблизости. Всего каких-то пятнадцать километров от города… Та-а-ак. Чего тут ей прописывали?.. Ага. Понятно. Правильно. А результат?.. Ясненько. Принимать те же препараты – бессмысленно. Врач подняла глаза на пациентку.
– Как себя чувствуете?..
– Как больная раком, – попыталась улыбнуться Нина Ивановна, но улыбка получилась кисловатой. Точнее – совсем кислой.
– Ясненько, – терапевт задумчиво постучала пальцами по столешнице. Пауза. Вдруг – решительно:
– В общем так, Нина Ивановна!.. Принимать будете те же лекарства, по прежнему расписанию, в установленных ранее дозах. Но очень прошу вас об одном: ни в коем случае не ешьте… – докторша многозначительно-пристально, будто выстрелила, посмотрела на пациентку поверх очков, замолчала ненадолго, – ни в коем случае не ешьте маринованных помидоров!.. Они вам категорически противопоказаны! Слышите?.. Категорически! Нарушите – умрёте!..
– Понятно, – захлопала глазами Нина Ивановна. – Не буду. Конечно…
– На этом – всё! – отрезала врач. – Следующий приём – через месяц. Перед приходом ко мне сдадите кровь на анализ, вот направления: из вены, из пальца.
Нина Ивановна взяла со стола талончики и направилась к выходу.
-2-
Вечером с Ниной Ивановной начало твориться непонятное: ужасно захотелось маринованных помидоров. Ну просто ужжжасно!.. Вот ведь, вроде бы особо и не страдала по ним никогда, а тут… Ну, нравятся, кушала с удовольствием, но чтоб вот так мучиться! Ничего не надо – только их, хоть тресни!.. И ведь, как нарочно, помидоров – завал в гараже, в погребе, – два месяца одними помидорами можно питаться!.. Вкусные, домашнего приготовления, сама закручивала. А две банки – вот здесь, в хрущёвском холодильнике припасены. У Нины Ивановны потекли слюнки: представила, как достаёт банку, ставит на стол, открывает, аккуратно достаёт помидорину, не вилкой – ложкой, чтоб не проколоть нечаянно и не выпустить сок, и, держа добычу-деликатес над тарелочкой, с наслаждением надкусывает и всасывает удивительно приятную на вкус жидкость. Нина Ивановна непроизвольно сглотнула слюну, вздохнула. Нельзя. Умру ведь. Так врач сказала… Того нельзя, этого – что за жизнь такая?!.
-3-
Утром, едва Нина Ивановна проснулась, сразу же представились помидоры. Маринованные, конечно!.. Да-да, вот всё как вчера: достаёт, ставит, открывает, надкусывает… В желудке требовательно заурчало.
«Нет, это невыносимо!.. Сейчас же пойду и наемся!.. До отвала!..»
Она уже опустила ногу с кровати, но помедлила – вспомнилось строгое предостережение: «Категорически!.. Умрёте!..»
Нина Ивановна поспешно втянула ногу под одеяло. Нельзя. Иначе умру. Тоскливо вздохнула, пусто посмотрела в потолок. Белый. Как смерть. Её скорая смерть… Нине Ивановне в который раз стало невыносимо жалко себя, она слегка прикусила нижнюю губу, пытаясь удержать слёзы. Не получилось – влага всё-таки обильно выступила на глазах. Вытерла их и вдруг со злостью подумала: «А ведь всё равно умру: хоть ешь помидоры эти, хоть не трогай – конец один!.. Ну, позже на месяц-другой. Ну даже если на полгода – что меня ожидает хорошего?.. Да ничего! Что впереди – известно: только страх приближающейся кончины. И всё».
Решительно опустила на пол сразу обе ноги, упруго поднялась. А вот и не всё! Вот сейчас пойду и наемся маринованных помидоров! Самых вкусных на свете!.. Хочу! И плевать я хотела смерти прямо в её мерзкую харю!!!
Как решила, – так и сделала. Наелась. Сыто, довольно развалилась в кресле. Блаженство!..
-4-
Целый месяц, вопреки строгому указанию врача, Нина Ивановна ежедневно наслаждалась поеданием маринованных помидоров. На завтрак, на обед и на ужин. И иногда ещё между ними – нет-нет да и скушает одну-две. О, это была настоящая радость, – такая, какой она уже давно не испытывала!.. А может, никогда прежде. А про выписанные лекарства забыла вовсе.
-5-
Врач с нескрываемым любопытством разглядывала сидящую перед ней пациентку. Порозовела, похорошела. В сорок пять баба ягодка опять, а этой пятьдесят семь, и тоже ничего. Клубничка просто. На щеках здоровый румянец, в глазах молодой блеск. Интересно: у неё красивые синие глаза. А в прошлый её приход этого не заметила.
Терапевт улыбнулась.
– Как себя чувствуете, Нина Ивановна?.. – знала ответ заранее, но хотела услышать от подопечной.
– Хорошо, спасибо, – откликнулась на улыбку пациентка. – Очень хорошо!..
– С чем вас и поздравляю, – засияла докторша. – Нина Ивановна, вы здоровы. То есть – абсолютно!.. Из анализов следует: рака у вас нет!..
Нина Ивановна вытаращила глаза, рот сам по себе открылся, а сердце гулко, взволнованно забарабанило в рёбра.
– Правда?.. – Нина Ивановна судорожно сглотнула. – Это правда?!.
– Правда-правда, – засмеявшись, подтвердила врач. – Самая что ни на есть настоящая… Вы молодец, Нина Ивановна! Я очень рада за вас! Горжусь вами!..
– Спасибо вам, доктор!.. Спасибо огромное! – толком не зная за что – наверное, за радостное известие, за что же ещё?.. – благодарила бывшая больная.
Женщины тепло попрощались, дверь за Ниной Ивановной, размазывающей слёзы по щекам, закрылась.
Тут же вошла следующая посетительница – сухонькая, изрядно согнутая годами женщина лет шестидесяти.
Врач приняла амбулаторную карту, полистала, невесело вздохнула.
«И этой лекарства не помогают. Ох уж, этот рак!..»
Помолчала, внимательно посмотрела на пришедшую. Что ж…
– Ирина Никифоровна! – начала решительно. – Пока будете принимать те же лекарства по прежней схеме. Ко мне придёте через месяц. Перед приходом сдадите кровь на анализ, вот направления… И ещё, это важно, очень: ни в коем случае не ешьте… – пристально пальнула в пациентку взглядом поверх очков, прямо в глаза, – маринованных помидоров. Под страхом смерти!.. Ослушаетесь – умрёте!..
– Да не буду, не буду, конечно, – немного испуганно пожала плечами женщина. – Да я их, если честно, и не люблю вовсе! Вот свежие – да, очень, а маринованные… Равнодушна к ним как-то. Невкусные они. Ненастоящие какие-то…
– Всего хорошего, Ирина Никифоровна!.. До встречи через месяц. И помните про помидоры.
– Да чего ж там помнить! – уже на полпути к двери, не оборачиваясь, откликнулась посетительница. – Сказала же: не буду я их! Не люблю!..
«Ну-ну… – лукаво улыбнулась в её сутулую спину врач. – Не буду, не люблю… Посмотрим!..»
Политические
Поезд плавно набирал ход. За окном опять поплыли поля, покрытые ржавой пожухлой травой, скудно припорошенные снегом и неприглядно обрамлённые по краям редким серым кустарником, небогатыми невысокими лесополосами.
«Да, негусто снега в этом году, – почему-то грустно вздохнув, подумал Иван Михайлович. – А пора бы, конец ноября как-никак. И в купе никто не подсел. Не очень-то люди путешествуют поздней осенью да зимой, куда в эту пору ехать?..»
Михалыч ехал один от самой Самары. Скучно. Он был общительным человеком, любил весёлые компании. Ну, пусть не полное купе – хоть кто-нибудь занял бы полку напротив, и то ехать было бы гораздо веселее за разговором…
На подъезде к Свердловску надеждам Михалыча суждено было оправдаться: в купе, опираясь на палочку, вошёл невысокий пожилой мужчина, седой, с глубокими залысинами, открывавшими широкий крутолобый череп.
– Здорово, сосед! – весело поприветствовал он Михалыча, буквально впившись в него глубоко посаженными маленькими, цепкими глазками. Вероятно оставшись довольным увиденным, вновь прибывший широко и добродушно улыбнулся: «Будем знакомиться, али как?..»
– А чего ж не познакомиться?.. – охотно согласился Михалыч. – Мы добрым людям завсегда рады. – Иван Михайлович.
Попутчик ему понравился с первого взгляда, и не потому вовсе, что Иван Михайлович истосковался по собеседникам, просто понравился и всё. «Добрый человек», – определил Михалыч.
– Ну а меня Семёном кличут, – представился в ответ попутчик и поправился.
– Семёном Петровичем. Куда путь держим?..
– Тобольские мы, там проживаем, туда и катим.
– Ну, а мне до Сургута пилить, – вошедший поднял свободную нижнюю полку, пристроил видавший виды кожаный чемоданишко, поставил к окну яркий полиэтиленовый пакет, расписанный разноцветными надписями на иностранном языке. Или языках, кто ж его разберёт?..
Слово за слово, вскоре мужчины оживлённо болтали как старые знакомые, и на столе незатейливо нарисовалась вынутая из красочного пакета бутылка водки, которую тут же живописно окружили полбуханки чёрного хлеба, свежие огурцы и помидоры, расстелился-развернулся восхитительно пахнущий свёрток, в котором оказалась предусмотрительно нарезанная тонкими кусочками копчёная колбаска. Новые знакомые щедро плеснули в стаканы, взятые у проводницы, выпили за знакомство, закусили. Михалыч сразу раскраснелся, глаза весело заблестели.
«Вот это другое дело, – радостно промелькнула мысль. – А то всё один да один. Как в гробу!.. Скукотища!..»
Говорили обо всём, живо и неожиданно перескакивая с одной темы на другую: о детях, о внуках, об экономическом положении в отчизне и политической ситуации в других странах, да и какая разница, о чём говорить, когда позади пол-литра, и, способствуя продолжению беседы, на столе появилась новая бесшабашная подружка, один взгляд на которую вселял уверенность, что жизнь прекрасна?..
– А ты, Михалыч, где сидел?.. – вдруг ни с того ни с сего, оборвав своё же повествование, поинтересовался Петрович.
Иван Михайлович, несмотря на выпитое, слегка смутился. Даже немного протрезвел.
– Как догадался, не спрашиваю, – немного помявшись, ответил он. – Скорее, по наколке, что на левой руке. «Магадан». Да, было дело. Да только чего уж об этом?.. Дело старое. Хотя и забыть невозможно. Частенько по ночам – нет-нет да и привидится чего-нибудь из тех лет.
– Да ладно, Михалыч, не тушуйся!.. – подбодрил собеседника Семён. – Меня ведь эта чаша тоже не минула. Десять лет оттрубил на Кольском. А за что, спроси меня!.. За правду, Михалыч, за неё!..
Петрович наполнил стаканы на треть, намахнул горькой, не дожидаясь товарища.
– Чего ж такого натворил?.. – полюбопытствовал Иван, поднял свой стакан, залпом опустошил, чуть подался вперёд, вглядываясь Семёну в глаза, будто пытаясь отыскать-разглядеть в них что-то.
– А ничего не натворил!.. – повысил голос Петрович. – В те годы и творить ничего не надо было – ворота лагерей завсегда гостеприимно распахнуты! На вход, а вот в обратную сторону – далеко не для всех. Сколько народу полегло, сколько судеб, жизней загублено!..
Петрович сокрушённо покачал головой, уткнувшись помутневшим взглядом в стол, помолчал немного, потом поднял голову, серьёзно посмотрел на Михалыча и продолжил:
– Политический я, Иван. А всего-то и совершил грехов супротив Родины – правду-матку рассказал про житьё наше под немцем. Я ведь на фронт не попал – инвалид с детства. С тех пор как с лошади упал на всём скаку и охромел на одну ногу. Пришло время – признали негодным к строевой, остался в своём селе…
Петрович сделал паузу, вкусно похрустел огурцом, солидно откусил от бутерброда, точнее – отхватил половину мощными челюстями, пожевал с наслаждением.
– Так вот. Разговорились мы как-то с нашим новым председателем, из фронтовиков (сошлись с ним близко, подружились, значит). Он мне – про фронт, как шагал с боями от Москвы до Берлина, чего насмотрелся на этом нелёгком пути. Уж я понаслушался от него страстей-ужасов всяких! Про разные зверства-изуверства фашистские… Ну, а я ему: у нас, мол, в районе, ничего такого не было!.. Да и не только в нашем – в соседних тоже! Напротив, говорю, довольно неплохо при немцах жили, в общем, тихо, мирно. Никого из сельчан наши постояльцы не забижали, всё чин по чину! Аккуратно расселились по хатам, данью, конечно, обложили – а как же без этого, жить-то, кушать-то ведь надо!.. Но, следует признать, посильной данью, не чрезмерно! Не наглели фрицы. Пораскинули умишком, прикинули, чего и сколько им самим нужно, чтоб жить сытно, но и о наших нуждах при этом не позабыли: сколько человек взрослых по дворам, да сколь детей в каждом семействе, да какого возрасту – всё учли!.. Ох, и скурпулёзный народ, надо признать!.. Скрупулёзный!.. – с нажимом на первом слоге, досадливо поморщившись, поправился Петрович. Помолчал с пару секунд, пошевелил губами, будто проговаривая про себя мудрёное словцо, запоминая-тренируясь в очередной раз, как правильно говорить.
– Так вот, просчитали они, значит, всё до мелочей и назначили: ты столько давать будешь, а ты – столько. Чтоб никому обидно не было. Чтоб каждый продолжал нормальное житьё, словно и не захватчики непрошеные пожаловали, а просто гости заезжие, неназойливые, не ненавистные…
Поезд притормозил посреди полей, наверное, пропускал встречный; вагон резко качнуло, коротко истерично взвизгнули колёса, и всё стихло. Только в одном из купе вдруг обеспокоенно заплакал-завопил младенец, но вскоре и он умолк, видимо, убаюканный ласковыми материнскими руками.
– А все наши неприятности, – почти шёпотом заговорил Петрович, наверное поддавшись наступившей тишине, впрочем, вскоре опомнившись и придав голосу необходимую для обстоятельного рассказа силу, – все неприятности наши были от местных партизан. Леса в наших краях не очень богатые, так партизаны небольшими группками-отрядами подалее в них забрались, заховались-затерялись. Засели, короче, и не высовывались, ждали, значит, когда регулярные части пожалуют да войне конец в нашем краю положат… До поры до времени не высовывались. Было у них, у партизан, конечно, и оружие, и боеприпасов в достатке – всё как полагается, да только автоматы в ход пускать они не спешили. Пойдёшь на немца войной – себе дороже станет, кому ж погибать-то охота?.. Помирать партизанцы не спешили. Даже за Родину. Не хотелось, понятное дело. Но вот кушать… Кушать они хотели, как все нормальные люди. И нормально кушать. А где ж им харч взять, коль не делали ничего – не сажали, не ростили, курей-гусёнков не разводили. Где?.. В сёлах, конечно!.. – Семён звучно шлёпнул ладонью по дерматиновой обивке полки. – Вот и шастали они время от времени по сёлам, жратву, значит, добывали. Захаживали и к нам. Да только кто ж их, халявщиков, ждал-то?.. После немца лишнего не оставалось – в аккурат, чтоб не голодной житуха была! К чему нам лишние рты?.. Засел в лесу?.. Так и питайся тем, что тебе лес даёт: грибами, ягодами да дичью какой. А то ведь картоху и в лесу посадить можно!..
Семён перевёл дыхание, плеснул в стаканы на палец, выпил. Подождал, когда Иван оприходует свою порцию, и продолжил:
– Да и за что их кормить-то, бугаёв здоровых?.. Бездельников… Ну, и отказывали, конечно. Мы не давали, так они отбирать стали!.. Свой?.. Так почто ж ты последнее со своих гребёшь?!. Ну, старики да бабы – на поклон к немцам, подмоги-защиты искать. И как партизаны в село, кто-нибудь стучит в соседнюю хату, где немчура поселилась – выручайте! Перестрелка, конечно. Так вот инциденты и возникали. Партизаны с курями за пазухой в лес отходят, огнём огрызаются, немцы преследуют. Но далеко за ними не ходили – на кой они сдались? Хлопот ведь от них, в общем, никаких, так зачем?.. Из-за чужеродного населения шкуру под партизанские пули подставлять? Дудки!.. Прогнали лешаков обратно в лес, да и ладно. Однако нет-нет, да и подстрелят партизаны при отходе кого из фрицев. Вот тут и у нас, мирных жителей, проблемы начинались. Наказывали, значит. Нет, не вешали, не расстреливали – другими способами воздействовали. Чтоб значит, пожёстче с партизанами обходились, хотя – куда уж жёстче?.. Не воевать же старикам да бабам с кольями против вооружённых лесных тунеядцев?.. Так вот, как наказывали нас. Чаще всего – голодными оставляли, выборочно, то есть лишний кусок отбирали. А то корову-кормилицу прирежут да съедят. Или кабанчика раньше сроку, пока он вес не нагулял. А самое жестокое было – хату порушить либо сжечь. Танком давили. А однажды так целую улицу снесли – это самое большое наказание для нас было за всё время! Всех жителей с одной стороны улицы перегнали-переселили со всем скарбом в дома напротив, потеснили хозяев. Подогнали танк к крайнему дому и пальнули по нему – так, что все дома по той стороне одним снарядом и развалили. Вот так наказывали, но чтоб какого человека жизни лишить – не было такого ни разу, вот те крест!.. – Семён истово перекрестился, нахмурился: «А что?.. И правильно делали, что наказывали. Вот если б моего другана лепшего кто-то порешил – неужто я не отплатил бы супостату?.. Даже не задумался бы! И ему, и всем его сотоварищам тошно стало б!.."
Семён уставился в окно, почти прижался упрямым лбом к стеклу, пытаясь высмотреть чего-то в темноте. Поезд давно набрал ход, и колёса задорно постукивали в стыки рельсов: «Успокойся! Всё хорошо!.. Успокойся! Всё хорошо!..» – будто пытались настроить каких-то неугомонных пассажиров на мирный лад.
– Ладно, Михалыч, я сейчас… – Семён поднялся и вышел из купе, видать, приспичило по нужде.
Иван откинулся к стене, прикрыл глаза, повздыхал, живо припоминая своё житьё-бытьё в послевоенные годы…
– Так вот, Михалыч, – Семён опять устроился напротив. – Обо всём этом я своему другу-председателю и поведал, вот так и обсказал, как тебе сейчас. И что ты думаешь?.. Осерчал он сильно. Так сильно осерчал, что на следующий же день настучал на меня куда следует. И взяли меня под белы рученьки и… В общем, десять лет лагерей. А за что?.. В чём моя вина, если так всё и было?.. Ты ведь приедь в те края, поспрошай у местных, кого война накрыла, – правда это али как?.. Если где-то в других местах фашист свирепствовал, – как люди рассказывают, в книгах пишут, – я ведь не спорю! Раз говорят да пишут, – значит, так оно и было! Но в наших краях – ни-ни! Никаких таких зверств не было!..
Петрович в сердцах махнул рукой, слегка задев горлышко наполовину пустой бутылки и едва не опрокинув её, – поймал-подхватил вовремя, твёрдо вдавил дном в столик, будто она от этого должна была стоять прочней, – прилипнуть, что ли?..
– Ты мне вот что скажи, Иван!.. – Петрович перегнулся через стол, вперил взгляд в глаза Михалыча. – Откуда в наших людях наклонность такая, к стукачеству?.. Не понравилось что – ну скажи мне, обсудим-потолкуем, и дело с концом!.. К тому же, – не чужие ведь вовсе, сдружились как-никак, не одну пол-литру засандалили сообща!.. Так нет – на другой же день строчит донос, ну что за!.. – Семён хотел было выругаться покрепче, поперебирал разные нехорошие словечки, суетливо шевеля губами, но сквернословить передумал, так и оставил фразу незаконченной. Вместо заковыристой ругани он лишь расстроенно махнул рукой, откинулся назад, устало привалился к стенке, глубоко вздохнул.
– Ну почему же в «наших» людях?.. – миролюбиво возразил Михалыч. – Таких людей по всему свету с избытком. Христа ведь тоже недорого продали…
Помолчали.
– Ну, а ты, Михалыч, за что загремел?.. – вскоре возобновил разговор Семён. – По уголовке срок мотал али как?..
Михалыч насупился.
– Дак я ведь тоже… того… политический… Войну прошёл – не всю, до сорок третьего довоевал, дальше комиссовали по ранению. Вернулся в родные края, в свою деревню. По причине отсутствия мужского населения – ну, если стариков не считать, конечно, да пацанят-недорослей – поставили меня председателем колхоза. До меня в нём баба командовала, не справлялась, тяжко ей было. Толковая, да только дома – трое детей да немощная старуха-мать в придачу, – попробуй это осиль, а тут ещё и общественные заботы-хлопоты! Не разорваться…
Михалыч тоскливо покосился на бутылку, некоторое время поглядел на неё задумчиво, затем решительно отвёл глаза – направил на тёмное купейное окно. Или куда-то за него.
– Ну, так вот. Стал я председателем. А некоторое время спустя ещё один мужичок с войны возвернулся. Тоже по причине тяжёлого ранения негодным стал. С мозгами был товарищ, с образованием. Я его главным бухгалтером поставил. Так и работали, а вскоре сдружились, да так крепко – не разлей вода просто!.. Хорошо жили!.. До сорок восьмого. А в этом самом годе задурил я. Глаз положил на его жинку. Ну, и вышла через это меж нами неприятность…
Михалыч замялся, пожевал губами, будто хотел сказать что-то да удерживал себя.
– А жинка у него знатная была!.. – в его голосе зазвучало восхищение. – Всем бабам баба! Царица да и только! Ну до чего ладная, а заговорит – будто музыка райская льётся!.. Ну как не обратить внимание, хоть и другова жена?!. А поскольку она у мужа своего в заместителях ходила – да не за красоту, а по уму ейному! – выпадало нам с ней частенько по району мотаться, по делам, значит. А поскольку колхоз наш не из последних был – как по зерну да мясу, так и по площадям, – то приходилось нам задерживаться в других деревнях, на ночлег оставаться. Дела порешать, да туда-обратно за один день смотаться никак не получалось! Иной раз по три-четыре дня, а то и поболее в чужих селениях проводили. Ну, и случилось то, чего никак не миновать было!.. Стали мы больше чем работники одного колхоза да попутчики. А потому и отлучаться из родной деревни скоро стали не только по служебной надобности. А и для того только, чтоб наедине остаться. Муж её, дружок мой закадычный, не догадывался про наши с ней взаимоотношения, потому как верил мне безгранично. Как самому себе, а может, даже больше!.. Ну а во мне неловкость зрела из-за этого. Стыдно было перед ним за моё предательство… Зрело, значит, в душе моей это беспокойство-неловкость, зрело, нарывом этаким, да и прорвалось однажды по пьянке – не стерпел я, выложил всё как на духу! Просто в глаза Гришке (так друга моего звали) глянул, а они такие чистые! Наивные, доверчивые… И такая в них привязанность, столько теплоты!.. Ну и не удержал я крика души совестливого, руку на сердце положил и сказал: «Григорий, друг, прости ты меня Христа ради, так, мол, и так…»
Михалыч достал из повешенного на крючок пиджака носовой платок, легко промокнул глаза, затем шумно высморкался, аккуратно завернул добро в потяжелевшую тряпицу, засунул её обратно.
– Не поверил Григорий в начале. Даже вот так: как открылся я ему, до него и смысл сказанного мной не сразу дошёл. А как осознал, головой замотал: «Врёшь! – говорит. – Не могёт быть такого! Чтоб ты… с ней… Да чтоб она изменила!.. Не такая Глаша моя!..» Ну, я и завёлся: «Докажу!.. – кричу. – Потому как сил моих больше нет терпеть, душа не на месте из-за вины моей перед тобой!..» Пьян был сильно, вот и расписаривал свои душевные муки, в крик, дурак, ударился. И надумал я такую вот вещь сотворить. В следующий четверг, говорю, я тебя, Григорий, будто бы в командировку отправлю. На неделю, не меньше. А сам в субботу к твоей жинке наведаюсь, в баньку поведу. Подпою как следует между делом, а опосля всего ей на зад печать колхозную шлёпну – вот тебе доказательство и будет. Греха промеж нас. А ты аккурат в воскресенье, раненько поутру, неожиданно из командировки и нагрянешь. Полюбуешься. Убедишься, что всё именно так, как я поведал. Так и порешили. Так и сделали. Понятно: когда Гриша домой заявился, печать была на том самом месте. И вот через это самое место я и загремел. Ибо не вынес Григорий предательства моего. Того, что я дружбу нашу поругал таким вот постыдным образом. И меж ним и его женой недоверие да холод-разлад посеял. Не стерпел дружок да на другой же день прямиком в НКВД* и направился. Так, мол, и так, председатель наш – развратник и антисоветчик злостный. Печать с гербом СССР из своих, противных нашему дорогому социалистическому укладу, соображений на задницу моей супруге влепил!.. И кто его знает, куда он эту самую печать ещё ставил, и куда может припечатать наш великий герб завтра! Не место, грит, вот таким похабникам среди нас, строителей коммунизма!.. А в качестве доказательства распахнул Гришка дверь кабинета да завёл бабу свою, она всё это время в коридоре дожидалась. Завёл, развернул к офицеру задом да подол-то и задрал – вот, полюбуйтесь, товарищ капитан, что такое творит этот злющий враг народа!.. Ох, меня потом этот самый капитан, которому Гриша про меня расписывал, и мытарил! Ты что, говорит, мразь такая, творишь?.. Жопа бабья, она что – документ какой важный, что на него печать ставить надо?.. Как ты только, вражина, допёр до этого своей дурьей башкой, ты али в самом деле идиот какой?..







