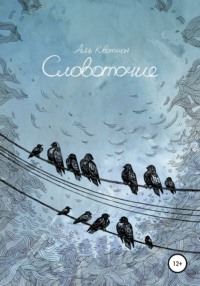Полная версия
Слово, которого нет
Нет, жизнь не стоит на месте, все течет, бежит, спешит, меняется. Меняются сезоны года, меняются люди вокруг, меняется даже высота и цвет постоянного, казалось бы, неба. Мир живет, кричит, рождается, умирает, любит и дышит, а посреди этой свистопляски стою я, и у меня мерзнут ноги. Лето ли, зима ли, девочка с портфелем, спешащая в школу, или согбенный старик, философски и обреченно ковыряющий тростью землю по пути в магазин, в череде больших и маленьких изменений всего света – у меня постоянно мерзнут ноги. Мерзнут ноги и мерзнет душа. В этом трагедия, начало и конец всех земных перемен: мир меняется, а я нет. Так и остаюсь с замерзшими ногами, недомытым полом и тщательно собранной за жизнь болью, которую не лечит время.
Собираю по детской разбросанные вещи сына. Хотя, какая же теперь это детская, уже юношеская, взрослеющая. Вместо железной дороги – гитара с худым грифом, упершаяся лохматой макушкой размочаленных струн в кровать. Другие книги, другие интересы, другие игры, другая жизнь. А для меня по инерции все равно детская. Собираю вещи, нахожу исписанный стихами блокнот. Знаю, что все подростки через одного что-то да напишут, но загляну, бывает, в лицо сына, в какие-то до болезненного птичье-тонкие черты лица, в глаза, бездонными колодцами уходящие в себя, и кажется мне, что нет, не подростковое это, другое. Ведь что такое поэты, в чем их отличие? Наши души – они твердые, плотные, угнездятся в груди, прорастут в руки-ноги, пригреются. И кожа у них шершавая, слоновья, такую кожу греет солнце, питает вода, сушит ветер. Если стукнуть, то, конечно, задрожат тоской, треснут где-то, но только если стукнуть. А если не бить – будут смотреть счастливыми глазами в небо и петь. А их души вырвались из груди, раскинулись широко, охватили каждую травинку, каждое облачко, каждого человека, но стали от этого тонкими, ломкими, натянутыми до разрыва. И скребет их наш привычный мир словно наждачка по бледно-молочной пленочке, и начинают они кровить в слова стихов. Не потому, что мир их хуже – может, даже и лучше нашего, тоньше, громче – а потому, что смотрят они в него совсем другими глазами. С виду они могут казаться сильными, но только казаться, а изнутри они как недоношенный плод – слабые, мягкие, беззащитные, пальцем тронешь – синяк. Потому что кровит, потому что не кожа, а пленочка прозрачная. У меня такой же была, когда носила его в себе.
Все вокруг смотрели – беременная, ну и что? Сколько таких беременных, разве это большое событие? Большое. Только им, смотрящим со стороны, не понять, что растет из меня пуповина, а на другом ее конце зреет новая вселенная. И этой пуповиной связан весь мир, все люди, деревья, галактики. Зачаток этой вселенной просто обязан дозреть, раскрыться, засверкать своими звездами, продолжиться, продлиться вовне. Я тогда ходила безумная, глаза блестели, движения мягкие, осторожные, все заставляла бегать мужа за хурмой, а сама обнимала еще худой живот и представляла, какой он, мой ребенок. Размером с семечко? С коробок? Чувствует он то же, что и я, этот великий рост? Слышит ли отголоски божественного в себе, понимает ли мою любовь, мое неодолимое желание защитить и отдать все? Знает ли, что эта пуповина, растущая из меня в него, связывает будущее и прошлое, растет из моей праматери и уходит далеко-далеко, в моих правнуков, и держит на себе все сущее? И вдруг понимаю – знает, чувствует. Счастье, растущее во мне день за днем вместе с новым телом, выплескивается через краешек слезами на щеках. Считала вечера. Не дни, не ночи, а почему-то именно вечера. И каждый вечер было радостно и страшно. Страшно от понимания, насколько все непрочно и в то же время взаимосвязано. Простудилась, закашляла, а как это аукнется? Ведь вдыхаю я, а выдыхает уже он. И это одно дыхание на двоих не прошло со временем. Даже сейчас, спустя столько лет, он, сам того не зная, вдыхает в меня волю жить дальше.
Прибрала детскую, вернулась на кухню. Зажигаю газ на плите, смотрю в огонь и вспоминаю свечи. Уговорила однажды мужа сходить со мной в церковь. Не скажу, что он был против, но и не рвался туда сильно. Купили длинные желтые свечи у бесформенно замотанной в черное тряпье старушки с невидимым под потеками старости лицом. Подожгла свою свечу о танцующие огарки чужих молитв и поднесла ему. Два фитилька соединились, пламя вспыхнуло сильно, жадно, а я почему-то не смогла убрать руку. Все смотрела, как томно, сладко целуются свечи в наших руках, пока мы стоим чужие, далекие, строгие, соборные. И стыдно было, мне бы о Боге подумать в Его доме, а я все о муже, о том, что свечи в наших руках любят друг друга, заплетаются пламенем, а губы скорбно поджаты и молчат. А он поймал мой взгляд, наклонился и прошептал в ухо: «Однажды придет время, и как сейчас эти свечи, именно твои глаза будут стоять и медленно оплывать светом над моим убитым лицом». И так грустно мне стало, так тревожно, так правдиво-безысходно, что я заплакала. И от слов его, и от этого поцелуя свечей, слишком возвышенного, чтобы когда-то стать нашим. Сейчас все это осталось в прошлом: вместо свечей – газ на плите, вместо пронзительного до души шепота любимого – бытовуха.
Возможно, все было не так, и свечи горели не так долго, и слова были немного другими, но есть у нас, женщин, такая черта – идеализировать мир. Как полевыми цветами свой дом, украшать собственные воспоминания прекрасным максимализмом. Если красота, то божественная, если боль, то невыносимая, если глубина, то бездонная. Так интереснее запоминать жизнь. Так она становится ближе к волшебному. Так выше летит душа. И пусть на самом деле все было не так романтично, не так трепетно, не так поэтично, даже не так уж больно, но возможность одухотворить свою судьбу, переписывая пусть не будущее, но хотя бы прошлое, у нас не отнять. Нам мало этой реальности, потому что женскому сердцу, коснувшемуся любви, становится тесен мир. Начинаем мы в словах, делах, в людях, в событиях жадно искать что-то большее. Что не всегда в них есть. Да, непонимание, да, постоянные насмешки над женской логикой, да, это наша слабость. Но в этом же и наша сила. Кто, если не мы, романтичные наивные дуры, сможет услышать пение деревьев и почувствовать на коже оранжевый поцелуй звезд?
Брожу по квартире, занимаюсь домашними делами и нет-нет, но поглядываю в монитор ноутбука, где мои родные-чужие, мои придуманные друзья, такие же люди, как и я, живущие где-то далеко с кем-то своим, пишут мне письма. И пусть на время, пусть иллюзорно, но отогревают настроение, рисуют на губах улыбку. И юноша младше меня, наивнее, пишет мне красивые письма и рассказывает шутки. А мне от этого становится легко. Пусть все неправильно, но так не хватает этой легкости в сердце, что я покорно соглашаюсь с ним и отстукиваю осыпающимися в забвение руками улыбки в ответ. Легко и стыдно. Стыдно даже не перед мужем за этого юношу, а перед собой. Потому что грызет изнутри горькое понимание, что не нужна ему в его красивой жизни, полной побед и смешливой радости, стареющая, неинтересная, угрюмая домохозяйка вроде меня. И постоянно кажется, что я ему вру, что видит он во мне больше, чем есть на самом деле, а я отказываюсь разбивать его романтические миражи, потому что жадно нуждаюсь во внимании, потому что неотвратимо страшно остаться одной.
Тишина, в доме моем тишина. Нет, и телевизор жужжит о чем-то своем, далеком и красивом, и пылесос сопит, глотая пыль всех моих дней, и вода в кране булькает с сарказмом над моей жизнью, но все же я чувствую тишину, словно лопатками в нее упираюсь, словно она осязаема. Страшной мрачной тенью живет под всеми звуками, неустанно сторожит, выжидает, чтобы однажды подняться в полный рост, навалиться на меня всем телом и утопить в себе навсегда. Тишина и обои. Обои у нас красивые, расписные, празднично-светлые. Я выбирала их сама – пошли с мужем в магазин, увидела их и влюбилась сразу. Уютные, мягкие, теплые – уже и смотреть было радостно. Тогда влюбилась, а сейчас ненавижу. Ненавижу люто, зло, потому что каждый день, каждый Божий день вижу только их. И вроде обои не виноваты, они остались теми же, но не вызывают больше той прежней радости, только долгий, растянутый на годы приступ слабой тошноты. И так плохо мне от этого невыносимого однообразия, от замкнутого в себя быта, от тишины и обоев, от пылесоса и воды в кране, так дремотно больно, так близко то ли к полной апатии, то ли к истерике, что даже лицо меняется. Становится жестким, старым, тяжелым и больным.
А вечером возвращается муж и смотрит в это самое лицо злыми шалыми глазами. Жесткими, тяжелыми и больными. И по этим глазам я понимаю, как мы с ним похожи, что оба загнаны в один и тот же тупик, в один угол, настолько темный, что увидеть в нем другу друга, нащупать руками никак не получается. И хочется прямо тут, возле двери, броситься ему на грудь, уткнуться горячими слезами в холодную дубленку и склеить понимающим теплым молчанием разбитые наши души. Но его злые глаза упираются в мое такое же злое лицо, и вырастает стена, ломать которую у меня не хватает ни сил, ни смелости. А через мгновение этой внутренней в нас боли что-то ломать становится уже поздно, потому что муж разворачивается и уходит в свою комнату. И щелчок дверного замка звучит в хохочущей тишине за спиной как выстрел в голову.
Возвращаюсь на кухню, возвращаюсь в одиночество, в хмарь и муть, в стыль и озноб. Смотрю бессмысленно в окно, но не вижу ничего, и только одна мысль сверлит до боли голову – ведь был шанс, ведь был же, именно сейчас разорвать этот проклятый круг ада, это безысходное зябкое чистилище. Так почему же, почему не смогла? Почему не обняла, не прижалась, не выплакала, не распахнула сердце, не согрела ни его, ни себя? Злых глаз испугалась? А может, просто уже не хочу шить новую жизнь из побитых молью лоскутов настоящего? А может, шанс еще есть? Но руки дрожат, и нервы дрожат, и сердце дрожит, а в нем дрожат боль и обида. В изголовье сумбура вопросов в голове приходит один, самый большой, самый личный, самый слабый и, наверное, самый страшный: а почему я должна искать примирения? Почему не он? Он ведь мужчина, это он должен делать первые шаги, совершать поступки, менять нашу жизнь и бороться за любовь. Он, он, не я, слабая женщина. Да, так правильно. Именно так и должно быть. Мне только послышалось, что тупик в судьбе сыто икнул, а мучительная тишина вдруг захлопала в ладоши, словно ребенок, получивший долгожданную игрушку? Да нет же, как тишина может хлопать, конечно же, послышалось, я же права. И под эти мнимые аплодисменты входная дверь щелкает. Сын вернулся? Нет. Муж ушел. Теперь точно поздно.
Сажусь на табуретку. Даже не сажусь – осыпаюсь мертвыми осенними листьями, обваливаюсь рухлядью, падаю сломанной марионеткой, с которой срезали все нитки, пустой ватной оболочкой без костяка. И ничего не хочу. Совсем ничего. Ни думать, ни смотреть, ни любить, ни страдать. Тишина моя, тишина, ты уже во мне? Да, во мне, спи, теперь ты дома. Обнимаю свое одиночество и пою ему колыбельную. Спи, моя смерть, засыпай, я люблю тебя, мама любит тебя, слышишь? Баю-бай, больше не будет ничего, ни боли, ни радости, засыпай. Кажется, что вся усталость, нажитая годами, села на веки и беспощадно клонит их вниз. Закрыть бы сейчас глаза и не открывать никогда-никогда. И уснуть вместе со святой тишиной в груди. Но снова хлопает входная дверь и проросшая в меня, сроднившаяся с телом тишина болезненно вздрагивает, для нее каждый звук – страдание, мука. Я морщусь, открываю глаза… И вижу в проеме кухонной двери сына.
Сынок. Мальчик мой, взрослеющее мое дитя, частичка сердца, выдох души. Он же не виноват ни в чем, за что ему все это? Он же смотрит на меня со всей своей плохо спрятанной любовью и не должен видеть этими добрыми глубокими глазами вместо мамы сломанную тишину. Мучительно собираюсь в подобие живого человека, слабо улыбаюсь, чувствуя, как фальшиво, как чужеродно выглядит эта улыбка на каменном лице. Конечно, не поверит. Но поймет, что сейчас просто необходимо сделать вид, что веришь. Стоит, улыбается мне в ответ, а взгляд грустный-грустный. Или в нем просто отражается моя собственная печаль? Нет, не может отражение жить так глубоко. Улыбается ради меня. Так же, как улыбаюсь я ради него. Вот и живем ради друг друга и ради друг друга пытаемся быть счастливыми, несмотря ни на что. И в этом – самое великое отражение мира. Вот только сейчас он улыбается мне, а сам смотрит насквозь, прямо в душу, и кажется, что видит все-все. Потом он пойдет к себе в комнату, и снова будет рисовать свои черные картины, и писать в тетрадь страшные, горькие слова. А я снова не смогу придумать, как это исправить и поселить в нем тихий свет, мягко согревающий изнутри.
Сын хватает из холодильника первую попавшуюся закуску, игнорируя стынущий на плите обед, а я даже не пытаюсь усадить его за стол. Потому что в каждом его движении, жесте, во всем теле так явственно проступает желание исчезнуть, стать невидимым, не быть здесь и сейчас, не вымучивать из себя роль гармонии и семейной идиллии, что любая попытка сесть вместе и вести ничего не значащие разговоры станет мучением, пыткой, издевательством. И над ним, и надо мной. Так и уходит он в свою комнату молча. А я снова почему-то начинаю бояться наступившей тишины, но чувствую в ней совсем иной привкус, привкус тревоги. И за сына, и за мужа, и за себя. За нас всех, как не за отдельных людей, а за что-то целое, связанное в единую сущность волей судьбы. За такого странного, многорукого и трагичного зверя семьи, который стал болен, очень болен, и страдает, и смотрит мутным взглядом, и дышит тяжело, хрипло и болезненно.
Как вылечить этого зверя, чем кормить, где погладить? Ведь умрет он, и что останется? Три несчастных человека с исковерканными жизнями. Хочется курить. Потому что сигаретный дым лучше всего сейчас отражает боль в душе. Тем, что горек он, бесплотен, но сущ. Открываю форточку, переваливаюсь через подоконник, закуриваю. Где ты, Господи? Почему молчишь сейчас, когда так нужен? Смотришь на меня, земную, дурную, и улыбаешься, зная то, чего не знаю я? Молчишь? Или отвечаешь, но уши мои забиты личным горем, не слышат тихий голос твой? Во мне ли ты, Господи, со мной ли? Бестолковая молитва вплетается в сигаретный дым, стелется по двору, растворяется, исчезает. И странно думать, что кто-то незнакомый мне, кто-то такой же уставший или беззаботно счастливый вдруг вдохнет ее, размешанную в воздухе, и сам об этом не узнает, но мы соединимся в этот миг, чтобы потом снова распасться. И так сплетается, соединяется весь мир, каждый человек в нем с другими людьми, с холодным страшным космосом малозвездного городского неба.
Возвращается муж. Уходил жестким и острым, а пришел сутулым и скомканным. Не хочу ничего говорить, убиваю все слова в пересохшем рту, удавкой сжатых губ душу. И знать ничего не хочу: ни почему ушел, ни где был, ни что будет дальше. Потому что кажется, что знаю ответ, знаю и не желаю его слышать. Тяну, тяну изо всех сил это подобие жизни, вытягиваю его из нас, потерянных и одиноких, и креплю собственной болью к мучительному вечеру. Разогреваю остывшую еду, смотрю на синий огонек газовой горелки и наворачиваются слезы. «Однажды придет время, и как сейчас эти свечи, именно твои глаза будут стоять и медленно оплывать светом над моим убитым лицом». Сбылись его слова, сбылись. И стою я годами над его убитым бытом лицом, изо дня в день стою. И оплываю, оплываю уже не светом, не осталось во мне света, оплываю тоской, мукой, тишиной. Мы оба умерли. И остались от нас только гроб, забитый бумагами из офиса, да скорбное бледное изваяние над ним.
Он ест, а я стою рядом. И что-то внутри не дает уйти. Какая-то невыносимая жажда простого человеческого тепла, близости, жизни. Ни слова ему не скажу, ни одного вопроса не задам. Но дни, недели, месяцы, проводимые в неласковом бесприютном карцере замкнутых домашних дел, научили ценить каждый жалкий огрызок этой пародии на общение, на семью, на счастье. Просто рядом побыть – и уже не так тихо и холодно в сердце. Когда больше не о чем говорить, остаются звуки. Звук постукивающей о тарелку вилки, шершавый звук ерзающего по скатерти рукава, очень значимый звук дыхания (когда-то? до сих пор?) любимого человека. Звуки дома. И понимание, что есть у тебя дом, что не пуст он и жив. Какими важными становятся эти мелочи, когда судьба отнимает у нас что-то очень большое, что-то главное и необходимое. Вот только все чаще и чаще слышу я на дне всех этих звуков дыхание тишины.
Муж открывает холодильник и достает пиво. А я смотрю, как в этой холодной темной бутылке умирают все мои надежды. Надежда поговорить, понять друг друга, исправить наросшее в нас отчуждение, вылечить семью, все надежды сегодняшнего дня гибнут, чтобы воскреснуть к завтрашнему утру и снова погибнуть с наступлением ночи. Больше меня ничего не держит рядом с ним, наоборот, теперь мне хочется уйти и не возвращаться. Иду в спальню, ложусь в кровать. Что такое жизнь? Ведь раньше, в юности, казалось, что жизнь – это что-то большое и великое, полное открытий и переживаний. Но потом вдруг поняла, что сколько ни глазей вокруг, а жизнь всегда будет только тем, чем ты сама решишь и сможешь ее сделать. Я свою сделала вечным ожиданием. Ожиданием сына из школы, мужа с работы, ожиданием завтра, в котором все будет лучше и что-то обязательно случится, ожиданием ночи, когда можно все забыть и уснуть. И вот они – итоги моего выбора: я уже не молода, вряд ли кому-то сильно нужна, усталость уже не проходит, живет в руках, ноет в коленях, а я привыкла. Менять что-то страшно, и жить так дальше – трудно. А за окном моим давно ночь. И так, обнимая эту ночную тоску, я сворачиваюсь в кулек глупых мыслей о жизни и засыпаю.
Утром просыпаюсь поздно, мои мужчины уже разбежались по делам. А меня ждет еще один день домашних забот и хлопот, ничем не отличающийся от сотен точно таких же дней. Накидываю застиранное платьице, которое не жалко портить, прячу ноги в теплых потрепанных тапочках, потягиваюсь и слышу звонок в дверь. Пришла подруга. Глаза растрепанные и сытые, зрачок беспрерывно ползает недобитым тараканом по слизи ехидства. Сказала, что вчера видела мужа в кафе с молодой женщиной. Сказала, а у меня сразу кольнуло в левом боку. Даже не потому, что с другой, а потому, что она видела. Да, с другой, но это и понятно – я старая, некрасивая, не женщина, а кухарка. Стала такой. Но боль моя из этих беглых глаз потечет сплетнями, обрастет пошлостью, станет хихиканьем за спиной. Господи, как не хочется прятать краснеющее лицо от равнодушных людей, да только некуда уже бежать.
Нахожу тысячу предлогов своей занятости, выпроваживаю подругу, но мало в этом смысла. Все уже произошло. И другая женщина у мужа, и сытая новой сплетней подруга, и глупые предлоги, в которые не поверила ни она, ни я. Темно на душе. Беспросветно и тихо. Включаю компьютер, бегу от реальности, от своей жизни и своего выбора в ней. А из экрана мигает лукавым зеленым глазом письмо от мальчишки, который все еще верит в жизнь и иногда заставляет поверить в нее и меня. Читаю это письмо, эти слова, а они змеистые и сладкие. Чешуятся буквами, трутся шершавым телом о кожу души, бередят, будят, обещают, зовут. «Заберу», "уедем", «люблю», "счастливы". И каждое слово – надежда на то, что жизнь все еще возможна. Стоит лишь согласиться, и буду я Маргаритой летать по небу, Афродитой плескаться в морской пене, а не домашней Клавой намывать посуду. «Украду», "увезу", «люблю», "люблю". Когда муж мне говорил, что любит меня? Уже и не помню. И только сейчас я понимаю, как мне этого не хватало. Простых слов о том, что я любима, желанна, хоть кому-то нужна. "Ты еще нигде не была в полной мере, я покажу тебе мир". Да, в полной мере я еще нигде не была. В полной мере меня еще нет. А сейчас, читая это письмо, я становлюсь живой. Словно бы до этих слов ненастоящая я все спала в ненастоящем мире, потом вдруг проснулась, а мир – вот он, яркий, красивый, и счастье в нем, и любовь, стоит лишь протянуть руку. Сейчас я-настоящая только начинаюсь. Да, понимаю, что любовь нуждается не в словах, а в проявлениях. Но когда рассудок теряет веру в жизнь, именно слова становятся последним спасательным кругом. И начинаешь верить в них так, как никогда не верила в дела. Потому что слова, которые человек по-настоящему услышал, они уже не снаружи, они внутри. А когда свет поет изнутри – это больно до восторга. Жизнь нужно чувствовать кожей. Даже не кожей, а тонкой прозрачной кожицей апельсина, с которого сняли кожуру. И только тогда жизнь – это жизнь.
После этих слов все во мне заворачивается в ураган, в смерч, и я просыпаюсь. Стою, молчу и смотрю вокруг, но вижу все словно в первый раз. Смотрю на маленькую квартирку, на соседний дом в окне, на вещи мужа, сына, свои, на себя смотрю – женщину в застиранном платьице и драных тапках, переживающую день за днем одну и ту же молчаливую драму, такую маленькую и незначительную на фоне огромного мира и такую остро болящую в сердце. А мир ведь правда огромный. И неужели то, что я вижу – это все? Все, что было и будет. Неужели все, и больше нет ничего? Любовь была. Но это все? Семью я создала. Это все? Проживу всю жизнь тихо и несчастно, а потом лягу рядом с матерью. И все? Неужели все? Но ведь что-то можно изменить. Закрываю глаза, впиваюсь в саму себя жадным поиском, ищу, щупаю, нахожу… И понимаю, что все уже изменилось. Вот в эту самую секунду изменилось раз и навсегда. Я сделала свой выбор. И именно он рисует сейчас на моем лице улыбку, в которой нет ни тени той застарелой усталости, в которой я так долго спала.
Часть 3
У каждого человека свое утро. Вот кажется, что оно одно на всех, вроде и тот же город, и та же погода, и то же время, но все же у каждого утро свое, уникальное. Сонный мужчина с ненавистью смотрит на цифру 6 или 7, ухмыляющуюся из беспристрастного будильника, и в нежелающий просыпаться разум бьет волна ненависти к работе. А молодая девушка в нелепой пижамке с котами отчаянно хватается за хвосты удирающих со всех ног снов, чтобы потом разобрать их тайный смысл, и спросонья ей еще не ясно, то ли сны были пушистыми, то ли ожили пижамные коты. В одном городе можно найти сотни разных граней одного утра, от надежды и беспричинной радости восхода, до лютой ненависти и безысходности. А у меня утра нет. Нет, оно есть, я тоже просыпаюсь, день по неизбежному земному расписанию жизни с чего-то да начинается, просто я ничего не запоминаю. Раньше помнил, а потом перестал. И время после сна смазывается, оставаясь неясным пятном. Вроде бы было утро, но о чем оно было – не вспомнить. Только одно я помню и точно понимаю: что и утром, и днем, и вечером в моей голове царит бардак, который мне не объяснить даже себе, не то что другим. Но бардак не разбросанных вещей-мыслей, не пыльных идей, нет, бардак совсем иного рода. Словно бы я стою у большого муравейника, смотрю в хаотичное движение насекомых, понимая, что хаотично оно только для меня, но на самом деле эта жизнь подчинена какому-то неведомому мне, но строгому закону. Проблема только одна, муравейник можно забыть и обойти, а от собственной головы никуда не денешься.
И каждый день я беру лист бумаги, сажусь и вывожу на нем траектории движения этих мыслей-муравьев, пытаясь связать их в лица, в судьбы, в жизни людей, постигая тем самым самого себя. Пишу стихи. Как умею. Желание писать пришло спонтанно, неожиданно. Не потому, что внутри назрело что-то великое, требующее выхода, и не потому, что слова пришли сами Божественным откровением, и даже не потому, что, читая запоем чужие книги, я заразился красотой переплетения строф, проникся глубиной смыслов, заболел словесностью жизни, в которой отражается человек таким, какой он есть. Все было проще и обыденней. В детстве была у ребятни нашего двора такая игра: брали мы коробочки, складывали в них свои вещи, будь то пластиковый солдатик или сорванные листья с деревьев, названия которых я никогда не знал. А потом мы эти коробочки закапывали, чтобы кто-то из друзей их нашел. Подобие пиратских кладов и карт, неумело нарисованных цветными карандашами на мятых от усердия бумажках. А однажды мама сильно заболела. Она лежала в кровати бледная, серая, слабая, какая-то отталкивающе лохматая и чужая. В комнате пахло лекарствами и чем-то еще, что я не хотел обозначать словами. Чем-то плохим, злым, страшным. Этот запах отголоском беды еще долго преследовал меня во снах, он чудился мне в каждом месте, которое так или иначе пугало меня: и в больницах, и на заброшенном заводе, куда мы с мальчишками лазили тайком, и на кладбище. Я смотрел на маму и думал: «А если вот именно сейчас она уйдет из моей жизни, то что останется? Останусь ли я? А папа?» Тогда я взял коробочку, сложил туда ее фотографию, свои карандаши, папину бритву и закопал во дворе. Чтобы нас нашли когда-нибудь. Чтобы не забыли. Чтобы знали, что мы – были. А когда стал старше, открыл книгу, прочел о людях, которых давно уже нет на земле, и вдруг вспомнил ту закопанную коробочку. И понял, что ее могут не найти, а слова – вот они, чернеют пятнами вечной памяти на книжных листах. Именно слова способны сохранить всех, кого я знал, кого я любил, кто был в моей жизни. Я начал писать, складывая в коробочку предложений лица людей, их дела, чувства, судьбы. Только тогда тяжелый запах из маминой комнаты, преследующий меня, сменился приятным запахом типографий, и мне стало легче. Я научился не терять.