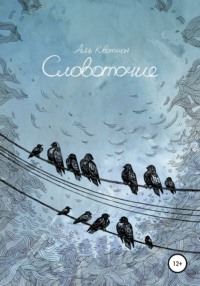Полная версия
Слово, которого нет
С отцом сложнее – мы смотрим друг на друга, но находимся очень далеко. Для меня жизнь – это причина, переходящая в процесс. Причина бегать во двор к друзьям и не возвращаться к обеду, задерживаясь с потрепанным мячом возле самодельных футбольных ворот, сделанных из двух консервных банок. Причина ловить в пруду скользких черных головастиков и бездумно, с детской наивной жестокостью, складывать их в нагретый карман шорт, прилипший к влажному, горячему от лета телу. Причина долго собирать желтые осенние листья и легко забывать их на мокрой от дождя скамейке возле дома. Для меня жизнь – причина, а для отца – результат. Действий, слов, ошибок, поставленных целей, слепого выбора, принятых решений, взятой ответственности и пропущенных ударов.
Сейчас, вяло ковыляя на работу, спотыкаясь на ровном месте от тяжести невидимого горба, только сейчас я понимаю своего отца. Только сейчас, пережеванный временем, выброшенный отрыжкой данности на этот асфальт, с которого слизывают грязь низкие черные тучи, я наконец всем своим существом осознаю, что значил его мерзлый взгляд. Мой отец со всей своей тоской, загнанностью, с тяжелым подбородком и редкими бровями, шаблоном круговой безысходности повторился во мне. Как и я, наверное, повторюсь в своем сыне.
Это кажется мне настолько неизбежным и нежеланным, что все мысли начинают отчаянный побег. Пятница! Хватаюсь за день недели как за спасательный круг, цинично брошенный тонущему человеку без рук. Пятница – это перепад температуры души от повседневного труда к выходной скуке. Пятница – это ритуальная встреча с друзьями после работы и пережевывание черствых ковриг мужских сплетен. Пятница – это заверенный судьбою протокол бытового дежавю. Сегодня вечером я буду упрямо давить из себя веселую беззаботность для друзей и в какой-то момент сам поверю, что жизнь сложилась удачно, что все у меня хорошо, я буду громко гоготать над каждой шуткой. Сегодня вечером жена снова почувствует неподъемный саван своего одиночества, глядя в окно на гуляющие по улице молодые пары, хватая сердцем шквал тишины и ожидая моего возвращения домой. Сегодня вечером после выпитого алкоголя тщательно натягиваемое на жизнь чувство легкости пройдет. Я захлебнусь в саможалости, выплакивая всего себя одному из знакомых, который даже не станет делать вид, что слушает этот бессвязный бред. Но и без этой зашоренной бесполезной пятницы, которая ничего не изменит, не принесет облегчения, не исправит ошибок, не приведет к лучшему, не подарит счастья, я не могу. Сломаюсь, тресну пополам с отвратительным сухим хрустом, упаду ворохом застиранного тряпья и исчезну из мира, словно не было меня.
А когда вернусь домой, то снова не смогу объяснить своей брошенной в тишину и одинокость жене, как важны для меня такие вечера, чтобы чувствовать себя живым, настоящим. Как необходимо мне слышать простые привычные звуки: гул знакомых голосов, взрывы беспечного смеха, звон стаканов и бессмысленную музыку фоном. Как нужно мне видеть эти лица, чувствовать рукопожатия, дружеские похлопыванию по плечу, чтобы знать, что все продолжается, что ничего не кончено, и есть еще завтрашний день, а в нем, пусть наивная, но все же надежда.
На работе подходит начальник отдела, кладет передо мной какие-то бумаги и широко улыбается. Читаю их и минуты две не могу произнести ни звука, как лупоглазая рыба, выброшенная на берег. В этих белых прямоугольниках печатным текстом, деловым тоном и бесконечно долгим ожиданием лежит мое повышение. То самое, которое было не за горами. То самое, к которому я так долго шел по мокрому асфальту день за днем. То самое, которое значит море. Море для жены, лучшую жизнь для сына и счастливую семью с рекламных стендов в моем доме. Лист бумаги с замысловатой подписью руководства в углу начинает напоминать мне дверь. Выход на ту сторону жизни, где вечный денежный вопрос уже не болит в голове, не связывает ребра в узел, не хрипит завистливой желчью и бессмысленным раздражением. Рассеяно благодарю начальника, разглядывая эту бумагу, и никак не могу отвести глаза. Дверь. Дверь в лето, дверь к морю, дверь к слонам, дверь в счастье, дверь с табличкой «выход». Значит, вот она какая, эта дверь. Белая, шершавая, с немного загнутым уголком, с блестящей скрепкой сверху. А между мной и этой дверью всего один шаг. Вот он, написан на втором листе. Никак не могу сосредоточиться на словах, дышу глубоко, стараясь не выдать глупой улыбкой штормовое облегчение на душе. Буквы расползаются по листу, не хотят вставать в предложения, хитро подмигивают, широко улыбаясь. И у каждой буквы почему-то лицо начальника.
Когда буквы наконец перестают упираться, показывает характер смысл. Не уживается в голове, норовит убежать, спрятаться. Насильно вычитываю его из строк документа, а теплая волна воодушевления, почти восторга, вдруг начинает остывать, замерзать, подкожно вьюжить недобрым пониманием. Шаг. Всего один шаг до заветной двери. Но это шаг в пропасть. Командировка. Не просто командировка – многолетняя пропасть. Смотрю в это слово, разбиваю его по слогам, но все равно читаю в нем другое. Ссылка. Годы необходимой работы в забытом Богом поселке. Годы без привычной дороги до офиса, без старенького, но уютного кресла, промятого по форме тела, без пустых звонких пятниц, перенасыщенных лицами друзей, без дешевой забегаловки возле дома с растворимым кофе и жидким борщом, без коллеги-идиота, без сына, без жены.
Когда-то я читал, что свой выбор мы совершаем каждый день. Может и так, но когда течешь по инерции в бытовой рутине, когда шлепаешь босыми ногами по лужам мелочей, когда вечером нужно спать, утром нужно на работу, выбора нет. Точнее, в чем-то он наверняка есть, но мы его не чувствуем. Мы просто живем, делая то, что уже привыкли, то, что вросло в нас между обязанностью и привычкой. А ведь если мы чего-то не чувствуем, то оно уже почти не существует. Как слоны, эти полумифические звери, которых я никогда не видел. Вот вроде есть они, и можно даже мечтать их увидеть, так же, как можно мечтать о волшебной щуке, выполняющей каждое желание. Значит, нет никакой разницы между щукой и слонами, потому что они одинаково недостижимы. И нет никакого выбора, пока ты не помнишь о нем. А когда вся жизнь встает на весы, раскачивая на ржавых чашечках все самое ценное, что есть у тебя, чем ты еще дорожишь, тогда мы вспоминаем. И выбор становится единственной реальностью.
Так долго я жил и ждал, ждал и жил, месил грязь на улице, грязь в душе, грязь в мыслях. Молча терпел все, был несчастлив, но все же надеялся. А потом пришел начальник, пощекотал широкой улыбкой, подарил чувство радости в бумажном фантике. Я загорелся, согрелся на этом огне, обрел смысл, цель, уже увидел маячащий впереди выход. Оказалось, что ошибся, не разглядел. Не выход там написано. Выбор. И сознание не выдерживает, начинает шипеть, как подгорающая яичница у плохой домохозяйки, мысли разбегаются по самым пыльным закуткам разума, начиная подлобную войну. Ехать? Брать семью и ехать завтра же. Еще немного дотерпеть, годы пролетят незаметно, но потом жизнь станет другой, именно такой, как я хотел. Уже почти решаюсь, но якоря здравого смысла начинают скрипеть по черепу. Нет, не могу я ехать с ними. Нет там ни университетов, ни театров, дома друг от друга за полчаса ходьбы и страшная пустота. Не могу забрать у сына его будущее, не могу посадить жену на цепь своих амбиций. Как им там жить? Нечего делать, некуда идти и нет никаких шансов что-то изменить. Но и без них я не смогу. Зачем мне море, зачем мне мечты, зачем мне слоны, если их не будет рядом? Для чего? Для кого? Зачем было все это, зачем я жил, зачем ходил на работу, зачем скрипел злым молчанием про коллегу-идиота, зачем оставлял одиночеству, опухшему от слез, женщину, которую я люблю? Зачем я живу сейчас, уже готовый уехать? Чего я ждал так долго, к чему стремился, что на самом деле мне нужно? Смотрю в бумагу, не видя букв. Нужно делать выбор, который изменит все. Нужно выбирать жизнь. Нужно. Настало время. И вдруг я понимаю, что уже его сделал.
Часть 2
Сегодня проснулась раньше, чем обычно. Даже раньше, чем муж. Работа делает его жаворонком – хочешь, не хочешь, но вставай рано. А я убежденная сова. Этакая лупоглазая растрепанная сова, которая не просыпается утром, потому что ей незачем просыпаться. Да и почти уверена я, что эти ярлыки совы и жаворонка – на самом деле разделение на людей, которые знают, зачем живут, и людей, у которых нет ни цели, ни амбиций, ни смысла. Просто потому, что любая самая неисправимая сова вскочит ни свет ни заря, зная, что день готовит ей что-то важное, что-то значимое, что-то, ради чего хочется проснуться еще затемно и начать ждать, лихорадочно бегая от чашки кофе до дверей.
Проснулась резко, словно толкнул в бок неуклюжий сон, а на душе тревожно, сердце колотится так, что голова надувным мячиком подпрыгивает на подушке, звякает в ушах разбитой тарелкой. То ли и правда что-то приснилось, то ли интуиция, шестое кошачье чувство, пытается что-то рассказать да никак не находит слов, только мяукает под грудью ложным ребенком.
Посмотрела на спящего мужа – может, это он по привычке разбросал ноги, словно сражаясь с демоном обиженно надутого одеяла, словно убегая от чего-то мне неведомого. Нет, спит, свернулся новым мокрым младенцем, спрятался закрытыми глазами от мнимых врагов, обнял подушку, прижал к груди, сравняв лежалый пух с возлюбленной женщиной. А лицо совсем детское, ясное. Днем оно у него то хмурится, складочками морщинок прибавляя себе вес и значимость, то улыбается, делаясь от этого добрым и почему-то старым. А сейчас оно чистое-чистое, рассказывает всю правду, ничего не пряча за гримасами – детское лицо взрослого мужчины, прожившего свою жизнь.
Тревога сонно зевнула, но откуда-то из глубины меня подняла свое черно-белое водянисто-прозрачное лицо печаль. Он спит, а мне его не хватает. И объяснить этого я не умею. Пробовала однажды – подошла к нему, сказала "скучаю я по тебе", а он поднял брови, хмыкнул в нос "мы же рядом". И не решилась я больше ничего сказать. Словно скучать по нему вот так, это что-то стыдное, запретное. Да и сама я не ребенок, все понимаю – мы рядом. Рядом, глядя в телевизор, рядом, помогая сыну с уроками, рядом, читая книгу, рядом, отвернувшись в сны. Рядом и всегда далеко, потому что жизнь садится на плечи, требует и требует, просит и приказывает, и надо, надо все успеть. Только я малолетней дурой скучаю по нему. Хочется быть рядом. Рядом без всего лишнего: без телевизора, книг, снов, работы, кухни. А сказать стыдно, потому что это взвешенное «надо» делает бесправными все другие желания, превращая их в подростковый эгоизм.
Пытаюсь снова уснуть, но сон прячется в подушки, шлепает босыми ногами по полу, смеется из тени, и никак паршивца не поймать. Встаю, иду на кухню и сначала открываю свой старенький ноутбук, а потом уже ставлю чайник. Утренний ритуал. Даже зная, что не буду никому писать, пока муж дома – стыдно, неправильно при нем с другими разговаривать. Несмотря на это, открываю, потому что очень хочется хоть одним глазком глянуть, написал ли кто письмо. Просто убедиться, что я нужна и не забыта.
Друзья в сети – чужие люди, но именно этим и притягивают. С чужими легче, их почти не существует, и можно выдумать кого угодно. Даже когда не хочется придумывать, все равно не остается выбора, потому что чужой человек далеко и узнать его по-настоящему – мало шансов. Чужому можно рассказывать о себе то, что не расскажешь близкому. То, что очень важно для меня, о чем хочется говорить еще и еще, а близкие, вроде, и так все знают. Чужому можно умолчать о своих недостатках, стать тем человеком, каким хочется себя видеть: хоть умной, хоть красивой, хоть одаренной, хоть все разом. Чужой никогда не узнает, что у меня бывают расстройства желудка, что я упала на скользком насте, нелепо раскинув ноги и порвав колготки, что ночью с насморком я иногда храплю. А от близкого не скрыть всех тех бытовых мелочей, которые создают полную и целостную картину человека, убивая идеальность. Чужой еще чужой, я для него пока еще загадка, пока еще интересна. А близкий уже добился и руки, и сердца, и живота, и носа. Вот и вишу трофеем на стене его достижений уже без того первого жадного интереса. Еще жалость. Хоть знаю, что плохо это – хотеть, чтобы тебя жалели, а все же иногда хочется, чтобы пожалели, приласкали, погладили. Чужому можно написать, как все плохо в жизни, а близкий махнет рукой – не преувеличивай. Потому что он видит, что происходит на самом деле. Чужому не нужно уходить на работу, чтобы заработать денег на школу для сына и новые колготки взамен порванных. Чужой всегда рядом, у него больше времени на меня. Чтобы быть с близким, нужно учиться любить человека по-настоящему, таким, какой он есть. А влюбленность в чужого легка, намешано в ней фантазий, оторвана она от жизни, от быта, но тем и притягивает глупых бабочек, летящих на свет монитора и сжигающих свои жизни в сетях интернета. Но даже зная все это, упрямо открываю ноутбук. Потому что не хватает мне этого чужого в близких.
Из спальни зашумело, зазевало, зашлепало пятками по полу. Захлопнула ноутбук, не успев ничего прочесть. На кухню вошел сонный розовоглазый муж в застиранных трусах. Неразборчиво пробурчал: «Что-то ты рано, плохо чувствуешь себя?» Покачала в ответ головой: «Нет, не плохо». А говорить не стала. Ему на работу, некогда мои жалобы на жизнь слушать. Но как же иногда хочется рассказать, что нет, не плохо я себя чувствую. Просто не чувствую. Вот когда я была ребенком, все играла да мечтала, и чувствовала себя то грациозной черной пантерой, то легкой белой птицей, то феей лесов, то русалкой озерной. Стала постарше и почувствовала себя зачарованной принцессой, чью истинную красоту сможет увидеть только один избранный, настоящий среди кукол-людей. Потом накрасилась ярко, вызывающе, надела большие серьги и почувствовала себя бунтарем. Когда первый раз устраивалась на работу, чувствовала себя ужасно взрослой, серьезной и деловой женщиной. Когда замуж выходила, снова вдруг почувствовала себя принцессой, которая нашла того единственного, и он действительно увидел. И плакала от счастья. А теперь не чувствую. Ни женщиной – давно я не интересна мужу с этой стороны, устает он так, что спим в разных углах кровати, словно бы в ее центре выросла бетонная стена. Ни человеком – все кажется, что люди как-то живут, куда-то летят, чем-то интересуются, а у меня четыре стены домашних дел и прогулки проторенными дорогами до магазинов, на обратном пути из которых иду уже как ишак, груженный авоськами с картошкой. Кем тут себя чувствовать? Как? Разве что горшком, в который иногда каши нальют, а иногда объедки бросят. И стоит он на полке, вроде бы не нужен, но выбросить жалко. А горшкам ни плохо, ни хорошо не бывает. И тем сильнее манит злополучный ноутбук, этот липкий иллюзион, где я еще нахожу возможность чувствовать себя хоть кем-то.
Если первое время, когда я поняла, что быт загоняет нашу любовь в какую-то молчаливую мерзлоту, я еще пыталась сражаться за отношения ради любви, то потом однажды поняла, что воюю одна, что нужно это только мне. А принца моего, моего единственного-настоящего увлекают другие дела, и не так ему интересно слушать мой скулеж. Стала чаще молчать, больше терпеть, все ждала, когда сам увидит, поймет. Но иногда набиралось тоски до горла, до сжатых в тонкую линию губ, и тогда я срывалась в слова, приобретая в его глазах образ истерички – опять на ровном месте сорвалась. И не объяснить – когда вся дорога ухабистая, можно и на ровном месте споткнуться. Не сказать, что двое в ответе за плоды своей любви, что не могу я одна, не справлюсь. Не справилась. Сдалась. И выросла стена в постели, и слиплись домашние дела с дорогой в магазин. И наступила тишина. Нечего мне сказать. Возражать нечем. Да, жизнь есть жизнь, с этим не поспоришь. И работает он с утра до вечера ради меня, и после работы сына едет забирать от друзей ради меня, и уезжает в командировки ради меня, и устает смертельно ради меня, все ради меня. А я соглашаюсь: «Да, ты прав, да, понимаю, да, жизнь, да, ради меня». Но одного я не могу понять, хотя никогда не спрошу его об этом – почему в жизни, построенной из кирпичиков всех его дел, совершенных ради меня, именно на меня, живую, сегодняшнюю, в итоге не остается ни времени, ни сил. Бессмысленные подвиги любви, убивающие то, ради чего он сражается. Война, сжигающая собственное знамя.
Я молчу, и муж молчит. Так вот в молчании завтракает, читает газету, уходит на работу. Раньше в этом ритуале был еще ничего не значащий поцелуй куда попало, но стерся со временем, как стирается из нас все лишнее, ненужное, лишенное смысла и желания, становящееся незаметно неуместным. Есть такое поверье в миру, якобы человек должен быть счастлив. А правда в том, что не должен. Тем, кто признает эту истину, становится легче жить. Их больше не мучают несбыточные амбиции прекрасного и светлого, они уже ничего не ждут, просто смотрят вокруг и соглашаются с этим миром. И пусть в этом знании сквозит привкусом смерти во младенчестве, когда жизнь умирает, не успев даже проклюнуться из семени, все равно. Так легче.
Господи, господи… Господи. Муж не верит в Бога. Точнее иногда верит, иногда нет, и все пытается нащупать Бога разумом, обосновать его существование хотя бы просто для себя. Не понимает он, что Бога нельзя рассудком, можно только сердцем. Как счастье, как печаль, как любовь. И душу так же. Иногда ее можно почувствовать. Когда смотришь телевизор, убираешься, готовишь, она чаще молчит. Но иногда… Есть порог боли, переступая который, человек падает в обморок, чтобы выжить. И есть порог беды, порог горя. Когда изнутри все рвет, живого места не остается в чувствах, тогда в самой середине тебя что-то замыкается, и перестаешь чувствовать вовсе. Можешь продолжать жить, делать привычные вещи, даже не плакать, не выть в пустоту, расцарапывая плечи. Это душа теряет сознание. И если прислушаться, в этот момент можно даже уловить тихий скользящий шорох ее падения. Тогда человек мертвеет. Остается только тело, которое что-то делает, с кем-то разговаривает, даже улыбается. Только в глазах все мертвое. Там больше нет души.
Хотя, о чем это я? Пока в голове крутятся сумбурные разноцветные слова о любви и боли, день накатывает, начинает толкать раздутым животом в лопатки: «Хватит уже самой с собой лясы точить, дел невпроворот». И убраться нужно, и постирать, и в магазин сходить, и погладить, и еще много чего просто необходимо сделать именно сегодня. Потому что кажется, что завтра будет уже поздно. А слова – что с них толку? Они ничего не меняют: ни замоченную вчера кастрюлю не смогут за меня помыть, ни пыль с подоконника стереть. А иногда просыпается какое-то дремучее знание души, и я понимаю, что любые слова человеческие – это перевод. Причем перевод весьма посредственный, слабенький, плохенький. Разросшийся до нелепости перевод одного единственного слова, которым написан весь мир. Слова, которого нет. И это тем более нелепо – слова нет, а дрянной перевод есть.
Полдень. Муж на работе, сын в школе, а у меня – одиночество на кухне. Это только в книжках одиночество красивое: одиночество в сети, одиночество в строгом черном платье возле окна, одиночество под дождем в фейерверке света витрин, одиночество с бокалом вина возле камина. На деле все иначе – одиночество со шваброй. Полдень для меня – это время бытовых задач. Время одиночества, загнанного до пены повседневности. Полдень – это мой возраст. «Сколько Вам, тетенька?»«Мне двенадцать часов дня». Бормотание диктора в телевизоре, дефиле красивой жизни на экране под аккомпанемент включенного пылесоса, полдень – это образ жизни большинства домохозяек, таких же, как я. А может, домохозяйка – это болезнь, вирус, передающийся по наследству, от матери к дочери, паразитирующий на мечтах и надеждах? И у меня всего лишь плохая наследственность – безрадостная жизнь, как одна большая неудача, подписанная моим именем в паспорте? И бабушка такой была, и мама.
Маму вспоминать трудно. Я редко бываю на кладбище. Похоронила ее, посадила цветы и, уходя, забрала кладбище с собой. И могила матери словно бы не в земле, а в моей собственной груди. Так и ношу ее с собой, а когда вспоминаю, вдруг делается так невыносимо больно, и слезы душат, душат, будто убить хотят, будто тащат в этот общий наш гроб. Плачу без остановки и хочу с ней поговорить. Господи, как сильно, как остро мне этого не хватает – просто иметь возможность быть ею услышанной. Пусть молча, пусть без голоса, но так, чтобы слова мои были именно для нее. Но если не вспоминать, то яма под сердцем ноет не так сильно, оставляет место для вдоха. А жить нужно, у меня сын, муж, для них нужно жить. Вот и бегу я от этих воспоминаний как от огня, а по ночам иногда даю себе волю и рыдаю своей ушедшей матери обо всем, пока никто не слышит. И это «никто не слышит» бьет наотмашь по душе, разрывая сердце. Не слышит. Никто. Как не стало ее – больше никто меня не слышит. Она единственной была, кто мог все понять обо мне. И чувство этой тяжелой утраты живо и умрет только вместе со мной. Потому и не хожу я на кладбище, что какая-то важная часть меня навсегда осталась там, упирается в холодную рыхлую землю ладонями и ревет потерянным ребенком, не переставая.
Разнылась душа, разжаловалась. А на что жаловаться? Все так живут, каждый вынашивает свою боль. Любой скажет, что тебе еще повезло – и муж есть, и сын, и дом. А ты посмотри на тех, на этих – им сложнее, горше. Вот только не верю я, что есть боль маленькая и большая. Ребенок, потерявший игрушку, мужчина, потерявший работу – разве несопоставима печаль в их глазах? Боль измеряется не событием ее породившим, а способностью эту боль переживать в себе. И зачастую сломанная игрушка вдруг становится болью большей, чем потерянная работа. Ведь боль – из рода небытия, она как местный наркоз, а смерть – общий. Маленькая смерть собаки, большая смерть человека? Нет, не верится мне в это, все мы разные, но все – равны.
Выглянула в окно, а на улице никого нет. Ни бабушек, грузным осадком жизни прибиваемых к лавочкам возле домов и шкварчащих там мелкими сплетенками, той бутафорией реальности, которой живут люди, чье прошлое никому не интересно, надежд на будущее уже нет, остается только момент ненастоящего. Ни детей, шумных пестрых стай, властителей замусоренных детских площадок, хозяев покосившихся горок и качелей, наивных птиц, воробушков, синичек, еще вьющих свои гнезда в красивых мечтах и веселых играх, но уже расправляющих крылья вдаль, туда, где ждут их горькие потери, налипшие болячки взрослой жизни и возможность счастья. Даже случайных прохожих – и тех нет, а кажется, что они всегда маячат по улочкам, будто работа у них такая – ходить туда-сюда и то и дело попадаться на глаза. Сейчас словно вымерло все, никого нет. Есть только желтое небо с перепонками осеннего ветра, есть бесстыдно лысеющие деревья, хмурыми мудрецами глядящие сверху вниз, есть редкие капельки дождя на стекле, а в них – отражение всей вселенной. И света везде так много, и воздуха вокруг перебор. Господи, зачем влюбил ты меня в этот мир? Ну что в нем такого? И не счастлива я, и больно мне, и одиноко, и душит усталость, и пугает безнадежность. А посмотрю на оранжевый листик, сорванный ветром, мечущийся между небом и землей, и защемит в груди от красоты. За что, Господи? Встаешь цветами, пробиваешься лунными прорубями в тучах, держишь, не даешь уйти. Смотрю в эту безлюдную пустоту и спрашиваю: «Это Ты?». «Да» – булькает на кухне включенная вода. «Да» – свистит в форточку ветер. «Да» – качают ветвями слабые городские деревца. «Да, это – Я».
Выхожу на улицу покурить. Не потому, что хотелось, а просто чтобы выйти. Без повода как-то неловко, столько дел дома, стыдно просто так на улицу бегать, а тут повод, Господи прости, – сигаретка. Вышла, закурила, а во дворе ветер беснуется, стучит в окна домоседам, кусает развешанное на балконе белье, храпит лошадью, бьет копытом по асфальту, поднимая в воздух мелкий мусор. Хочется вскочить на эту лошадь и уехать далеко-далеко, нестись по небу, разбрызгивая облака, бесновато смеяться булгаковсвкой Маргаритой и лить с высоты на землю недоваренный суп, выбрасывать в проплывающие леса все эти кастрюльки, мисочки, швабры, совки, сковородки, тряпки, эти опостылевшие надгробия девичьих мечтаний. Да только куда мне лететь, как бросить сына, мужа, родных своих? И ветер, будто в отместку, холодит грудь, бьет по лицу, словно пытаясь затолкнуть горький табачный дым обратно в рот.
Господи, как же все надоело! Посмотрю за окно, посмотрю на плиту, снова за окно. Кто-то сравнивает свою жизнь с театром, кто-то с шахматной партией, а у меня – найди отличия. За окном огромная грязно-розовая стена соседнего дома жрет небо и выплевывает провода. Но каждый вечер окна загораются по-разному, по-новому. То домиком, то птичкой, то решеточкой. Больше решительно ничего не происходит, вот и сличаю расположение сегодняшних лампочек со вчерашними и позавчерашними. Нахожу отличия, ставлю галочки в календарь. И мысли приходят иногда, что каждый такой вечерний светлячок окна уже никогда не повторится. Ни завтра, ни через неделю, ни через сто лет. А сама стою в таком же желтом свете и понимаю, что ведь я тоже не повторюсь. Никогда. Ничего не повторится: ни эта спиленная березка во дворе, ни зеленое мусорное ведро в углу кухни, ни запах котлет из соседней квартиры, ни женщина, цокающая по асфальту каблуками, ни ветер, поднявшийся на улице. И все они – и березка, и запах котлет – это и есть я. Они исчезнут, и меня не станет. А завтра на новый свет будет смотреть уже кто-то другой. И так вдруг становится обидно, что жизнь-то – вот она, прямо тут, а я в ней стала не парусником на пахнущих тиной и ракушками волнах, не пересветом солнца среди больших деревьев, а зеленым ведром с красной ручкой и грязно-розовой стеной дома. Не хочется быть собой. Но ведь судьба в том и есть, что каждый день мы повторяем самих себя, раз за разом.