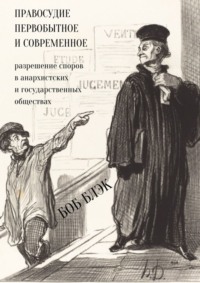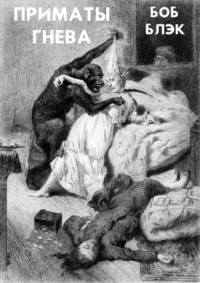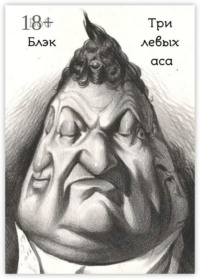Полная версия
Хомский без церемоний
Но как можно критиковать цивилизацию саму по себе? Я имею в виду, например, анархистское сообщество – это же цивилизация. Там есть культура. Там есть социальные отношения. Там существует много форм организации. В цивилизации. На самом деле, если это анархистское сообщество, то оно было бы очень высокоорганизованным, у него были бы традиции… меняющиеся традиции [«меняющиеся традиции»? ]. Там была бы творческая деятельность. Чем это не цивилизация? 15
Язык и свобода
Широко распространено мнение, что Ноам Хомский – теоретик-гегемон в лингвистике. Его издатели поддерживают такое впечатление, чтобы придать веса своему знаменитому автору, именуемому на задней обложке «отцом современной лингвистики». Этот титул по праву принадлежит Фердинанду де Соссюру. Но эта похвала действительно отражает положение Хомского, скажем, на 1972 год. Сегодня это уже неверно. Лингвистическая теория Хомского подверглась серьёзной критике со стороны других лингвистов. Совершенно другая теория, когнитивная лингвистика (КЛ), кажется, постепенно вытесняет её. Меня лишь в некоторой степени интересует когнитивная лингвистика, она хотя бы является эмпирической и в некоторой степени понятной, в отличие от абстрактной дедуктивной теории Хомского. КЛ также придаёт центральное значение смыслу, которым Хомский всегда пренебрегал. Насколько я могу судить, Хомский никогда не признавал существования КЛ. Он игнорирует не только анархистов. 51 52 53 54
Вкратце изложить хомскианскую лингвистику непросто, и я не буду пытаться. Для меня наиболее интересно, что Хомский считает будто язык происходит от чего-то биологического, а не от культуры. Что язык на самом деле не изучается, а «усваивается». Хомский признаёт, что очень маленькие дети не могут усвоить язык, если они не знакомятся с ним в достаточно раннем возрасте, чтобы «активировать систему врождённых идей», подобно тем впечатлённым утятам, что, не зная ничего лучшего, следовали за мешками с тряпками. Но это, объясняет он, процесс созревания, а не обучения. Опыт просто нажимает кнопку, которая включает языковой механизм. Язык не изучается: он развивается. 55 56 57 58
Хомский ясно говорит об этом: «итак, если кто-то заявит, что ребёнок достигает половой зрелости из-за давления со стороны сверстников… люди сочтут это нелепостью. Но это не более нелепо, чем вера в то, что развитие языка есть результат опыта». Он упускает из виду по крайней мере одно отличие. Для овладения языком необходим социальный опыт – воздействие речи. Но полового созревания человек достигнет и без чужого воздействия. Если только вы не думаете, что Питер Пэн не вырос из-за того, что Нетландия населена исключительно детьми. 59
«Врождённые идеи» изначально суть понятия религиозные. Они были полностью опровергнуты Джоном Локком. Единственная причина, по которой сейчас кто-либо всерьёз воспринимает врождённые идеи, заключается в том, что некоторые люди всерьёз воспринимают Хомского. Однако «современное понимание разума обнаруживает неадекватность и неправдоподобность утверждения о том, что люди обладают врождёнными представлениями об УГ [универсальной грамматике], отвечающими за приобретение ими языковых навыков». 60 61 62
Хомский часто называет язык «способностью», вроде зрения, – тем, что дано нам с рождения. Но даже эта так называемая способность зрения формируется культурой. В различных культурах, например, люди воспринимают от двух до одиннадцати цветов: «это не значит, что цветовые термины не имеют своего значения, навязанного ограничениями человеческой и физической природы, как предполагают некоторые; это значит, что здесь допускаются ограничения, – в той мере, в какой они имеют смысл». У народа хануно’о на Филиппинах цветовые термины относятся не к положению в спектре, а к интенсивности. Зрение является естественным, восприятие – культурным. 63 64 65
Согласно Хомскому, лингвистика – это не одна из социальных, культурных или (для Хомского это слово ругательное) «поведенческих» дисциплин, а раздел биологии, о котором биологи по необъяснимым причинам не знают. Поэтому он часто говорит о языковой способности как об «органе», подобном сердцу или печени. Он считает, что разум «более или менее аналогичен телу»; тело «в своей основе представляет собой комплекс органов»; , язык – это ментальный орган. Аналогии, однако – лишь «приправа к аргументам… но аргументом они не являются». Загадочный, самостоятельный, модульный языковой орган (или способность) находится в какой-то неизвестной области мозга. Говорить о языке как об органе – значит, как Хомский однажды признал, говорить метафорически, но обычно он это не уточняет. Задача «невролога» [так в оригинале] – говорит он, – «заключается в выявлении механизмов, задействованных в языковой компетенции». Ни один биолог не идентифицировал и не обнаружил языковой орган. Нейробиологи найдут языковой орган в тот же день, когда археологи найдут Ноев ковчег. 66 67 68 69 70 71 следовательно
Как признают два ученика Хомского, учёные, изучающие мозг, почти полностью игнорируют предполагаемые открытия порождающей грамматики. Но это нормально: по словам Хомского, в науках о мозге «не так уж много общего теоретического содержания, насколько мне известно. Они гораздо более примитивны, чем физика в 1920-е годы. Кто знает, ищут ли они вообще то, что нужно?» Точно так же «физика имеет дело с очень простыми вещами. Помните, что у физики есть преимущество, которого нет ни в одной другой области: если что-то становится слишком сложным, физика передаёт это кому-то другому». Другими словами, универсальная грамматика , чем нейробиология, и более сложна, чем физика. Ноам Хомский Стивену Хокингу: «ешь мою пыль!» 72 73 74 более научна
Поскольку языковая способность одна и та же для всех, разнообразие языков не представляет интереса для лингвистики. Различия между языками «весьма поверхностны»: «все языки должны быть одинаковы, в значительной степени зафиксированы исходным состоянием». В самом реальном смысле существует только один язык. И это значительно облегчает работу Хомского. Если он, к собственному удовлетворению, продемонстрировал действенность некоего трансформирующего принципа для одного языка, и нет никаких оснований полагать, что принцип этот не изучен, то Хомский предполагает, будто он определил универсальное свойство всех языков – так зачем беспокоиться о том, чтобы проверить его на других языках? И это удача для Хомского, потому что, как он говорит, «причина, по которой я не работаю над другими языками, заключается в том, что я не очень хорошо их знаю, вот так просто». 75 76 77 78 79
Почти все понимают, что язык главным образом касается межличностных отношений (т.е. является социальным и культурным феноменом): он связан с . Но не Хомский! Он слишком умён, чтобы признать очевидное. Язык – это социальное явление, ставшее возможным благодаря системе межличностных договорённостей. Можно было бы предположить, что, чем бы ни занималась лингвистика, если речь идёт о языке, то речь идёт о значении. Вот нужен язык всем, кроме Хомского. В самом деле, он считает, что язык плохо приспособлен для общения, но нам удаётся с ним справляться. Но теории Хомского касаются только «трансформационной» грамматики и синтаксиса (грамматика и синтаксис – в понимании других лингвистов, – это не одно и то же, но не для Хомского): они не касаются семантики – значения. По словам Хомского, мы находимся «примерно на том же уровне непонимания значения, что и непонимания интуиции». Когда в 1970-е годы некоторые из его учеников попытались разработать трансформационную семантику, Хомский отрёкся от них. Возникла отвратительная академическая ссора. общением для чего 80 81 82 83 84 85
Но тогда язык для Хомского по сути не является средством общения. Ему язык нужен для выражения Мысли. Недавно он повторил это странное утверждение: «Несомненно, язык иногда используется для общения, как и одежда, выражение лица, поза и многое другое. Но фундаментальные свойства языка указывают на то, что богатая традиция права́, рассматривая язык как по существу инструмент мышления…» Он утверждает: «если под семантикой подразумевается традиция (скажем, Пирс, Фреге или кто-то в этом роде), то есть если семантика – это отношение между звуком и вещью, то её может и не быть». Хомский на самом деле не интересуется языком, он использует его лишь для постижения тайн человеческого разума. 86 87 88 89
Откуда же взялась эта необыкновенная «способность»? Может быть, из космоса – вроде мозгового луча, который поразил обезьян в начале фильма «2001: Космическая одиссея». Или, как говорит Хомский: «если рассказывать сказку, то это почти как если бы давным-давно скитался некий высший примат и произошла какая-то случайная мутация, возможно, после какого-то странного потока космических лучей, и она реорганизовала мозг, имплантировав языковой орган в мозг приматов. Это версия, которую не следует понимать буквально». Разумеется, это сказка, но Хомский больше ничего не может предложить в качестве объяснения происхождении предполагаемой языковой способности или органа. Можно было бы робко предположить эволюцию, но это, само по себе, является лишь ярлыком, выводом, а не объяснением – и, кроме того, «эволюционная теория не многого стоит». Согласно Пиаже, 90 91
Происхождение языкового органа – это происхождение человеческого рода. Со стороны одного из критиков Хомского было вполне справедливо назвать его креационистом. И сказал Господь: да будет речь! И была речь. И услышал Бог эту речь. И Он услышал, что это хорошо. 93
Теория Хомского о языковом «органе» (как он иногда его называет) является биологической, но ни один настоящий биолог не отвергает эволюцию. На самом деле он «сальтационист» (от латинского слова «скачок»), как и некоторые критики Дарвина XIX века. Чудесное внезапное появление языкового органа – это «макромутация», мутация, «обладающая мощным эффектом», и такого рода вещи «время от времени случаются». Но они не влияют на эволюцию видов, потому что, среди прочего, «возникай новые виды таким образом, их представителям было бы проблематично найти себе полового партнёра». Время от времени рождаются сиамские близнецы и двухголовые телята. Они не спариваются и не воспроизводят себе подобных. Эволюция действует путём накопления очень малых модификаций, каждая из которых незначительно улучшает репродуктивный успех, в течение очень долгого времени. Не производя мутантов и монстров. Наверное, было бы очень неприятно оказаться первой говорящей обезьяной, когда не с кем поговорить. 94
Интересно следующее утверждение ведущего генетика, который не задумывался о теориях Хомского:
Для Хомского проблема, решением которой является языковой орган, – это, по его мнению, чудесная особенность, благодаря которой все дети изучают язык в очень раннем возрасте. Качество и количество речи, воздействию которой они бессистемно подвергаются, настолько низки (он говорит о «вырожденном качестве и узко ограниченном объёме имеющихся данных» – вырожденном из ?), что дети не могут выучить язык на опыте, как это обычно предполагалось до Хомского. Дети не учат язык, они «усваивают» его, потому что в фундаментальном смысле они его уже знают. 96 чего
Хомский объясняет чудо другим чудом. Или тавтологией (знание происходит от… знания). Однажды он написал, что «если не иметь в виду чуда», просто должно быть правдой, что быстрое овладение ребёнком языка основано на чём-то врождённом. Без чуда не происходит ничего. Хомский не может без него обойтись. Он никогда не проявлял серьёзных познаний или интереса к психологии развития, как это было очевидно из его дебатов с Жаном Пиаже в 1975 году, так же как он не проявляет никаких познаний в области нейробиологии. Эти науки просто поддерживать его теорию, потому что его теория истинна. Психологи сначала были взволнованы трансформационной/порождающей грамматикой Хомского, когда казалось, что она может иметь семантические последствия, но вскоре они пришли к выводу, что её обещание было иллюзорным. То же самое было и с педагогами. Как правило, научное знание рано или поздно находит практическое применение. Лингвистика Хомского его не нашла. 97 98 обязаны
Рудольф Рокер, которого Хомский назвал последним серьёзным мыслителем, утверждал, что речь не является сугубо личным делом, а скорее зеркалом естественной среды обитания человека, опосредованной социальными отношениями. Социальный характер мысли, как и речи, неоспорим. Что же касается языкового органа, то «речь – это не отдельный организм, подчиняющийся своим собственным законам, как считалось прежде; она есть форма выражения индивидов, объединённых в социальном плане». Это мнение Рудольфа Рокера, последнего серьёзного мыслителя. Любопытно, что Хомский – коллективист в своей политике, но индивидуалист в лингвистике. Рокер по крайней мере последователен. 99 100 101
Это трюизм, что у людей есть способность к языку, потому что у них у всех есть язык и такова «универсальная» истина. Но также верно и то, что все люди обладают способностью носить одежду, потому что все они носят одежду. Будем ли мы считать это признаком нашей врождённой способности носить одежду и делать вывод, что у нас где-то в мозгу есть портновский орган? В отличие от Рене Декарта, Хомский претендует на создание «картезианской лингвистики». Декарт считал, что душа находится в шишковидной железе. А что по этому поводу думает Хомский? 102
Он явно равнодушен к доказательствам: интуитивно вводит определённые постулаты и на их основе делает выводы. Он осуждает эмпиризм, принимая вместо него методологию одного из своих идейных вдохновителей, Жан-Жака Руссо: «начнём же с того, что отбросим все факты, ибо они не имеют никакого касательства к данному вопросу». 103
Конечно, опыт необходим для того, чтобы «активировать систему врождённых идей», но «это вряд ли можно считать „эмпирическим“, если это понятие сохраняет какое-либо значение». Вряд ли. Хомский упоминает, что его собственная теория основывается на трёх предположениях: два из них ложны, а третье неправдоподобно. Он говорил, что существует «масса эмпирических доказательств, подтверждающих противоположный вывод для каждого из тех предположений, к которым я пришёл». Хомский утверждает: 104 105 106
У Хомского на всё найдутся правила, сущности и необходимости.
Вместо того чтобы относиться к какой-то одной способности или органу, языковая способность включает в себя различные способности ума, например, восприятие. Гипотеза Жана Пиаже состоит в том, «что условия возникновения языка составляют часть более широкой совокупности условий, подготовленной различными стадиями развития сенсомоторного интеллекта». В ходе эволюции мозга любая его область могла оказывать влияние на различные способности, способствующие развитию языковой способности. Хомскиизм не согласуется с эмпирическими выводами о синтаксисе. Синтаксис не независим от значения, коммуникации или культуры. Согласно нейробиологии, идея Хомского о синтаксисе физически невозможна, потому что каждая нейронная подсеть в мозге получает информацию от других нейронных подсетей, которые реализуют самые различные задачи. Недолгое время некоторые учёные думали, что они локализовали языковую способность в мозговой зоне Брока, но «теперь мы знаем, что функция языка более широко распределена по всему мозгу». Мышление нисколько не похоже на университетские факультеты. Это междисциплинарная программа. 108 109 110 111 112
Но, памятуя о моих читателях, которые хотят знать, какое отношение всё это имеет к анархизму Хомского, я обращаю внимание на следующие слова: , и . В языке, как и в политике, Хомский считает, что свобода состоит в подчинении необходимости и следовании правилам. Его представления о свободе как о самореализации или творчестве внешне привлекательно, хотя и расплывчато, неполно, и настолько абстрактно, что лишено смысла. Для Хомского творчество «основано на системе правил и форм, отчасти определяемых внутренними человеческими способностями» – хотя он и признаёт, что не знает, что это за способности. Именно так полагал Кант и, возможно, ещё Гегель с фон Гумбольдтом, но это не соответствует верованиям большинства анархистов. Идею свободы Хомского назвали «немецкой идеей свободы», которая больше не значит то, что значила раньше, даже для самих немцев. Идея о том, что художники создают искусство, следуя правилам, могла быть сформулирована только тем, кто художником не является. Вероятно, Хомский не думал об искусстве. Возможно, никогда. правила необходимость требование 113 114
Последняя версия теории Хомского, «минималистская программа», является наиболее экстремальной по части её псевдо-математической абстракции и отрыва от доказательств практического применения. Вот краткое изложение её нынешнего научного статуса: «Теория универсальной грамматики, выдвинутая, как известно, Ноамом Хомским в середине XX века, была исключительно сложна и жаргонизирована (дабы избежать унижения быть понятой), и в последние годы была в почти забыта из-за отсутствия доказательств исследователями лингвистической психологии». 115
Только безумец, подразумевает Хомский, отвергнет врождённые идеи: «сказать, что „язык не является врождённым“, всё равно что сказать, что нет разницы между моей бабушкой, скалой и кроликом». Милосердный способ истолковать это утверждение – пример трюизма епископа Джозефа Батлера: «каждая вещь есть то, что она есть, а не что-то другое». Но язык – врождённый или нет – не единственное различие между его бабушкой, с одной стороны, и кроликом или скалой, с другой. И даже если язык не врождённый, он всё равно отличит бабулю от кролика и скалы. Во многих отношениях у бабули больше общего с кроликом, чем со скалой. У Хомского может быть немного больше общего со скалой, чем у бабули. Это была милосердная интерпретация. 116 117
Безжалостный способ истолковать это утверждение состоит в том, что оно представляет собой бред сумасшедшего.
Очевидно все, кроме Хомского, знают, что основной функцией (или, лучше сказать, важностью) языка, хотя и не единственной, является коммуникация (а не Мысль, мыслящая о Себе), и что язык является культурным, а не биологическим. В самом деле, что может быть более культурным? Общепринято, что именно благодаря способности к «символизации» люди способны производить культуру: «язык – это в первую очередь продукт социального и культурного развития, и воспринимать его следует именно с этой точки зрения». Иногда общепринятое мнение оказывается верным. Согласно Хомскому, язык предполагает генеративную, даже вычислительную процедуру. Но язык, согласно когнитивной лингвистике, может опираться «на способность к символическому мышлению, а не на врождённый алгебраический индекс». 118 119 120 121
Понятие культуры понимается по-разному, но оно всегда подразумевает межличностную систему общих смыслов. Хомский вырвал бы язык из культуры, хотя язык – это сердце культуры. Без него всё, что остаётся – не только неполно, но и непонятно. Культура, таким образом, представляла бы собой совокупность несвязанных видов деятельности, которые практикуются одними и теми же людьми: вещь из обрезков и лоскутков. Сами по себе эти разные виды деятельности не могли бы быть объяснены как части осмысленного целого. Хомскиизм превращает общественные науки в руины, что его вполне устраивает, поскольку науки эти он презирает. 122
Не остаётся ничего другого, как отнести каждую из этих деятельностей также к отдельной «способности» – эстетической способности, религиозной способности и т. д. Это не пародия или искажение Хомского, который считает, что существует «наукообразующая способность» (или «возможность»)! Действительно, всякий раз, когда он хочет, чтобы люди вели себя определённым образом, он просто утверждает, что у них есть врождённая «способность» быть такими, «какая-то способность относится к интеллектуальному развитию, другая – к нравственному, третья – к развитию как члена человеческого общества, [а] четвёртая относится к развитию эстетическому». Сколько же существует этих способностей? Ничего не объясняешь, просто навешиваешь ярлык, как в пьесе Мольера «Мнимый больной», где врачи-шарлатаны торжественно приписывают снотворное действие опиума его «снотворному принципу». Ницше (имея в виду «старого Канта», а также Мольера) писал: «„В силу способности“ – так сказал или, по крайней мере, так думал он. Но разве это ответ? Разве это объяснение? Или это скорее лишь повторение вопроса?» 123 124 125
Способностей можно выдумать сколько хочешь. В буддизме, например, их пять. Это « (1) вера (саддха; в Будду и его учения); (2) энергия (вирья); (3) внимательность (сати); (4) сосредоточение (самадхи); и (5) проницательное прозрение (паннья)». 126
Почему Хомский не объявит о способности к анархии? Потому что это не понравится его левым фанатам и националистам Третьего мира.
биологически такая мутация, свойственная человеку как виду, была бы необъяснима: совершенно неясно уже одно то, почему случайные мутации сделали человеческое существо способным «понимать» звуковой язык, и если, кроме того, необходимо было бы приписать ему врождённость лингвистической структуры, заложенной в разуме, то это обесценило бы саму эту структуру, поскольку поставило бы её в зависимость от тех же случайностей и превратило бы разум, согласно [Конраду] Лоренцу, в набор простых «рабочих гипотез». 92
…размежевание человеческих популяций, по крайней мере некоторых, настолько древнее, что становится трудно принять гипотезу единственной мутации, круто поменявшей человеческое поведение на современное где-то незадолго до позднего каменного века (верхнего палеолита). А раз временные рамки данной ключевой мутации, повлиявшей на поведение, должны попасть в интервал этого перехода, то у одной части человечества эта мутация будет иметь повышенную частоту – как раз там, где мутация появилась, – а у другой части человечества, той, что отделилась раньше, она должна быть редкой. . Но при этом все живущие сейчас люди одинаково владеют понятийным языком и совершенствуют свои культуры в своеобычном человеческом ключе 95
Определим «универсальную грамматику» (УГ) как систему принципов, условий и правил, которые являются элементами или свойствами всех человеческих языков не просто случайно, но по необходимости – конечно, я имею в виду биологическую, а не логическую необходимость. Таким образом, УГ может быть взята как выражение «сущности человеческого языка». УГ будет неизменной среди людей. УГ укажет, чего необходимо достичь при изучении языка, если оно будет успешным. 107
Схоластики и способности
Хомский часто называет языковую функцию, заложенную в мозге, «способностью». Если слово «способность» в данном контексте несколько непривычно, то это потому, что в своём первоначальном смысле оно в значительной степени исчезло из научного дискурса и повседневного языка. Психология способностей «представляет собой модель разума, разделённого на обособленные „способности“». Для каждого действия разума существует своя целенаправленная способность: взаимно однозначное соответствие между структурой и функцией. Психология способностей уходит корнями в древнегреческую философию, но по-настоящему она расцвела в Средние века. Для арабского философа Авиценны, последователя Аристотеля, существовало пять из этих «внутренних чувств»: общее чувство, памятливое представление, искусственная сила воображения, сила оценивания и сила памяти. Фома Аквинский унаследовал от Авиценны эту идею пяти способностей, в своей классификации разделив их на мыслительные и сенсорные. С его подачи они доныне остаются ортодоксальной католической доктриной. Для Фомы Аквинского «разум был, по существу, набором способностей, отличающих человека от других животных». Ни человека, ни животных всё это никуда не приводит. 127 128 129 130
Этот последний пункт объясняет, почему Хомский придерживается схоластической философии сознания, которую сегодня не принимает ни один психолог, ни один биолог и – за пределами Католической церкви – ни один философ. Он крайне озабочен определением «человеческой природы», человеческой сущности, рассматриваемой как определяющее различие между людьми и животными. Хомский называл язык «человеческой сущностью», недоступной никакому другому животному. Языковые универсалии составляют неотъемлемую часть человеческой природы. Почему для него так важно отличаться от других животных? Что плохого в том, чтобы быть животным? Есть ли внутри Хомского зверь, которого он твёрдо решил не выпускать? Животное, которое может не следовать правилам? Анархическое животное? 131
Мне нравится быть животным. В условиях анархии я ожидал бы стать ближе к этому состоянию и больше им наслаждаться. В отличие от консерваторов, я не считаю анархию возвратом к животному началу. В отличие от Хомского, я не думаю об анархии как о триумфе человека над животным. Я думаю об анархии как о поднятии человечеством животного начала на более высокий уровень – осознании его, без подавления.