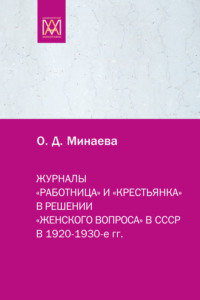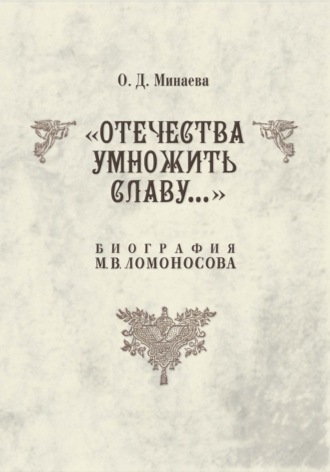 полная версия
полная версияОтечества умножить славу… Биография М. В. Ломоносова
3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, который написал их в качестве частного лица; вторая – те, которые публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те и другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым не следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда дело идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобрения, внушающего почтение, сочинениях, просмотренных и признанных достойными опубликования людьми, соединенные познания которых, естественно, должны превосходить познания журналиста…
4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это – нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе.
5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по естественным наукам и медицине.
6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого, хотя не в этом заключается его прямая задача и его призвание в собственном смысле; но раз уже он занялся этим, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для автора, у которого могли быть свои основания сокращать и опускать некоторые подробности.
7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждении. Ввиду того что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы совершенно неправ, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность»[117].
В этих рассуждениях Ломоносова затронут целый перечень важнейших этических и профессиональных проблем, актуальных и для сегодняшней журналистики.
А. В. Западов рассматривал как «правительственную публицистику» описания фейерверков и иллюминаций, которые публиковались обычно в приложении к газете «Санкт-Петербургские ведомости». Иллюминации в Петербурге устраивались в честь памятных дат. Это были дни вступления на престол императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, дни их коронации, рождения и именин. Традиции Петербурга в устройстве массовых зрелищных представлений переняла и Москва.
«Русские крепостные мастера достигли вершин пиротехнического искусства с тех пор, как ими стал руководить Ломоносов. Он ввел ряд новинок, изобрел ракеты различного рода и в своих проектах иллюминаций всегда предусматривал технические детали, обеспечивая наибольший световой эффект и простоту выполнения эскиза, – писал А. В. Западов. – Иллюминационный театр представлял собою деревянный помост с гигантским фитильным щитом, поставленным вертикально. Художники наносили на его покрытую холстом поверхность задуманную аллегорию. Потом по всем контурным линиям прокладывался фитиль, укреплявшийся на щите гвоздями. Фитили делались разных цветов – одни горели зеленым светом и могли изображать деревья, белый огонь создавал очертания дворцов, синий – морские волны, красный и желтый передавали спелость плодов земных. На транспаранте сияла стихотворная надпись, кратко объяснявшая содержание празднества.
Фитили медленно горели, подожженные разом во многих местах, и великолепная картина вставала перед глазами зрителей на фоне темного неба. Из фонтанов текли огненные потоки, контуры пушек стреляли ракетами, имитируя воинскую баталию, деревья выбрасывали сверкающие цветы, музы и гениусы держали горящие факелы, окружая колеблющимся, но ярким светом вензель императрицы… Низовые и верховые увеселительные огни – ракеты, шутихи, римские свечи – летели со всех сторон, прочерчивая свои строго рассчитанные траектории и рассыпались миллионами блесток. Грамотеи вслух читали надпись, на которую указывали гениусы»[118]. Помимо автора сценария, в подготовке каждой иллюминации участвовали многие сотни солдат и мастеров. Одно только говяжье сало, которое горело в плошках, завозилось сотнями пудов. В каждом таком представлении текст имел важное значение. Содержание иллюминации обязательно подробно описывалось в газетах «Санкт-Петербургские» или «Московские ведомости». Ломоносов также участвовал в подготовке сценариев, текстов и иллюминаций.
Вот описание празднования дня восшествия на престол Елизаветы Петровны в 1748 г. из газеты «Санкт-Петербургские ведомости». После пальбы из пушек и бала гости кушали «вечернее кушанье. При столе Их Императорских Высочеств кушали господа чужестранные послы и министры и российские обоего пола знатные персоны, а в других комнатах за столами 170 персон». На следующий день императрица шествовала с придворными в придворную церковь к обедне, потом принимала поздравления в парадных покоях и опять слушала пушечную пальбу с обеих крепостей. Вечером – торжественный ужин «за богато убранными столами – императрица яко капитан в гренадерском уборе с обер- и унтер-офицерами, а за другими столами гренадеры лейб-компании. Город в оба дни изрядно был иллуминован, а на театре иллуминации против зимнего Ее Императорского Величества дворца зажжена была следующая иллюминация.
Нынешним днем обрадовавшись Российская империя представлена под видом укрепленной двойным валом и рвом крепости, которая столь храбро и благополучно взята, и в знак всеобщей радости и совершеннейшего удовольствия высоким именем и короною достойнейшей Победительницы и законной Владетельницы на штандарте украшена, со следующей подписью или пиитическим изъяснением:
Явив щастливую премену,Чего желал Российский свет,Прешла препятствий многих стену,Восшед на трон Елисавет.На память дня того и оной ночи в честьМы тщимся праздничны сии огни принесть.Того же числа Его Сиятельство господин Президент Академии наук граф Кирила Григорьевич Разумовский поднес Ее Императорскому Величеству именем Академии Наук поздравительную Оду на сей торжественной день которую Ее Императорское Величество милостиво принять соизволила, и сочинителю сего поздравления профессору химии господину Ломоносову всемилостивейше пожаловать изволила две тысячи рублев в награждение»[119].
Две тысячи рублей были подарены Ломоносову в тот период, когда его жалованье профессора составляло 660 руб. в год.
В 1746 г. Ломоносов написал оду на пятилетний юбилей царствования Елизаветы Петровны. Из стихотворных строчек Ломоносова, посвященных Елизавете Петровне, хотелось бы привести следующие:
Молчите, пламенные звуки,И колебать престаньте свет:Здесь в мире расширять наукиИзволила Елисавет.Самым важным для ученого и поэта было именно участие императрицы в «расширении наук». Среди объявлений о продаже книг Ломоносова есть и такое: «В Академической книжной лавке продается собрание разных сочинений в стихах и в прозе господина Советника Михайла Ломоносова, содержащее в себе оды духовные и похвальные, похвальные надписи и слово похвальное Великой Государыне императрице Елисавете Петровне, Самодержице Всероссийской, говоренное им в публичном Академическом собрании»[120].
Академик М. П. Погодин приводит такой «великолепный список» достижений Ломоносова: «Первые годы употреблены были на приготовительные занятия по любимым его наукам, преимущественно химии: он начал читать лекции, устроил лаборатории, произвел множество опытов, – между тем сочинил новую оду на возвращение Императрицы Елизаветы из Москвы после коронации, оду, которая и по предмету, и по красоте языка, и по искусству стихосложения, принята была еще с большим восхищением, нежели первая.
В 1746 году… Ломоносов был облечен званием профессора химии, и с этого почти времени начинается издание и обнародование его знаменитых трудов, следовавших один за другими с изумительною быстротою.
В 1748 году он издал Риторику[121].
1749 – Похвальное слово императрице Елизавете.
1751 – Слово о пользе химии.
1752 – Послание о пользе стекла. К этому же году относится и учреждение им мозаической фабрики.
1753 – Рассуждение об электричестве.
1754 – Русскую грамматику. В том же году написал он Русскую историю до кончины Ярослава и кончил мозаическую картину Полтавского сражения.
1755 – Похвальное слово императору Петру Великому.
1756 – Слово о происхождении света.
1757 – Слово о рождении металлов.
1758 – Собрание сочинений.
1759 – Рассуждение о большой точности морского пути.
1760 – Две песни героической, поэму "Петр Великий" и краткий Русский летописец.
1761 – Наблюдения над прохождением Венеры и рассуждение о разных предметах государственного управления.
1762 – Проект о возможности от о. Шпицбергена проехать по Северному океану в Восточное море.
1763 – Металлургия.
1764 – Трагедии "Демофонт" и "Тамира и Селим".
1765 – 4 апреля скончался»[122].
Большинство публикаций о Ломоносове описывают различные стороны его деятельности, авторы стараются подчеркнуть и проиллюстрировать многосторонность личности ученого, его заслуги в самых разных областях, не только в химии и физике.
Целый ряд публикаций посвящен достижениям Ломоносова-поэта и реформатора русского языка. Вот пример такого рода публикации – из журнала «Вестник Европы» 1822 г. Автор Василий Перевощиков[123]. Он пишет, что Ломоносов «имел живое чувство, пламенное воображение», «он первый составил для языка русского истинные правила, его Грамматика служила образцом всех Грамматик, сочиненных в последствии… Он первый написал на российском языке Риторику. Он первый написал сокращение Российской Истории…, первый начал сочинять полную Российскую Историю, подражая древним великим образцам. Он говорил о физических предметах с ясностью, точностью, красотой и великолепием; он написал похвальное слово, близкое к совершенству; он испытывал свои силы в драматических и эпических творениях; он написал оды, показывающие великий талант стихотворческий. Наконец, он первый почувствовал и показал истинное различие общеупотребительного языка и его правил от языка церковного…, очистил, обогатил, усилил язык российский.»[124].
А. С. Пушкин написал о Ломоносове в нескольких статьях: «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», «Путешествие из Москвы в Петербург». Он особенно подчеркивал широкий круг интересов ученого: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка»[125].
Однако Пушкин считал, что Ломоносов – не поэт. «Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни: если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным».
А. С. Пушкин развил эту мысль в статье «Путешествие из Москвы в Петербург»: «… как исправный чиновник, а не поэт, вдохновленный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славенская, полу-латинская, сделалась было необходимостью: к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения [курсив мой. – О. М.]. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокоторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!.. Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении»[126]. Пушкин приводит отчет Ломоносова о научных трудах с 1751 до 1757 гг., написанный для И. И. Шувалова.
И этот отчет только подтверждает правоту Пушкина, который написал: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом»[127].
Широту интересов Ломоносова подчеркивает и академик М. П. Погодин: «Производя такие опыты, издавая такие сочинения, Ломоносов в то же время читал лекции, управлял гимназией, писал проекты об академиях, университетах, гимназиях, путешествиях, изданиях газет, атласов, снаряжал ученые экспедиции, давал им инструкции, отвечал на все возражения, писал стихи на примечательные происшествия, сочинял надписи к фейерверкам, любимому удовольствию того времени, надписи к разным аллегорическим и историческим произведениям, сочинял оды»[128].
Оды Ломоносова нужно рассматривать в контексте современной ему литературы и журналистики, а также как образцы публицистики, имеющие общественное звучание.
Профессор А. В. Западов находит в одах Ломоносова «логическую убедительность, четкое построение, и высокая риторика сочетается… с поэтическими образами большого художественного достоинства. Это зрелый Ломоносов, поэт неподдельного гражданского чувства, опытный ритор и проницательный исследователь природы»[129]. Он также подчеркивает, что публицистичность од Ломоносова – их «своеобразная и замечательная особенность».
Оды Ломоносова выходили отдельными изданиями, включались и в сборники его сочинений. «Их ждали, в строки внимательно вчитывались, разглядывая за словесными украшениями и витиеватыми речами ясные и глубокие мысли поэта. Торжественная ода была единственной и притом официально признаваемой формой общения автора с читателем, она позволяла высказать думы, планы, соображения, для передачи которых русская общественная жизнь никаких других способов не давала»[130].
«Оды и были "газетами" Ломоносова, если угодно – "дневником писателя", средством связи его с читающей публикой, умевшей видеть за пышными похвалами императрице [Елизавете Петровне. – О. М.] принципиальные положения автора и понимать его намеки и аллегории»[131].
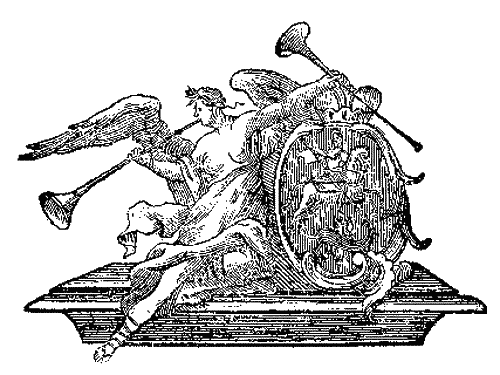
Ломоносов и Императорский Двор
Из биографии, написанной Я. Штелиным: «Его таланты и сочинения приобрели ему высочайшую милость императрицы [Елизаветы Петровны. – О. М.], которая, в изъявлении своего благоволения, пожаловала ему довольное поместье Каровалдай при Финском заливе; он пользовался особенною благосклонностию многих вельмож русского двора, как, например, канцлера графа Воронцова и брата его сенатора графа Романа Ларионовича, камергера Ивана Ивановича и генерал-фельдцейхмейстера графа Петра Ивановича Шувалова, гетмана и президента Академии графа Разумовского и многих славных ученых Европы и целых обществ, как например, повторюсь, королевской Шведской Академии наук и знаменитой Болонской Академии, которая сделала его своим членом; наконец, сама императрица Екатерина II всемилостивейше признала его заслуги и, зная его особенные познания о внутреннем устройстве государства и о состоянии островов, лежащих далеко на север, благоволила потребовать от него письменные его сочинения об открываемых тогда островах на Камчатском и далее на Ледовитом море и проч»[132].
Елизавета Петровна (1709–1761) – дочь Петра I, правила в 1741–1761 гг. На время ее царствования пришелся самый плодотворный период в жизни Ломоносова, да и карьера его складывалась успешно: при ней он стал профессором и коллежским советником, владельцем дома в Петербурге и поместья с 200 крепостных. Он надеялся, что Елизавета продолжит дело своего отца, посвятил ей несколько од и стихотворных надписей к иллюминациям в ее честь, а после ее смерти – надгробную надпись.
Несколько раз Ломоносов встречался с императрицей лично. Например, 27 августа 1750 г. он был на приеме у императрицы Елизаветы Петровны в Царском Селе и имел с ней беседу о значении науки для изучения естественных богатств России и развития отечественной промышленности[133].
Отношения новой императрицы – Екатерины II – и Ломоносова складывались не очень удачно. В мае 1763 г. она подписала, а потом отменила указ о «пожаловании» Ломоносова чином статского советника и «вечною от службы отставкою». Чин этот Ломоносов получил в 1764 г. и без отставки – в качестве признания его заслуг.
Возможно, Екатерина II была недовольна тем, что Ломоносов приветствовал императора Петра III в оде, выпущенной через три дня после его вступления на престол, – это предположение неоднократно высказывалось.
После переворота, в результате которого Екатерина II свергла мужа и стала императрицей, Ломоносов писал оду для нее больше 10 дней. Ода якобы не понравилась Екатерине, она там названа «воскресшей» Елизаветой, «Петровой внукой», которую «поют», «как пел Петрову дщерь». Ломоносов призывает Екатерину «златой наукам век» продолжить.
И. И. Шувалов при Екатерине II вынужден был уехать за границу, он долго путешествовал. Однако затем противоречия его с новой императрицей сгладились, он даже покупал для Эрмитажа картины – Екатерина II умела хорошо использовать кадры. Однако влияние Шувалова пошло на убыль. Потеряли былое влияние и другие покровители Ломоносова – елизаветинские вельможи.
Учитывая то, что Ломоносов старался в парадных и помпезных (по форме) одах и речах высказать свои впечатления и пожелания власть имущим, интересно, что же он говорил о Екатерине II.
Вот, например, выдержка из речи Ломоносова во время избрания его Почетным членом Академии художеств (1763 г.): «Коль много может вас побудить неусыпное око толь бодрой Монархини, которая сочетает мужество с прозорливостью, правосудие с милосердием, благочестие с щедростью, премудрость с трудолюбием; высочайшую свою на земле власть чрез украшение от наук и художеств величественнее быть почитает, и Отечество больше просвещением, нежели повелительством возвысить и прославить тщится»[134].
Итак, императрица «бодрая», «мужественная», «прозорливая», «милосердная», «благочестивая» и «щедрая», «премудрая» и «трудолюбивая», а главное – прославить Отечество собирается просвещением, а не «повелительством». Мужественно совершившая переворот, щедро наградившая своих сторонников, прославившаяся трудолюбием, очень деятельная и полагавшая в просвещении залог развития страны – за срок чуть больше года правления Екатерины II Ломоносов достаточно точно охарактеризовал императрицу. В той же речи Ломоносов говорит о «благословенном веке премудрой Екатерины» – потом современники добавят еще определение «золотой» этому «веку». Среди вельмож века Екатерины II нашлись новые покровители Ломоносова. Однако дело не в протекции Григория Орлова или других сановников. Екатерина II прекрасно понимала значение Ломоносова и ценность его знаний, даже не разбираясь в физической химии.
По его представлению Екатерина II издала указ об организации тайной экспедиции для поисков «северо-западного прохода» в Тихий океан. Ломоносов первым понял политическое и экономическое значение освоения Северного морского пути. Он впервые занялся разработкой физической и экономической географии России, будучи во главе географического департамента Академии наук.
В 1763 г. Ломоносов произведен в статские советники. Публикация в «Санкт-Петербургских ведомостях» сообщает: «Именным Ее Императорского Величества[135] указом, за подписанием собственной Ее Величества руки, коллежский советник и профессор господин Ломоносов пожалован статским советником, с произвождением 1875 рублев годового жалованья, которое ему получать из суммы Академической»[136].
Статский советник – чин 5-го класса с обращением «Ваше Высокородие» – должности вице-губернаторов. Екатерина продолжила в этом указе традицию императрицы Елизаветы Петровны. Ломоносов был уже тяжело болен, но отблагодарил императрицу новой одой.
7 июня 1764 г. императрица Екатерина II посетила дом Ломоносова. О том, что Екатерина почтила русскую науку в лице М. В. Ломоносова, историк С. П. Шевырев напишет через 100 лет: «Она посетила великого старца в его доме; она озарила закат славных дней его своим посещением». «Великому старцу» Ломоносову на момент императорского визита было 53 года.
Отчет о визите императрицы был опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 15 июня 1764 г., а 25 июня слово в слово перепечатан в газете «Московские ведомости».
«Монаршее благоволение к наукам и художествам есть некоторое божественное одушевление оных. Снисхождение Величества подобно живительной силе, которую благорастворенный воздух вливает в животных и произрастающие от недр земных творения», – так начинается отчет[137]. Автор вспоминает Петра I, который посещал «не только знатные ученые общества, но и приватные домы в науках и художествах людей искусных и рачительных». Екатерина II названа «достойной дел Его Преемница». Автор заметки напоминает о ее посещении Академий наук и художеств, «которыми не токмо оным учреждениям высочайшую свою милость благоизволяет оказывать, но и действительно простирает свое проницательное внимание в самые тонкости и в подробное рассмотрение приращения и успехов». Дом Ломоносова таким образом поставлен в один ряд с Академией наук и Академией художеств. 7 июня императрица «в четвертом часу» дня «с некоторыми знатнейшими Двора своего особами» удостоила «своим высокомонаршеским посещением статского советника и профессора господина Ломоносова в его доме, где изволила смотреть производимые им работы мозаичного художества для монумента вечнославной памяти Государя Императора Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты; чем подать благоволила новое высочайшее уверение о истинном люблении и попечении своем о науках и художествах в Отечестве». Визит длился почти до семи часов вечера. Ломоносов «при отъезде подал Ее Императорскому Величеству всеподданнейше следующие стихи тогдашнего им сочинения:
Геройство с кротостью, с премудростью щедроты,Соединенныя монаршески добротыВ благоговении, в восторге, зрит сей дом,Рожденным от наук усердствуя плодом,Блаженства новаго и дней златых причина,Великому Петру вослед ЕкатеринаВеличеством своим восходит до наук;И славу праведной усугубляет звук.Коль счастлив, что могу быть в вечности свидетель,Богиня, коль твоя велика добродетель!».После смерти Ломоносова Екатерина II указала его «казенные долги простить». Долги были связаны с работой мозаичной мастерской и Усть-Рудичной фабрики.
Ломоносов – один из наиболее значительных деятелей России XVIII в. Реформы Петра I, в том числе и в образовании, были лишь начаты, его прогрессивные идеи нуждались в практическом воплощении. В годы правления Елизаветы Петровны и Екатерины II были предприняты меры для воплощения в жизнь петровских реформ. В частности, это относится и к образованию: становление Академии наук, создание Московского университета, открытие публичных библиотек, поднятие престижа научных знаний, формирование аудитории светского книгопечатания и периодических изданий, обсуждение в печати идей просвещения и воспитания «безупречного гражданина». Этот ряд можно продолжать и дальше. И во всем этом огромна роль Ломоносова – и как деятеля, и как символической фигуры.