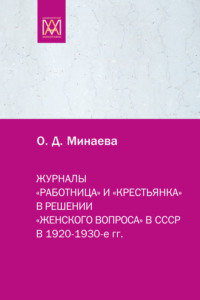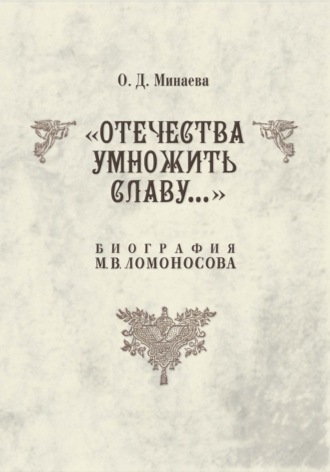 полная версия
полная версияОтечества умножить славу… Биография М. В. Ломоносова
В 1749 г. по просьбе Л. Эйлера Ломоносов пишет диссертацию «О рождении и природе селитры», где призывает ученых «соединить физические истины с химическими». Он закладывает основы современной физической химии. Разрабатывая проблемы этой науки, Ломоносов изучает вязкость жидкостей, явления капиллярности и кристаллизации, выделение тепла при химических реакциях и растворении вещества. В 1752–1754 гг. он впервые в мировой практике читает курс физической химии.
М. П. Погодин приводит такой якобы случившийся эпизод: «Шувалов, принявший Ломоносова под свое покровительство, советовал ему для высшего успеха в словесности, оставить упражнения в физике и химии. Ломоносов отвечал, что в том нет ни нужды, ни возможности, по причине его пристрастия к сим наукам, и что они ежедневно служат ему вместо успокоения. “Потерять бесплодно все мои великие химические труды, в которых я три года упражнялся, будет мне несносное мучение”»[65].
Об этом эпизоде наверняка можно сказать только то, что именно научная деятельность была для Ломоносова основным смыслом жизни и отрадой. Поэзия и другие его занятия – второстепенны. Химия настолько была любима Ломоносовым, что он посвятил ей такие стихотворные строчки:
В земное недро ты, Химия,Проникни взора остротойИ, что содержит в нем Россия,Драги сокровища открой.Отечества умножить славуИ вяще укрепить державуСпеши за хитрым естеством,Подобным облекаясь цветом;И что прекрасно токмо летом,Ты сделай вечно мастерством.С получением звания профессора Ломоносов получил новое жалованье – оно достигло 660 руб. в год. Это уже серьезная сумма. Но «сколько можно видеть по сохранившимся документам, денег у него почти никогда не было: мы находим постоянные просьбы о выдаче жалованья вперед, тяжбы по векселям и т. д. В качестве поручителя за уехавшего за границу и не возвратившегося в Петербург академика И. Гмелина Ломоносову пришлось в 1748 и 1749 гг. уплатить более своего годового оклада, 715 руб.; И. Гмелин возвратил эти деньги лишь значительно позже», – писал Б. И. Меншуткин в своей монографии[66].
1 марта 1751 г. 40-летний Ломоносов получил чин коллежского советника с жалованием 1200 руб. в год «за его отличное в науках искусство». Это чин 6-го класса по Табели о рангах – средний уровень чиновника для руководящих должностей. Профессор А. В. Западов пишет, что награждение этим чином «давало Ломоносову крупный вес в академических кругах»[67]. И это значительно более высокий уровень доходов и высокий социальный статус – головокружительно высокий для крестьянского сына.
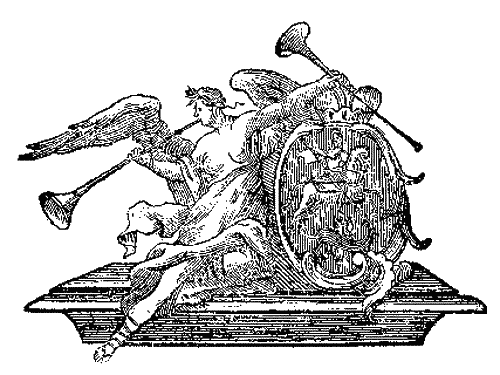
Увлечение мозаичными картинами
В конце 1740 гг. М. В. Ломоносов увидел привезенную из Рима графом П. И. Шуваловым мозаику (по другим сведениям это был граф М. Л. Воронцов), восхитился и начал интенсивные работы по возрождению в России этого искусства. Он самостоятельно разработал рецептуру приготовления разноцветной смальты, создал рецепт мастики, на которую крепятся кусочки цветного стекла. Первой его работой стал Образ Божией Матери по картине итальянца Солимены (1752 г.). Позже Ломоносов создал четыре портрета Петра I. Он набрал учеников для обучения мозаичному делу и получил двух лучших художников из рисовальной палаты: Матвея Васильева и Ефима Мельникова.
Весной 1752 г. императрица Елизавета Петровна подарила Ломоносову поместье в девять тысяч десятин[68] земли с 212 душами крестьян для постройки мозаичной и бисерной фабрики и выделила крупную беспроцентную ссуду. Он назвал свое поместье Усть-Рудицы, построил необходимые здания, самостоятельно сконструировал все оборудование и инструменты. Фабрика не принесла дохода, но положила начало стекольному и мозаичному делу в России.
Ломоносов много экспериментировал с производством стекла. С этим его увлечением связан сюжет одного из «анекдотов». В нем объясняется, как появилось стихотворное послание Ломоносова И. И. Шувалову «О пользе стекла». Эта история была напечатана в журнале «Москвитянин» в 1845 г. «М. В. Ломоносов, обедая однажды у И. И. Шувалова, был в кафтане с большими стеклянными пуговицами, какие тогда нашивали, – и какие мы видали только в маскерадах. Кто-то из гостей – петиметр[69] того времени – неосторожно заметил, что стеклянные пуговицы давно уже не в моде. Ломоносов со свойственною ему горячностию отвечал, что, не следуя моде, он предпочитает их металлическим и всяким другим, и всегда будет носить их из уважения к стеклу. И начал исчислять пользы, доставляемые стеклом в домашнем быту, в ремеслах, художествах, науках и проч. и проч. – Исчисленные Ломоносовым пользы стекла показались так важны хозяину, что он просил своего гостя описать все это в стихах. И следствием того было известное послание Ломоносова к Шувалову "О пользе стекла".
Справедливо это происшествие? – теперь между нами живых свидетелей нет. Но так оно дошло до нас по рассказам и по преданию. Судя однако ж по характеру ученого поэта – горячему, пылкому, настойчивому – можно не токмо допустить возможность события; но нельзя даже много и сомневаться. Самое начало послания
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут хуже минералов и проч.
служит подтверждением и доказательством бывшего спора о стекле»[70].
Летом 1756 г. Ломоносов получил землю в Адмиралтейской части Петербурга, построил там дом и мозаичную мастерскую, куда перевел часть мастеров из Усть-Рудиц. В этой мастерской были выполнены портреты Елизаветы Петровны, наследника престола Петра Федоровича, его матери Анны Петровны, графа П. И. Шувалова, Екатерины II.
В 1762–1764 гг. Ломоносов создал последнее в своей жизни грандиозное полотно «Полтавская баталия» для неосуществленного проекта памятника Петру I. Об окончании этой работы Ломоносов отправил донесение Сенату: «Неусыпным тщанием сие новое и многотрудное дело ныне совершено, и помянутая мозаичная великая картина в 2 года 7 месяцев окончена набором, шлифовкою и полированием, и рамы по пропорции и по приличеству сделаны медные, кованые и жарко вызолоченные червонным золотом в огне»[71]. В «Санкт-Петербургских ведомостях» в рубрике «Подряды» было опубликовано такое объявление: «Желающие позолотить доброю жаркою позолотой медные рамы к мозаичной картине Полтавской победы, в которых вся поверхность около трех сот квадратных футов, могут для подряду явиться у статского советника господина Ломоносова в доме его на Мойке»[72].
В 1822 г. в журнале «Отечественные записки» будет помещено объявление об аукционе «вещам графа П. В. Гудовича»: «к числу замечательных художественных произведений принадлежит мозаический портрет Петра Великого работы славного М. В. Ломоносова, приобретенный за 240 р. издателем Отечественных Записок…»[73]. Издателем журнала «Отечественные записки» в этот период был П. П. Свиньин, живо интересовавшийся историей жизни М. В. Ломоносова.
За достижения в мозаичном деле Ломоносов был избран в члены российской Академии художеств и Болонской Академии.
В «Прибавлении» к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 24 октября 1763 г. напечатан подробный отчет о том, как 10 октября в Почетные члены Императорской Академии художеств был избран профессор Михайло Ломоносов – именно так написано в тексте. Когда директор, члены Академии и приглашенные гости собрались, им было зачитано представление о кандидате. Отмечено, что «Коллежской Советник Ломоносов Санктпетербургской Императорской и Королевской Шведской Академий Наук Член и Химии Профессор, знанием и заслугами известный в ученом свете, не токмо простираясь в науках славное приобретал имя но и по склонности к художествам открыл к славе России толь редкое еще в свете Мозаичное искусство». Далее Ломоносова приветствовали от имени Академии художеств, заявив о том, что уважая «Ваши достоинства и приобретенную славу во ученом свете; а особливо почитая толь редкое еще Мозаичное искусство, которое вашим рачением и трудами не токмо к славе России открыто, но и с подлинным успехом совершенства достигает; чего для все почтенное собрание согласно к чести и пользе Академии за благо рассудило присоединить Вас в достоинство Почетного Члена Академии».
Ломоносов «благодарил собранию сею речью: С должным благодарением принимаю от Императорской Академии Художеств толь чувствительной знак ее ко мне благоволения, которое не по знанию моему в высоких искусствах оказать рассудила, но больше уважила мое к ним любление. Однако же, сколько в силах состоит, не примину употреблять возможного рачения, чем бы показать себя достойным такого присвоения, особливо по наукам, которые с художествами тесным союзом сродства соединяясь, всегда требуют друг от друга взаимного вспомоществования»[74]. Далее Ломоносов отметил заслуги императрицы Елизаветы Петровны в поддержке российского искусства и науки, а также красочно и пространно описал, насколько «в благословенный век премудрой Екатерины» можно «представить пред очами просвещенной Европы проницательное остроумие, твердое рассуждение, и ко всем искусствам особливую способность нашего народа».
После Ломоносова в члены Академии художеств принимали «господина Грота, живописца разных зверей и птиц» с картиной, изображающей черного орла, терзающего тетерева.
В этой же заметке говорится, что в тот же день Академию художеств «приватно изволила» посетить императрица Екатерина II, прошла по классам, «с особливым удовольствием благоволила смотреть на произвождение каменосечного художества, как оное начинается от пуссирования (лепленья) из воску, и происходя по разным степеням, достигает до совершенного дела мраморных статуй».
Неудивительно, что таким образом соединенные в одной заметке Ломоносов и живописец Грот оказались героями «анекдота», опубликованного в 1830 г. в «Литературной газете». «Ломоносов обедал однажды у И. И. Шувалова с каким-то провинциалом. Шувалов читал не за долго перед тем новое произведение Ломоносова, и за обедом завел о том разговор с своим гостем-поэтом, хваля его картины. Простодушный провинциал вслушивался в разговор, и выразумев из него только, что дело шло о картинах, просил Ломоносова списать портреты с него и жены. – "Это не по моей части, сударь, – отвечал улыбаясь Ломоносов, – я пишу в другом роде. Но если вам угодно иметь верный ваш портрет, то советую вам попросить о том Грота". Грот был живописец, славившийся тогда в Петербурге списыванием зверей»[75].
В марте 1764 г. во «Флорентийских ученых ведомостях» по инициативе М. И. Воронцова[76] была помещена статья об успехах Ломоносова в мозаичном искусстве. Перевод статьи был напечатан в Петербурге в журнале «Ежемесячные сочинения и известия об ученых делах» в майском номере. Там же напечатано сообщение о том, что Ломоносов избран членом Болонской Академии наук за успехи в изготовлении мозаики и картин из нее.
В статье во «Флорентийских ученых ведомостях» рассказывалось об истории возрождения мозаики Ломоносовым. Особо отмечалось, что глубокие знания химии и терпение помогли ему достичь «искусства производить все цветы», которые при сравнении с римскими ни в чем им не уступают. Подробно описана картина «Полтавская битва». Ширина картины три сажени[77], высота – две с полуаршином[78]. Лицо Петра I «весьма сходственно», поскольку «снято с гипсовой подлинной отпечатки и с самых лучших портретов». На картине представлены генералы Шереметев, Меньшиков, Голицын. Ломоносов в композиции картины пользовался картинами известных художников-баталистов. Вес картины «больше 80 пуд[79], кроме медных рам», она укреплена железными полосками весом более 50 пудов[80]. Для удобства «отделки» и осмотра картина закреплена на бревенчатой машине, которая ее поднимает и поворачивает. В статье упомянута и диссертация Ломоносова о свете и цветах[81].
Ломоносов благодарил за большую честь Болонскую Академию наук. В ответе профессору Ф. Цанотти, секретарю Болонской Академии, он написал: «Весьма радуюсь и изъявляю Вам великую благодарность… Полагаю, что человеку, преданному науке, ничто не бывает столь приятно, как одобрение людей, чьи великие и славные заслуги в науке всему миру и ученой среде так известны.»[82].
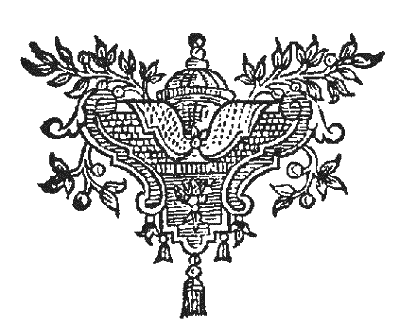
Опыты с электричеством
В 1750 гг. М. В. Ломоносов увлекся опытами с атмосферным электричеством и изучением природы молний. В 1753 г. на заседании Академии он произнес речь «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих», в которой весьма близко подошел к разгадке природы грозы. По его мнению, грозовые разряды происходили от трения частиц паров, находящихся в воздухе. В 1754 г. М. В. Ломоносов изобретает для исследования высоких слоев атмосферы так называемую «аэродромную машину». Он отмечает необходимость постоянного слежения за погодой с помощью поднимаемых на высоту самопишущих приборов. Его идея была реализована лишь в конце XIX в.
Исследованию грозовых разрядов посвящена одна из немногих содержательных прижизненных публикаций о Ломоносове в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 4 июня 1753 г.[83] Заметка начинается со слов: «В рассуждении бывающей в воздухе электрической силы коллежский советник и профессор господин Ломоносов приметил следующее». И далее подробно описывается суть эксперимента. «К железному пруту» около шести сажен[84] в высоту, выставленному «на воздухе» была привязана «нитка», которая «от висящего с нею железа чувствительно удалялась и за перстом гонялась», что доказывало наличие в воздухе «электрической силы», хотя из туч на горизонте «не видно было блеску, ниже грому слышно». В тот же день другая туча дала возможность наблюдать, как «нитка указателя отходила далее тридцати градусов, и удары из проволоки с ярыми искрами и с треском толь сильны были, что перстом прикоснуться едва было сносно, и хотя к концу железного в низу прута, при котором нитка как указатель привешена, металлы в отстоянии трех или четырех линий были приближены, медь, железо и серебро по переменам, и всякую секунду по две и по три искры в них ударяли, и почти беспрерывно с треском продолжались; однако нитка весьма мало опадывала, но показывала почти один электрической силы градус близ получаса вовремя крупного дождя».
Ломоносов делает такие выводы: «… Из сего наблюдения явствует, что электрическая в воздухе сила далее громового треску распростереться, или и без того действительному грому быть может. Ежели второе правда, то не гром и молния электрической силы в воздух, но сама электрическая сила грому и молнии причина. Сие подтверждается тем, что электрическую силу искусством без грому произвести можно; напротив того произведенной искусством гром и молния электрической силы не показывает, что господин профессор Рихман при помянутом господине советнике и других любопытных в торжественный праздник Коронации Ее Императорского Величества на Санкт-Петербургской крепости при пальбе из пушек способом пристойных инструментов пробовал».
Обращает на себя внимание то, что Ломоносов пробовал прикасаться «перстом» к металлическому шесту и это «едва сносно было». Во время аналогичных опытов по изучению электрических разрядов погиб его друг профессор Г. В. Рихман. Сохранилось письмо Ломоносова И. И. Шувалову, написанное в день трагедии. В нем – искренние чувства очевидца, потрясение от смерти друга и… точное научное описание трагедии. Это письмо дает возможность лучше, полнее понять многоплановую личность Ломоносова. И услышать его прямую речь:
«Что я ныне к Вашему Превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю еще, или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Сего июля в 26 число в первом часу пополудни поднялась громовая туча от Норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку електрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых електрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие; и как я, так и они беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мной споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что щи простынут, а притом и електрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан; он чуть выговорил: профессора громом зашибло. В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лицо, с которым я за час сидел в конференции, и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар от привешенной линеи с ниткою пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу; а вышла из него громовая електрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нем возобновить, за тем, что он еще был тепл; однако голова его повреждена; и больше нет надежды. И так плачевным опытом уверил, что електрическую громовую силу отвратить можно; однако на шест с железом, который должен стоять в пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет. Между тем умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет; но бедная его вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастии плачут. Того ради, Ваше Превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора до смерти своей пропитание имела, и сына своего маленького Рихмана могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Ему жалованья было 860 руб. Милостивый государь! Исходатайствуйте бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки и
Вашего Превосходительства всепокорнейшего слугу в слезах Михайла Ломоносова Санктпетербург 26 июля 1753 года»[85].
Ломоносову в этот момент 41 год. Он вполне мог оказаться на месте профессора Рихмана – они ставили одинаковые опыты и получается, что жизнь их в тот момент зависела от размеров грозовой тучи.
В стихотворном наследии Ломоносова тема молнии так отражена:
Что может смертным быть ужаснее удара,С которым молния из облак блещет яра?Услышав в темноте внезапной треск и шумИ видя быстрый блеск, мятется слабый ум,От гневнаго часа желает гдеб укрыться,Причины онаго исследовать страшится,Дабы истолковать что молния и гром,Такия мысли все считает он грехом.В 1756 г. Ломоносов произносит «Слово о происхождении света», где связывает световое излучение с движением материи. Он являлся сторонником Х. Гюйгенса, развивавшего волновую теорию света, и критиковал за многие несоответствия корпускулярную теорию И. Ньютона. Речь была издана, об этом сообщалось в газетах: «В Академической книжной лавке продается речь говоренная в 1756 году коллежским советником Ломоносовым о свете и о цветах на латинском языке по 15 коп.»[86]. Есть и еще одно сообщение: «Санкт-Петербургские ведомости» сообщают еще о том, что «в Академической книжной лавке продается господина коллежского советника Ломоносова речь, говоренная в публичном собрании Академии Наук сего сентября 6 числа о рождении металлов от трясения земли, на российском языке по 12 копеек»[87].
30 апреля в 1760 г. Ломоносов избран членом шведской Королевской Академии наук.
В 1761 г., наблюдая прохождение Венеры по диску солнца, Ломоносов обнаружил наличие атмосферы у этой планеты. Осознав несовершенство техники, которой пользовались современные ему астрономы, Ломоносов в 1762 г. создает новейший по тем временам телескоп, состоящий только из одного зеркала и окуляра (позже, в 1789 г., такой телескоп был построен англичанином Гершелем и теперь носит его имя).
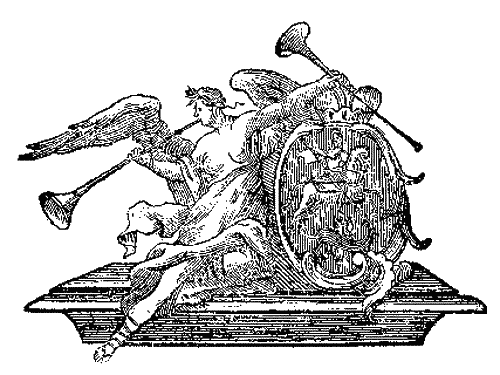
Ломоносов и Московский университет
Ломоносов и Шувалов – эти имена сразу вспоминаются, когда заходит речь о создании Московского университета. Их отношения очень интересовали журналистов. Шувалов сыграл важную роль в жизни ученого. «Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека; счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше, благородную, деятельную душу. Одним словом: (редкое явление!) вельможа и поэт угадали друг друга»[88], – написал К. Н. Батюшков в одной из первых статей о Ломоносове. Даже в «анекдотах» – забавных и занимательных историях о Ломоносове, часто фигурирует И. И. Шувалов[89].
«Юный царедворец (Иван Иванович Шувалов родился в 1727 г.), несмотря на выпавший на его долю "случай", оставался человеком простым и доступным, каковым его сделало воспитание, данное ему его матерью Татианой, в весьма скромных материальных условиях. Вероятно, влиянию матери обязан был Иван Иванович и любовью своею к просвещению. Сохранились его письма, в которых он мечтает об устройстве в России гимназий и народных училищ»[90], – с характеристики основателя Московского университета и его дружбы с Ломоносовым начинается статья к 150-летию университета.
Шувалов[91] был на 16 лет младше Ломоносова. Он был хорошо образован и воспитан, вельможа и фаворит (версии высказываются разные) императрицы Елизаветы Петровны. Человек умный и обаятельный, светский, деятельный. Иван Иванович Шувалов – любитель и тонкий знаток искусства, собиратель книг. Он основал Московский университет в юном для нашего века возрасте – в 28 лет. Второе его детище – Академия художеств. Будучи первым куратором университета, он терпеливо и серьезно налаживал работу этого учреждения. Вкусы Шувалова определили и программы, и выбор профессоров, и прекрасный состав библиотеки и коллекций. Мы знаем о нем очень немного. В «Записках» императрицы Екатерины II есть упоминание об И. И. Шувалове – стороннике враждебной ей партии и человеке, с которым у нее были сложные отношения: «Я его заметила, как человека много обещавшего по своему прилежанию; его всегда видели с книгой в руке»[92].
«Скудость биографических средств лишает нас возможности установить, с каких пор началось сближение И. И. Шувалова с Ломоносовым… Имеются сведения, что молодой Шувалов учился стихосложению и риторике у Ломоносова»[93], – сказано в статье об их отношениях. «Дошедшие до нас письма Ломоносова к Шувалову свидетельствуют о том, что Ломоносов поверял ему свои планы и желания и обращался к нему со своими нуждами и затруднениями. В свою очередь, Шувалов часто требовал его мнений и советов в важных вопросах. Шувалову приходилось не раз являться защитником Ломоносова в период его напряженной борьбы в Академии наук, быть докладчиком его заслуг перед императрицей и даже вдохновителем его трудов»[94]. И. И. Шувалов «имел обыкновение выписывать из адресованных ему писем отзывы с оценкой его [Ломоносова. – О. М.] трудов и заслуг перед наукой»[95]. И в доме Шувалова Ломоносов бывал много раз. Например, подбирал помещение для оборудования домашней обсерватории.
В статье, напечатанной в «Московских ведомостях» к 150-летию Московского университета, подробно разбираются обстоятельства и детали переписки Шувалова и Ломоносова о плане создания университета. А. В. Половцев высказывает мнение, что скорее всего первую мысль об основании университета в Москве подал Ивану Ивановичу именно Ломоносов. Приводится цитата из позднейшей записки Ломоносова, где он говорит о себе, что он «первый причину подал к основанию помянутого корпуса», т. е. университета. Поскольку приводимая ниже цитата из публикации в «Московских ведомостях» довольно длинная, выделим ее курсивом.
Так выглядят планы устройства университета, по мнению, А. В. Половцева: «И. И. Шувалов, немало читавший и обладавший большим здравым смыслом, во многом не соглашался с Ломоносовым. Последнему хотелось перенести целиком в Россию иностранные образцы, с которыми он сжился и которые полюбил на месте. Шувалов же рассуждал с точки зрения простого русского человека, которому иностранные образцы были чужды и во многом казались неприменимыми к русской жизни. Сохранилось, например, любопытное указание на то, что Ломоносов хотел во что бы то ни стало "вполне удержать образец Лейденского университета с его вольностями". Какие "вольности" имел при этом в виду Ломоносов? Полагаю, что главным образом полную свободу преподавания… Весьма возможно, что Ломоносов имел в виду, кроме этого, свободу обучения, то есть, что студент мог легко менять предметы и профессоров и держал в течение прохождения курса очень мало экзаменов. Шувалов отнесся к этим "вольностям" отрицательно, назвав их "несовместными вольностями" и признав их мало пригодными для России. На этой почве происходили очень продолжительные и горячие споры, потому что, как рассказывал Шувалов И. Ф. Тимковскому много лет спустя, "Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях"…