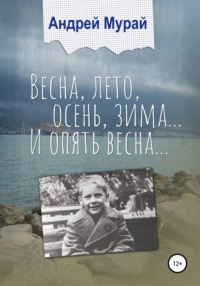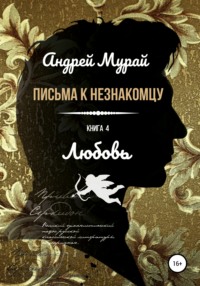полная версия
полная версияПисьма к незнакомцу. Книга 5. Красота
Всуе помянутый утром Моруа воскликнул бы: «О! Это про грудь Дианы де Пуатье!»123 А вот и нет! Пушкин имел в виду не фаворитку Генриха II124, а богиню Диану, которой дал обед верности пасынок Федры – юноша Ипполит. Диану-охотницу восхищённые художники, все как один, рисовали с грудью и упругой, и красиво очерченной. Исходили из того, что была Диана девственна, а значит, не касались её груди ни жадные мужские руки, ни жадные младенческие губы. А потом: жизнь богини протекала в движении, на свежем воздухе, что весьма полезно и для всего организма в целом, и для женской груди в частности.
После слов «Дианы грудь…» сбился Александр Сергеевич на ланиты, да ножки. В основном, конечно, на ножки, они-то и отвлекли его настолько, что «перси полные томленьем»125 воспел пылкий поэт, господи прости, достаточно лениво.
А не виновен ли в том в детстве Сашенькой читанный Ретиф де ла Брентонн? Предлагаю небольшой отрывок из рассказа французского писателя, он пишет о женских ножках и выдаёт себя с головой:
«Сентпалле обладал особенным вкусом, и не все прелести производили на него одинаковое впечатление. Красивое лицо и – везде кроме Испании – красивая грудь имеют свою цену; стройная и лёгкая фигура, красивая ручка нравились ему; но то, что действовало на него живее всего, что причиняло ему непроизвольную и восхитительную дрожь во всех фибрах, была красивая ножка: в его глазах ничто на свете не превосходило этой прелести, возвещающей нежность и совершенство всех прочих красот».
Вылитый Пушкин! Или этот вирус «ножколюбия» Александр Сергеевич зацепил у средневекового Брентонна, или слова француза попали на благодатную почву, а затем были взращены и зарифмованы.
Чувствую, что увлёкся, но всё равно скажу: особенно ценилась среди знатоков маленькая изящная ножка. Всех обладательниц изящных женских ножен я не назову, но имя одной упомянуть нужно обязательно: герцогиня Анна Амалия. Её ногами грезили и женщины, и мужчины Веймара. Мужчины носили на цепочках золотые кулоны в форме ножки своего кумира, а дамы скупали вожделенные башмачки, которые «высочайшая Золушка» меняла несколько раз на дню. Не всем башмачки были впору.
Кстати говоря, герцогиня – покровительница таланта Гёте, как художественного, так и административного, и мать нашего давнего знакомца герцога Саксен-Веймарского Карла-Августа. Ему, сотрапезнику и приятелю, поручил Гёте своё сватовство. Одно из немногих дел, которые великий герцог провалил.
Ну вот, по большому счёту, и вся моя вечерняя писулька. Тут уместилось и самобичевание, во многом зряшное, тут мы скатились с женских грудей к изящным ножкам дам, тут мы «потрепали лавры старика» и за бакенбарды его подёргали. Пора нам эти игрульки «в классики» прекращать, иначе увидит кто из пушкиноведов и нам кранты… Эти люди за Пушкина способны буквально на всё. Я Вам сейчас расскажу почему. Любят они Александра Сергеевича тройной немыслимой любовью. Исток этой любви в двустишье Юрия Тейха:«Ещё и тем ты долго будешь мил,\\Что тьму пушкиноведов прокормил». Пушкин для пушкиноведа и работа, и отрада, и предмет фантазий. Поэтому каждый год мы узнаём новый факт из жизни Пушкина, а каждые пять лет у Александра Сергеевича появляется новая любовница. Как прав Секст Проперций:126
«Letum non onnia finit» – «Не всё кончается смертью».
Жизнь классика после смерти только начинается!
Ну что, «пока горит свеча» припомним, с чем нам довелось ознакомиться на пути к заветным вершинам. Уже были: стихи, проза, возведённая к поэзии, стихи, низведёнными к прозе. На очереди у нас такая сложная литературная форма как диалог. Бьюсь об заклад, Серкидон, Вы тут же припомнили диалоги Платона, которые, я верю, успели полюбить всем сердцем.
Ну да я заболтался!
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-20-
Приветствую Вас, Серкидон!
Вы ждёте от меня диалог. Да, пожалуйста, будет Вам диалог, но не от Платона.
Пора сказать, что истоптали мы с Вами платоновские времена изрядно, и знаем, что у древнего грека появление женщины среди мужчин – большая редкость. А мужская сверхлогичность и упёртость в своё мнение делает диалоги похожими на лошадей-тяжеловесов: да – нужные, да –работящие, да – пользу приносят немалую, «но Боже мой какая скука!»127– воскликнул бы повеса пылкий.
А есть диалоги иных пород, они похожи на лёгких игривых кобылиц. Познакомьтесь с хозяином конюшни – жизнелюбивый итальянец Аньоло Фиренцуола.
В облюбованном мною диалоге особ прекрасного пола, по меркам платоновским, великое множество – аж четыре. Но женщины – на сладенькое, а как основное блюдо попрошу Вас отведать мои наблюдения философического характера.
Напишу Вам о том, как я понимаю правильное и неправильное взаимодействие художника с внешним миром. Зачем? Это Вы спросили – «зачем?» А вдруг у Вас проклюнется восприятие мира, свойственное художественной натуре. Тогда мои рассуждения могут Вам пригодиться. Послушайте, хуже не будет.
Итак, отношения трепетной души художника и грубого внешнего мира. Того самого «прекрасного и яростного» мира, в котором закон джунглей где-то камуфлируется и драпируется, а где-то предстаёт в своей первозданной непролазной чистоте.
Приступим. «Что такое хорошо, а что такое плохо»128 – в моем исполнении.
Хорошо.
Хорошо, когда художник влияет на мир опосредовано. Своими произведениями. Внутренний мир художника порождает высокоталантливые произведения, которые просветляют, вдохновляют, заряжают энтузиазмом массы людей, а уже просветлённые, вдохновлённые, заряженные энтузиазмом люди-нехудожники бросаются изменять мир к лучшему. Начинают «строить и месть»129, носить брёвна вместе с Ильичём, отстаивать идеалы добра, идеалы справедливости вместе с Марсом. И «если бьёт плохой драчун слабого мальчишку»130, исполненный подобными идеалами человек не пройдёт мимо. Хотя бы – не пройдёт молча. Уже – хорошо.
Плохо.
Художник сам в плотном контакте с окружающим миром пытается его изменить, смягчить, очистить: хватается за метлу, за бревно, берёт в руки кирпич, удивлённо его рассматривая, нанимается на службу дворцовым историографом, всем сердцем слушает музыку революции(как будто Моцарт ничего не написал), наступает на горло собственной песне, восславляет Ленина в Октябре, а Сталина в вечности…
Короче говоря, продаёт творческую душу очередному, вовремя подсуетившемуся Мефистофелю.
Почему это плохо? Потому что заканчивается трагично для художника, а для поэта почти всегда, – гибельно. Где тут «хорошо»? Нет его. Даже поэт-трибун и наймит революции не нашёл бы тут «Хорошо».
Мягкий, незлобивый, женоподобный и уж совсем не бронебойный Фиренцуоло вовремя понял: ему надо выстраивать не разрушающие его творческую природу систему отношений с внешний миром. Отправление нудных служебных обязанностей коробило певца, служение кому-либо (пусть даже Богу) – тяготило, а уж участие в собачьих свалках и вовсе отвращало от жизни. Аньоло нашёл возможность отстраниться от безобразий бытия и приступить к радостному приятию мира.
Знаток итальянского Возрождения синьор Л.М.Баткин советовал присмотреться к разбираемому нами персонажу со всей возможной внимательностью. Мол, копните его чуть глубже сведений в справочнике и тогда…
«Тогда выясняется, что Микельаньоло Джироламо Фиренцуола (1493-1543), этот друг юности Аретино, член римской «Академии Виноградарей», собеседник Берни и Делла Каза, читавший свои «Беседы о любви» папе Клементу VII, этот доктор права и нотарийвалломброзианского ордена, освобожденный папой от монашеского обета в 1526 году, когда он подхватил французскую болезнь, а лет за пять до смерти удалившийся в тихий Прато и там после долгого перерыва опять взявшийся за перо, этот вольный перелагатель Апулея и талантливый новеллист, редкостно владевший и сочным просторечием и затейливой риторикой, в своем последнем и наиболее известном сочинении невзначай запечатлел схематизм распадающегося ренессансного сознания»131.
Далее Леонид Михайлович оседлал на своего конька и поскакал. А «конёк» у него ни чета моему – великий Леонардо. Это мой удел – «серкидонить» помаленьку… Что нам открыл приведённый отрывок? Немало. Узнали мы, что не все беды прошли мимо Аньоло, всё, что положено человеку с поэтическим восприятием мира, он испытал…
Далее, имеем право полюбопытствовать, а что за зверь такой – «Академия Виноградарей»? Первое, что приходит на ум: группа мужчин собирается, дабы продегустировать содержимое объёмистых бутылок. Вспоминая божественный вкус итальянского вина, логично предположить именно это… Однако собрание «виноградарей» было чисто литературным.
Товарищами по перу Аньоло были: развесёлый стихотворец Франческо Берни132, автор руководства хорошего тона Джованни дела Каза133 и примкнувший к ним любитель приключений, поэт Франческо Мольца134.
Уже из тихого Прато вспоминающий Фиренцуола писал:
«Мне хочется и я могу похвалиться тем, что разборчивый слух Климента Седьмого135, для восславления которого слабо будет всякое перо, в присутствии самых светлых умов Италии в продолжение нескольких часов склонялся с большим вниманием к моему голосу, когда я читал «Изгнание», и первый день этих «Разговоров», – не без того, чтобы выказывать знаки удовольствия и не без похвал».
Реакция папы интересна для исследователей тем, что слушал он не «Quanto sieno virabili||Della sua destra le opera»136 – «О том, как велики и дивны//Деянья господней десницы», а совсем, совсем о другом…
В этих строчках: и светлая грусть о навсегда ушедших золотых годах, и авторское тщеславие, и горячая благодарность сильному покровителю, благосклонность которого позволила легкоранимому художнику не думать ни о куске хлеба на день грядущий, ни о крыше над головой, ни о стакане вина (всё-таки!) в компании товарищей по перу.
Об отношениях Климента VII и Фиренцуоло подробно пишет знаток итальянского Возрождения А.К. Дживегелов137: «Папа не только давал ему возможность существовать, но в 1526 году освободил его от монашеских обетов…
Скорее всего, это было милостью за удовольствие, доставленное чтением: ни сатиры против духовенства, ни непристойности не мешали папе ни теперь, ни раньше получать удовольствие от интересного чтения. Награда Аньоло была тем более полная, что, снимая с него монашескую рясу, папа оставил ему как клирику право пользоваться церковными бенефициями».
Тут захотелось спросить: «А где мне взять такого папу?», – но я сдержался и промолчал. Слова благодарности Клименту VII пролились на бумагу, когда папа уже угас и соприкоснулся с вечностью, но тепло его милостей, как свет угасшей звезды, ещё согревал. Такое счастливое стечение обстоятельств сподвигло писателя взяться за перо, и вот (ну, наконец-то!) цитата из произведения, которое Баткин справедливо назвал и последним, и наиболее известным.
Диалог «Чельсо, или о красотах женщин».
Затейник Чельсо, игривый и ироничный женолюб, alterego автора, беседует с четырьмя итальянскими красавицами. Но, судя по тексту, чаще всего он направляет взор к самой юной – по имени Сельваджа, обладательнице наикрасивейшей груди. Чельсо сначала топчется вокруг да около, но потом выдаёт себя целиком:
«Широта груди придает большую величавость всей фигуре; две округлости, как два снежных холма, усыпанных розами, увенчаны изящными маленькими рубинами, словно носиком прекрасного и полезного сосуда, который помимо пользы для пропитания младенцев источает некое сияние и рождает все новую привлекательность, которая заставляет нас вглядываться в него даже помимо собственной воли, хотя и с удовольствием, вот как делаю это я, глядя на белоснежную грудь одной из вас».
При этих словах охальник, видимо, настолько бесстыдно упёрся взглядом в грудь юной Сельваджи, что смутил девушку окончательно, и она прикрылась. Шалун констатирует: «Ну вот, алтарь закрылся. Нет уж, если вы не вернете завесу в прежнее положение, я прекращу говорить».
Вмешивается умудрённая жизненным опытом мона Лампи-ада:
«Ах, убери-ка ты это, Сельваджа, ну что ты нам докучаешь. О, ты поступила бы куда как хорошо, вовсе сняв косынку с шеи. Посмотри-ка, вот так. Что ж, мессер Чельсо, продолжайте свою речь, ведь реликвии опять открыты…»
Тут мы прервёмся. Но к этим персонажам мы вернёмся обязательно. А если Вы, Серкидон, желаете, чтобы реликвии открылись побыстрее, действуйте настойчивее. У Вас для этого есть и ножки резвые и ручки шаловливые.
А я, кажется, понял, как должен начинаться разговор о женской груди. Помогли слова Чельсо про носик не только прекрасного, но и полезного сосуда. Осталось нам закончить разговор об отношениях неспешно творящего художника и наспех сотворённого мира.
Предложим, Фиренцуоло, не имея ни клыков, ни бицепсов, а имея силы (будем откровенны) девичьи, стал бы сражаться за место под солнцем, пытаясь равняться с современниками калибра Макиавелли138 и Гвиччардинни139. Стал бы не потакать, но противоречить сильным мира сего… Склевали бы нашего воробушка, он бы и чирикнуть не успел.
Но – повезло. Аньоло Фиренцуло допел свою песню до конца, и его Чельсо, и его четыре красавицы навсегда с нами. Как тут не вспомнить стихи Фазиля Искандера:
«В провале безымянных лет, у времени во мраке,//Четыре девушки цветут, как ландыши в овраге…»
Их красотой и красотами природы продолжает любоваться мирный созерцатель Чельсо, а значит и для Аньоло Фиренцуола жизнь отчасти продолжается. И снова мы видим, что для художника letum non onnia finit140.
Вам – переводить латынь, мне – заслуженный отдых.
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-21-
Приветствую Вас, Серкидон!
Продолжим разговор о сосуде, по словам Фиренцуолы, и прекрасном, и полезном, и с носиком. Вот на этот счёт мнение Артура Шопенгауэра: «Полная женская грудь имеет необычайную прелесть для рода мужского, – поскольку она, будучи непосредственным образом связана с пропагативной функцией женщины, обещает новорождённому изобильное питание».
Прекрасные слова, под которыми с радостью подпИсались бы все младенцы мира.
А теперь окунёмся в науку? Ох, Серкидон, какую Вы гримасу состроили! Не печальтесь. Нырнём – и тут же вынырнем. Слово Чарльзу Дарвину141. Вы думаете, что известный естествоиспытатель расскажет нам об эволюции и естественном отборе. А вот и нет:
«В зрелом возрасте, когда мы видим предмет, напоминающий по форме женскую грудь, мы испытываем радость, затрагивающую все органы чувств, и если предмет не слишком велик, нам хочется прижаться к нему губами, как в младенчестве мы прижимались к груди матери».
Ныне принято труды Дарвина подвергать остракизму, выискивать в них несоответствия с высоты знаний науки сегодняшнего дня. Особо рьяные критики называют английского учёного обманщиком века, забывая, что каких-то двадцать веков назад римский авторитет Плиний Старший утверждал, что страус появился на свет в результате скрещивания комара и жирафа. Ваши сверстники заржали бы, как лошади Пржевальского, скажи им такое. А римляне внимали и верили. Вот где обманщик!
У Дарвина подобных ляпсусов нет, хотя, безусловно, его учение стыкует не всё. Например, некоторые наглые живые существа прекрасно обходятся без эволюции и вызывающе не меняются на протяжении миллионов лет… Но ведь можно сказать, что эволюция идёт, но медленно-медленно и поэтому незаметно.
Далее, никак не могут найти ту обезьяну, из которой произошёл человек. Но ведь можно сказать, что она спряталась за камень. Или – под камень.
Лично мне обидно, что Дарвином не учитывается космическая составляющая эволюции. Дело подаётся так, что бросили развитие жизни на Земле на произвол судьбы, а принимать нам, людям-человекам, заброшенность, беспризорность свою не хочется. Хочется думать, что Великий Разум и атмосферой нас окружил заботливо, и самочек (я Вам писал) в сложный эволюционный момент подкинул, и Посланцев Высших Сфер (Гомер, ЛаоЦзы, Пифагор, Христос) подсылал, и приветствовал наши достижения радугами, падающими звёздами, северными сияниями…
Так о чём это мы… Ну, да, о женской груди. Вернёмся к словам Дарвина: «как в младенчестве мы прижимались к груди матери».
А куда же ещё новорождённому податься?.. Больше некуда.
Рождение человека – повторное изгнание из Рая. Жизнь его в качестве плода была безмятежна, благостна и необременительна. Он был полностью на попечении матери. Будущий человек жил, колыхаясь в нирване, и ему не надо было заботиться ни о тепле, ни о пище. Но час настал – и гонят вон из дома: толкают, сжимают, переворачивают, хлопают, пеленают… Не возразить, не спрятаться, не скрыться. Сознание новорождённого – незамутнённая частичка Вселенского Разума – объято страхом и ужасом неизвестности. Свет, блеск, голоса, стуки и грохоты не видны, но слышны, но обострённо чувствуются.…
Только у знакомого тела матери, у её груди – тёплой и сытной – обретает изгнанник прежнее состояние блаженства и подобие райских кущ: ему покойно и благостно…
Подобно тому, как заботливый Космический Отец окружил планету Земля атмосферой, любящая мать окружает своё дитятко любовью. Маленький человек получает у материнской груди не только пищу, но и информацию: ты – желанный, ты – любимый. Это его первые чудные мгновения: «Мы тебя очень ждали, а тебя всё не было, и было нам без тебя плохо, но вот явился ты, и всем нам стало очень хорошо».
Это время не столько кормления, сколько впитывания позитивной информации и формирования «младенческой грации души142». Душа человека получает свой светящийся каркас, который уже не меняется в течение жизни. Если человек в младенчестве своём был сыт, и блажен у материнской груди, то войдёт он в мир с душой, которая умеет и готова любить. С душой, открытой светлым проявлениям. С душой готовой искать свет даже за свинцовыми тучами.
Но не будем о тучах, добавим в наше письмо немного восходящего солнца. В Японии, едва Управление Императорского двора получает известие о беременности императрицы, она окружается особой заботой: исключается любое негативное влияние на психику, ничего неприятного и раздражающего. Только – негромкая музыка в окружении картин прекрасных живописцев, гуляние по саду камней, пенье птиц и созерцание лучших проявлений природы. О рождении будущего императора (а почему бы не родиться мальчику!) печётся и беспокоится вся страна. Не меньшей заботой окружается императрица и во время грудного вскармливания ребёнка.
А что мы имеем подчас?
Кормящая мать раздражена, озабочена посторонними делами, у неё неприятности, она вынуждена решать каждодневные проблемы. Она ждёт не дождётся, когда ребёнок, сколько по книжке положено, поест, чтобы плюхнуть его в кроватку и забыть о нём, хотя бы ненадолго. А то и вовсе просит кого-то (да всё равно кого) накормить маленького из бутылочки и укачать.
На первый взгляд – ерунда, подумаешь… Но люди, которые входят в мир ненужными, нежданными, а то и вовсе – подкидышами, всю дальнейшую жизнь подспудно помнят своё горькое младенчество, чувствуют и ущербность свою, и свою незаслуженную обиду… Всю жизнь они будут тревожно оглядываться, ожидая от мира очередную подлянку, даже подарки судьбы принимать они будут с недоверием: «Это мне?..»
А простые человеческие радости? Жёлтое солнце на голубом небе сквозь зелёную листву? Чистое окно в светлом доме погожим деньком? И это не порадует плоховстреченных…
Подумайте, Серкидон, вспомните, поищите начало своих сегодняшних проблем в далёком детстве. Попробуйте раскрутить себя назад до младенца, а лучше до сперматозоида. Только не забудьте закрутиться обратно.
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-22-
Приветствую Вас, Серкидон!
Резюме к письму вчерашнему: если мир встречает враждебно новорождённого, пришедшего с открытой и чистой душой человека, то след в душе остаётся надолго, как след сапога на свежем бетоне. Потом, хоть каменья драгоценные перед обиженным рассыпай, бесполезно, он не простит. А многие из плоховстреченных начинают мстить, а это уже и вовсе грустная тема. Поэтому поговорим о другом.
Начнём, Серкидон, собирать коллекцию «ОЗЖ» (Открытия Замечательных Женщин). Как открытие номер один попрошу засчитать выдержку из книги «Психоанализ детей». Автор – известный детский психоаналитик Мелани Кляйн:143
«Надо иметь в виду фундаментальное значение первого взаимоотношения младенца с объектом – с материнской грудью и с матерью. Если этот первоначальный объект запечатлевается в Эго с чувством относительной защищенности, он закладывает основу удовлетворительного развития личности… Вполне возможно, пребывание неотъемлемой частью материнского организма в предродовой период оставляет у младенца врожденное чувство, что существует нечто хорошее вне его, что удовлетворит все его желания и потребности. Эта хорошая грудь становится частью его Эго, и младенец, бывший прежде внутри матери, теперь чувствует мать внутри себя».
Рискнём сделать вывод: если близкие тёплые родственные отношения между матерью и ребёнком не сложатся во время грудного вскармливания, то их не будет уже никогда. Не долг, но потребность заботиться о матери также закладывается у материнской груди.
Отношение к своему младенцу возвращается к женщине в её старости, что заметнее всего по сыновьям, поскольку мужчины жестоки по природе своей. Если мать говорила: «Пососал – уберите», придёт время, сын скажет «Отошла – закопайте».
Второе открытие по нашей теме сделала замечательная женщина, писательница и образец некабинетного психотерапевта – Жан Ледлофф144. За своим открытием искательница истины отправилась в джунгли Латинской Америки. По результатам экспедиции в младенчество человечества была написана книга «Как вырастить ребёнка счастливым». Чему же научили Жан младенцы каменного века?
Оказывается, новорождённый племени екуана прикладывается к материнской груди и прилипает к матери, чтобы не отрываться от неё целый год. Если мать работает мотыгой, младенец висит у неё за спиной. Если мать гребёт веслом, ребёнок или лежит на дне каноэ, или висит сбоку. Если мать встаёт ночью с лежанки, чтобы подбросить дров в печку, такое недолгое расставание ребёнок переносит легко. Заметим, что в этой родственной и гармоничной связке никто не страдает и не скучает.
Оказывается, женщина сама хорошо знает, что делать с ребёнком, если ей не мешать и ничего ей не советовать. Подсказывает материнская интуиция, выработанная миллионами женщин за миллионы лет. И не случайно у бестселлера подзаголовок – «принцип преемственности». Намёк на связующую нить поколений.
О том, как дела обстоят в странах цивилизованных под руководством обласканных авторитетов, специалистов и учёных, я писать не буду, чтобы самому не расстраиваться и Вас до слёз не доводить. Приведу лишь слова Гамлета: «Порвалась дней связующая нить…»
Теперь об открытии.
Год рядом с матерью Жан назвала «ручным периодом». Открытие состоит в том, что такой «ручной период» необходим для нормального развития ребёнка. За девять месяцев беременности организм ребёнка к организму матери привык и привязался. А его взяли и отвязали. Далее, по причине малости и слабости своей, находиться одному ребёнку и трудно, и обидно, и одиноко. Ребёнку необходимо подпитываться энергией и теплом большого и сильного тела матери. И ещё (а это особенно важно для мальчиков): только избыв за год жёсткую зависимость от матери, ребёнок может получить независимость от неё. Пройдёт год «ручного периода», и начнёт мальчик смело отползать от мамы всё дальше и дальше. Сможет заползти на вершины гор, забраться в глубину джунглей (подобно Жан), нырнуть в Марианскую впадину, улететь в Космос.
Если же жёсткая зависимость от матери не была избыта, то картину видим мы печальную. Тридцатилетний или сорокалетний мальчик сидит у маминой юбки, слушается её во всём, а когда мама покидает этот мир, что делать дальше мальчик не знает.
Открытие номер три относится уже не к младенцам, не мальчикам и девочкам, адресовано оно взрослым мужчинам и женщинам, которые живут не в джунглях Латинской Америки, а в городах.
Галина Шаталова – женщина и замечательная, и примечательная, и героическая. В каждой новой своей книжке о естественном оздоровлении человеческого организма Галина Сергеевна настоятельно рекомендовала пленникам «каменных джунглей» не сидеть в четырёх стенах, а прямо с утра выбегать к огромным энергоносителям: к солнцу, к морю, к реке. Забираться на гору, гулять по лесу. Наполнять себя энергиями Природы. Так же, как младенец недостающую ему энергию получает от тела биологической матери, взрослый человек должен каждодневно получать от энергоёмкой сети – Матери Природы.
Если же работать только от батарейки, которая внутри, то хватит её недолго. Если же работать от сети, то, как утверждал Арсений Тарковский: «А я из тех, кто выбирает сети//Когда идёт бессмертье косяком…» Такие люди живут, пока не надоест.
Один из мистических посланников Космоса – Лао Цзы – сравнивал себя с «нерождённым младенцем, который кормится от Матери». Этой Матерью была Вселенная, и духовная связь их не была надорвана.