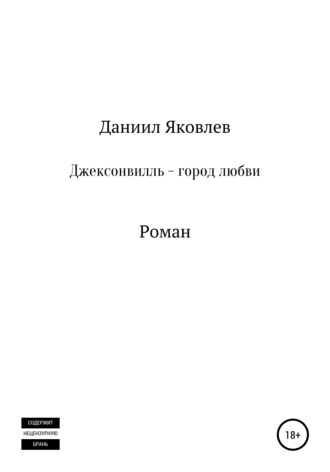
Полная версия
Джексонвилль – город любви
Зоя… Сколько лет назад они встретились с Кольцовым? Да, времени прошло немало. Кольцова тогда просто магнитом притягивало к этой видной, пышногрудой блондинке в самом расцвете величественной, зрелой красоты. Она стала председателем горисполкома незадолго до того, как Кольцову поручили курировать Джексонвилль, и все без исключения знали, благодаря кому председательница профкома местного отделения Профздравницы Зоя Решетняк за пять-шесть лет сделала головокружительную карьеру. Она была любовницей кольцовского тестя – первого секретаря Южногорского обкома партии. Это и пугало Федора, и в то же время возбуждало. К тому же, Зоя никогда не была и не стремилась казаться недоступной. В определенных кругах джексонвилльского общества популярной была песенка, которую добродушный советский народ сложил когда-то про Валентину Терешкову, а местный остряк-самоучка, заменив имя, посвятил Зое Васильевне: "Лети, Зоя, до звезды, не жалей своей пизды!". Будучи очень неглупой и способной женщиной, Зоя Решетняк все-таки считала, что использовать природное свое обаяние и привлекательность в целях карьерного роста совсем не лишнее дело. Передний движок она включала часто и без особых сантиментов. И это ей помогало.
Их отношения с Кольцовым с самого начала сложились как дружеские, и какое-то время делать их чем-то большим Зое было не нужно, более того, даже опасно, учитывая родственные связи Федора Петровича. Кольцов откровенно хотел ее, она это видела, он тоже был ей симпатичен, и даже один раз, пребывая в старческих объятиях Леонида Афанасьевича, она поймала себя на мысли, что думает о Федоре. Но дальше этого не шло.
Все изменилось в конце злополучного восемьдесят второго года. В шестидесятых годах в Джексонвилле построили два микрорайона пятиэтажных хрущевок. Место для одного из них, названного по-московски Черемушками, выбрали удивительно удобное – над оврагом за Рыбацкой слободкой. Оттуда до промзоны, где работало подавляющее большинство новоселов, нужно было больше часа добираться по объездной дороге на единственном рейсовом автобусе № 8. В часы пик эффект от поездки в его салоне равнялся попаданию под каток асфальтоукладчика, так что больше десяти лет городские власти занимались выбиванием денег под строительство дамбы-моста через овраг, и в конце концов добились своего.
Это была последняя великая джексонвилльская стройка и как большинство великих строек – на костях в прямом и переносном смысле: в начале строительства “Камазы” ночью вывозили землю вперемешку с останками людей, расстрелянных и немцами и нашими в тридцатые-сороковые. А за неделю до пуска, перед октябрьскими праздниками, просел участок новой дамбы, похоронив под собой восемнадцать членов комсомольско-молодежной бригады. Тогдашний первый секретарь горкома Свиридов отдыхал в Кисловодске, и как только ему сообщили, помчался не в Джексонвилль, а в столицу республики, в ЦК, спасать свою шкуру, попутно смешивая с дерьмом всех, кого можно было, и в первую очередь Зою. Свиридов был типичным партийным работником брежневской формации – все лавры в случае успеха загребал себе, а всех собак в случае неудачи вешал на советских работников и хозяйственников. Он был в выгодном положении: в его отсутствие вся ответственность за пуск дамбы к 7 Ноября, несмотря на серьезные технические проблемы, которые упорно замалчивались, была возложена на второго секретаря горкома Кормыченко и председателя горисполкома Решетняк. К тому же, Войтенко тоже был в отпуске в Сочи. Вступиться за Зою было некому.
Зоя Васильевна просто почернела в те дни. На ее плечи легло все: ликвидация аварии, срочная консервация стройки, похороны жертв. Чего стоили одни глаза матерей погибших ребят! Свирепствовала государственная комиссия, члены которой вчера кричали, что она положит партбилет, если дамбу не пустят к празднику, а сегодня, после аварии, угрожали ей тюрьмой. Мучил страх лишиться всего: должности, партбилета и даже свободы, страх за будущее дочери. И страхи эти оправдывались. Предварительные выводы комиссии были скорыми и убийственными для Зои: не обеспечила, не организовала должный контроль, «допускала случаи грубого администрирования и необоснованного вмешательства в производственные процессы». Это действительно было правдой, но все, в том числе и Кольцов, который все эти дни находился в Джексонвилле, понимали, что действовать по-другому она просто не могла. Москва давила, там нужны были кровь и оргвыводы, и, похоже, козел, точнее, коза отпущения уже была найдена.
На четвертый день после аварии Решетняк не выдержала. Когда они с Кольцовым на минуту остались в ее кабинете одни, Зоя в отчаянии схватила Федора за руку и затараторила: "Федя, умоляю, помоги! Чего хочешь проси, но спаси меня!". Кольцов как мог успокоил ее, утешил, даже пообещал помочь сгоряча, хотя про себя подумал, что песенка ее спета и никто уже этого сделать не сможет.
Но тут вернулся из Сочи Войтенко и принялся выручать свою любовницу. Он съездил в Москву, заехал в столицу республики, приструнил зарвавшегося Свиридова и, назначенный заместителем председателя госкомиссии, получил карт-бланш на ее окончательные выводы. Почти подготовленную справку он выслушал, храня гробовое молчание, поджав губы и нахмурив кустистые брови. Когда трусоватый зампред республиканского Совмина по промышленности и строительству, председатель комиссии, почуявший, что задули новые ветра, закончил сбивчивое чтение, Леонид Афанасьевич безапелляционно заявил: "Я вижу, что членам комиссии изменило чувство объективности. Я только что от Первого секретаря ЦК и он с моим мнением полностью согласен". Возвратившись вечером в Южногорск, Войтенко вызвал к себе домой зятя. Он набросился на Федора безо всякого предисловия: "Хорош инструктор обкома! Жидов выгораживаешь?". Кольцов опешил и сразу даже не понял, о чем это тесть. "Чего молчишь? Языка лишился?", – последовал окрик. Тут Кольцов сообразил, что речь идет о Ефиме Михелевиче, главном инженере, который в тот чертов день исполнял обязанности начальника строительства. Внезапно тесть перешел на полушепот: "Ну ты же мужик, понимать должен! Что же вы Зойку-то под монастырь подвели? Ладно, не оправдывайся, не твоя вина. Знаю, что из ЦК давили, но ничего, я там мозги кому надо прочистил. Надолго запомнят! Все, завтра комиссия опять едет в Джексонвилль и готовит справку как надо – халатность, попустительство, грубые нарушения производственного процесса и.о. начальника строительства Михелевича – главная причина аварии". И еще тише: "И ты туда возвращайся. Зойке шепни так, тихонечко, чтобы не боялась – отделается строгачем и на должности останется, Кормыченко снимем и отправим директором на автобазу – ему раздолбаю все равно!".
Вернувшись в Джексонвилль, Кольцов зашел в кабинет к Зое Васильевне и доверительно сообщил, что бояться нечего, угроза миновала. Он намеренно умолчал о ночном разговоре с Войтенко. Теперь Зоя смотрела на Федора, как на спасителя. Она была уверена, что Кольцов попросил за нее у тестя. А поздно вечером, когда новое заключение комиссии было наскоро переделано и согласовано, она приехала к Федору Петровичу в гостиницу и упала в его объятия. На следующий день умер Брежнев и история с дамбой потеряла актуальность.
На несколько лет отношения с Зоей Решетняк стали важной частью жизни Федора Кольцова. Сначала он часто приезжал в Джексонвилль, и они с Зоей ухитрялись наскоро перепихнуться, где придется, в перерывах между бесконечными делами и вечерними застольями. Годы его жизни в Москве стали временем угасания их романа, но они часто перезванивались, а редкие, большей частью летние встречи, пусть не всегда заканчивались интимом, зато приносили душевный покой обоим. Их связь оборвалась в то время, когда Решетняк вышла на пенсию, уступив место мэра вновь всплывшему Васе Кормыченко. Тогда казалось, что они расстались навсегда. Но крах карьеры Федора Петровича, его переезд в Джексонвилль требовали, чтобы он нашел здесь какую-то, пусть призрачную, но опору. Зоя, старая, забытая его любовница, на какое-то время показалась ему подходящим вариантом.
Кольцов вошел в подъезд и поднялся на восьмой этаж на старом скрипучем лифте, который, на удивление, еще работал.
Зоя Васильевна уже успела съездить в поликлинику на укол. Теперь, превозмогая утомительную утреннюю слабость, опасаясь нового приступа боли, которая уже стала частью ее существа, она готовилась к встрече с Федором.
Еще не так давно, зная, что медленно умирает, она пыталась искать, но не могла найти, за что зацепиться в этой жизни. Работы, которая всегда была спасательным кругом, источником забвения от житейских бед и несчастий, у бывшего председателя горисполкома, теперь пенсионерки Решетняк больше не было. Семейная жизнь с бесцветным, скучным мужем долгие годы была нужна только для анкеты, сейчас же стала обузой, и он без сожалений был сослан на дачу. Ее вечная печаль, единственная и незабвенная доченька Мариночка нелепо погибла в 1983 году во время пожара в общежитии самого престижного столичного института, куда ее сама Зоя и пристроила. Все складывалось так, что ничего Зою Васильевну в этом мире не удерживало.
Зоя физически ощущала, как жизнь по капле вытекает из нее, но никому из родных или знакомых о болезни не говорила. Она прилагала титанические усилия, чтобы вопреки всему казаться бодрой, свежей и деловой. Даже ставшие необходимостью частые уколы были для всех окружающих тайной за семью печатями. Главврач местной больницы, которого она в свое время спасла от тюрьмы и исключения из партии, настойчиво уговаривал ее пройти стационарный курс лечения, пока это имело какой-то смысл, но она упорно отвечала отказом. И вдруг возник Федор.
К тому времени она почти смирилась с тем, что их длительные отношения закончились. В самом деле, было смешно ожидать, что такой мужчина как Кольцов, в расцвете сил, в разгар успешной карьеры, вспомнит об одной из своих близких знакомых, теперь уже пенсионного возраста. Зоя и не ждала этого, но судьба распорядилась иначе. В один из душных сентябрьских дней, когда, казалось, сил не хватало даже на то, чтобы дышать, в квартире Зои Васильевны раздался резкий звонок междугородки и высокий мужской голос, который Зоя давно не слышала, но сразу узнала, произнес: "Здравствуй! Я еду в Джексонвилль!".
Кольцов был особой статьей в ее жизни. И дело не в том, что Зоя Васильевна до сих пор была уверена, что именно он помог ей тогда, в восемьдесят втором, когда рухнула проклятая дамба, и казалось, что для нее все уже кончено. Она почему-то чувствовала, особенно после смерти дочери, что Федор Петрович Кольцов стал для нее самым близким человеком, которому она могла доверить все, высказать все, во всем покаяться. Зоя не могла объяснить почему, но так получилось. Как ни странно, но для Зои, построившей карьеру через постель, их связь с Федором была особенной, хотя само начало их «служебного романа» выглядело вполне стандартно, как плата женщины ответственного работника мужчине ответственному работнику за неоценимую услугу.
Возможно, именно эта услуга, и обстоятельства, с ней связанные, были причиной того, что Зою никогда не покидало ощущение необычной внутренней связи с этим человеком. И основой этой связи был грех, но не грех прелюбодеяния, это мало беспокоило и Федора, и Зою, а грех, который, как считала Зоя Васильевна, они с Кольцовым взяли на душу, взвалив всю тяжесть ответственности за аварию на дамбе на несчастного Михелевича. В те дни радость избавления от страшной угрозы, отодвинула размышления о морали и нравственности далеко на задний план. Но потом всякий раз, встречая на улицах города Риту Михелевич, сошедшую с ума после смерти мужа в следственном изоляторе, Зоя Васильевна с ужасом осознавала, что всю жизнь ей придется расплачиваться за содеянное. Первым сокрушительным ударом была смерть дочери, но долгие годы она гнала от себя мысль, что гибель Марины тоже часть расплаты. Теперь Зоя была в этом уверена. От таких мыслей становилось холодно и пусто, а самое страшное, что сейчас, перед лицом вечности, ей не с кем было поделиться своей болью. Она попробовала поговорить с матерью, но вместо жалости и понимания, старуха сказала, как отрезала: "Кожный платыть за свий грих. Це твий хрэст, тоби його й тягнуты. Я сама стара гришныця, мэни б свий тягар вытрыматы. Пиды до цэрквы, можэ допоможэ, хоча навряд чы".
Зоя сходила в церковь, но легче, действительно, не стало. Только после звонка Кольцова, она прониклась робкой надеждой на то, что сможет обрести хоть какое-то подобие душевного равновесия. Два приезда Федора Петровича, уже после его отставки, когда он решал вопросы нового назначения и переезда семьи, оправдали ожидания Зои Васильевны с лихвой. Приезжал он один, виделись они каждый день, и Зоя почувствовала себя рядом с ним увереннее, спокойнее и моложе. Кольцову о своей болезни она тоже не сказала, но не потому, что не хотела об этом говорить. Рядом с ним ей вдруг показалось, что даже неумолимая судьба отступила. Но, увы, это впечатление оказалось обманчивым. Две недели, после последнего отъезда Федора, Зоя мучилась как никогда. Собрав в кулак остаток сил, она пошла к врачу.
Теперь, в ожидании возвращения Федора Петровича, она была готова на все, чтобы продлить свою жизнь. Но ответ медицины был неутешительным. Доктор, с которым у Зои Васильевны не было и не могло быть недомолвок, только разводил руками и удивлялся, как она еще держится на ногах и даже водит машину. Счет пошел на недели. Но, несмотря на это, Зоя упрямо решила скрывать истину, пока не свалится с ног.
Утренняя прическа и макияж стоили теперь Зое Васильевне такого же напряжения, как когда-то каторжная рабочая неделя. Она чувствовала, что после всего этого сил у нее осталось только на то, чтобы, гордо неся на себе печать с трудом намалеванной красоты, торжественно улечься в гроб. И все-таки, из сумрачной глубины большого зеркала в спальне на нее смотрело подобие прежней Зои Решетняк: гордой, видной и привлекательной. Совсем не важно, что это была только декорация, и, если пристально взглянуть в глаза этому бравому приведению из зазеркалья, ясно можно было увидеть только одно – неминуемую скорую смерть. Сегодня ей нужно было произвести впечатление на Федора, ведь, весьма вероятно, что это будет в последний раз.
Когда Кольцов наконец пришел, она добилась результата. "То ли все мужики такие дураки, то ли им действительно нужны только крашеная морда да дырка?", – думала Зоя Васильевна в объятиях Кольцова, прилично возбудившегося от осязания ее дистрофических прелестей. Ей даже не пришлось прибегать к каким-то особенным ухищрениям, чтобы доставить ему удовольствие. Она спокойно лежала на спине, вяло сокращая мышцы в паху, а он порывисто тискал ее сухие почерневшие соски и лихорадочно дергался в ней, боясь, что эрекция ослабнет в самый неподходящий момент. Зое не нужно было объяснять, почему Кольцов так суетился. Как никак, а мужчин в его теперешнем возрасте перебывало в ее постели немало. "Боишься, что опадет! Эх, милый мой, если бы ты знал, что кувыркаешься с без пяти минут трупом, у тебя враз бы все скукожилось", – беззлобно отметила про себя Зоя Васильевна, как раз в тот момент, когда Федор судорожно кончил. Кольцов почти упал на Зою, причиняя ей боль, неудобство, но она выдержала и обняла его изо всех сил, оставшихся от этого изнурительного псевдосексуального упражнения:
– Феденька, родной мой, как я тебя люблю! – ласково прошипела-прошептала Зоя пересохшими губами. И это было, скорее, похоже на предсмертный хрип, чем на любовный стон.
Они с минуту молча полежали на почти несмятой двуспальной кровати.
– Федь, а поехали к маме, она давно уже ждет! – Зоя знала, что Кольцов любит ездить к ее матери. Было видно, что там он чувствовал себя удивительно спокойно. После одной из таких поездок давным-давно он подарил Зое лучшую ночь в ее жизни.
– И правда, Зой, поехали!
***
Михайловна всегда поражала Кольцова своей энергией. За те двадцать лет, что он знал ее, старуха нисколько не изменилась. Она не выглядела моложе своих лет, скорее наоборот. Сморщенное лицо, бесцветные седые волосы, что изредка выбивались из-под неизменной черной косынки, большие жилистые руки, сухие как степная земля. Только глаза, глубокие, удивительно черные и молодые, не потухли, несмотря на годы и печали. Время не пощадило ее былую красоту, свидетельство которой сохранилось лишь на подкрашенной в духе прошлых лет фотографии, висевшей в доме в большой комнате над невысоким, но массивным буфетом. Кольцов, бывая в гостях у Михайловны, всегда подходил к этой фотографии, и с удивлением замечал за тщательно протертым газеткой стеклом портрета знакомый задорный блеск веселых глаз. Хотя в статной молодой женщине, сидевшей рядом с невысоким угрюмым парнем в тесном пиджаке, узнать сегодняшнюю Михайловну было почти невозможно. Он как-то поделился этим своим наблюдением с Зоей, на что та грустно улыбнулась и ответила, что мама состарилась раньше самой себя. Действительно, эта немощная на вид старая женщина успевала все, всегда и везде. Когда ее рыбак Василий Степанович сгинул в морской пучине больше сорока лет назад, она сама начала умело распоряжаться всем хозяйством, выполняя мыслимую и немыслимую мужскую и женскую работу. При этом делала она это настолько несуетно и споро, что казалось дом, сад, огород, живность, все хозяйство заботятся о себе сами.
Вот и сегодня Екатерина Михайловна Бойко встречала их у открытых загодя ворот, пряча руки в большом клетчатом переднике, как будто так, без дела, она и простояла целый день:
– Пэтровычу, яка ж я рада, що Вы прыихалы. А то вже думаю, помру, а Вас не побачу. Надовго до нас?
– Я теперь, Михайловна, насовсем, буду жить здесь. Не нужен я стал в столице.
Кольцов был уверен, что старуха хорошо знает обо всех переменах в его жизни. За кажущейся простотой и наивностью Михайловны скрывалось поразительно точное знание любой, самой сложной ситуации, безошибочное понимание и даже предвидение всех жизненных коллизий. Просто, бесхитростно, но емко и верно она умела оценить все – от житейской драмы соседки Гали, которая мучилась с мужем алкоголиком, до серьезных политических проблем.
Михайловна хитро сверкнула глазами, дескать, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, и продолжила начатую игру.
– И що ж це такэ в дэржави робыться, щоб такых людэй, як ото Вы, Пэтровычу, ображалы! Хиба цэ дило? Нэ будэ пуття, нэ будэ, – на этом старуха резко оборвала вводную жалостную, но обязательную с ее точки зрения часть, и абсолютно естественно повела разговор совсем в другом духе, – и нэхай воны вси горять сыним вогнэм, а Вы хоч видпочынытэ на мори, у спокои, а бэз Вас всэ одно нэ обийдуться, нароблять дилов и поклычуть. Цэ Вам стара баба точно кажэ.
– Ну, раз Вы, Михайловна, говорите, так тому и быть, – Кольцов сам в глубине души был уверен, что вернется в столицу, но слова старухи приободрили его, он почувствовал новый прилив сил и не смог сдержать довольной улыбки.
– От и добрэ, раз посмихаеться, значыть всэ гаразд. Правда, Зою?
– Правда, мамочка, правда, – улыбнулась в ответ дочь. В этот момент Зоя снова почувствовала, как острая боль разрастается внутри, и заторопилась по чисто выметенной дорожке в дом. Там, еще до того, как вошли Михайловна с Кольцовым, она успела быстро проглотить две спасительные таблетки.
Кольцову показалось, что старый дом ничуть не изменился. Чисто выбеленный, увитый багряными виноградными листьями он выглядел нарядным и почти новым, несмотря на то, что его возраст давно перевалил за полвека. В маленьких окошках весело поблескивало осеннее солнышко и казалось, что хата просто излучает тепло и уют.
Для Зои этот дом был родным. Семья Бойко построила его за несколько лет до войны. Тогда он считался необычайно просторным и удобным. Зоя запомнила, как голосила мать, когда пожар с нефтебазы, подожженной немцами, грозил перекинуться на их поселок Лиманы. Детский ужас перед этой жестокой и непреодолимой стихией был настолько велик, что Зоя всю жизнь панически боялась огня. Бог миловал: дом пережил и военные пожары, и грозное наводнение пятьдесят седьмого. А вот огонь, спустя многие годы, настиг Зою Васильевну, отняв у нее доченьку Мариночку. На похоронах, когда гроб уже опускали в могилу, Екатерина Михайловна, все время тихо простоявшая в стороне, проговорила: "Кращэ б тоди у вийну хата згорила!" – и завыла протяжно и дико, как когда-то в сорок третьем.
Они прошли в большую комнату, где их уже ждал накрытый стол. Михайловна не была бы Михайловной, если бы он не ломился от угощения. Такой горы продуктов вполне могло хватить на две дюжины голодных мужиков. Как дряхлая бабуля могла исхитриться изготовить все это изобилие, просто не укладывалось в голове! К тому же, Кольцов прекрасно знал по опыту застолий в этом доме, что выставленное было лишь малой частью заготовленной накануне разнообразной снеди.
Старая Бойчиха была признанной мастерицей всевозможных солений, поэтому на столе в разнокалиберных глубоких тарелочках возвышались соленые помидорчики и огурчики разных посолов и маринадов. Манили несколько видов синеньких, один взгляд на которые вызывал отделение желудочного сока. Слюнки текли от одного вида фирменного маринованного горького перчика всех цветов светофора и мелких соцветий цветной капусты, напоминающих крошечные ядерные взрывы. Радовали глаз квашеная капусточка, и нарезанный аккуратными квадратиками, почти как свежий, моченый арбуз. Конечно, на почетном месте, поблескивая смазанными подсолнечным маслом шапочками, стояли соленые и маринованные грибочки вперемешку с нежно-сиреневым крымским лучком – гвоздь закусочного стола.
А сколько рыбы припасла гостеприимная старуха! Были здесь жаренные с лучком золотистые котлетки из бычка, холодный судачок под веселым томатным соусом, виртуозно нарезанная селедочка, пересыпанная свежей зеленью, которая у Михайловны не переводилась круглый год, прозрачное, как слеза, заливное из осетрины. Но больше всего привлекала к себе, несмотря на все великолепие более благородных соседей из рыбного царства, сложенная горкой жареная камбала.
Эта кулинарная вакханалия затмила с полдесятка разнообразных салатов в старомодных хрустальных салатницах, затерявшихся на этом буйном празднике желудка. Хотя они были обречены на то, что их заведомо никто не станет есть, предусмотрительная Михайловна все-таки приготовила сегодня утром дежурные оливье, винегрет да мимозу, как всегда приговаривая: "Якый культурный стил без салатив? Нэхай нэ з"идять, алэ мэни не соромно будэ, колы хтось спытае!"
Само собой, что на столе присутствовал и полный набор домашних мясных продуктов: соленое, копченое и вареное сало, кровяная колбаска с гречкой, нарезанные толстыми кусками, "бо цэ ж м"ясо, а нэ фитюлька", как говорила хозяйка. Были здесь восхитительная жареная куриная печеночка в сметане с луком и морковью, обязательное в этом доме жирное утиное мясо, обжаренное с чесноком, горшочек с томленой домашней колбасой, доверху залитый белым, блестящим топленым жиром, запеченная буженина с яйцом и еще бог ведает какие вкусности!
Картина была бы неполной, если не сказать, что на приставном столике расположились две полные миски невообразимо аппетитных духовых и жареных пирожков. Они зазывно выглядывали из-под рушников, которыми бережная хозяйка их загодя прикрыла.
Сели за стол. Кольцов сразу расслабился. В разговорах о каких-то женских пустяках, погоде, урожае, пенсии и болячках он почти не участвовал. В лучшем случае поддакивал или отсутствующе улыбался. Зато налегал на фирменную старухину самогоночку, почти не закусывая. Михайловна вздыхала, причитая, что гость ничего не ест. Зоя одергивала ее, но старуха упрямо подкладывала в полную тарелку Федора Петровича все новые и новые угощения. Когда Михайловна выскакивала на кухню то за холодцом, то за жарким, Зоя Васильевна нежно брала руку Федора и молча гладила ее. Так сидели они до сумерек, пока Зоя не растолкала почти заснувшего за столом Кольцова. Пора было ехать к Фаине.
Михайловна уже возле машины, когда Зоя села за руль, тихо шепнула пьяному Кольцову:
– Пэтровычу, спытай в Зойкы, чы вона нэ хвора, бо вона мэни нэ кажэ, а маты ж хвылюеться!
– Хорошо, Михайловна, не волнуйтесь!
***
Пока они ехали на Змеиный Язык, в джексонвилльскую Турцию, Федор Петрович постоянно засыпал, но сквозь пьяную дрему спросил:
– Зой, ты не больна? Вот и мама беспокоится.
– С чего ты это взял? Я в полном порядке! – бодро ответила Зоя, от боли сжимая руль так, что сводило руку, – смотри, Пинчук поехал, еще сигналит, зараза! А на переднем сидении у него кто… Игнатушка что ли? Федь, слышишь? Проснись! Чего это они вместе разъезжают?
– Пинчук с Игнатом? Странно… Вроде бы сестра его, Лена, должна была за ним заехать, в клуб повезти…
– Федь, ну ты что, я-то думала, раз ты с Васей встречался, он все тебе рассказал, хоть я тебя теребить не стану. Но вижу, ты просто недооцениваешь ситуацию. Ладно, Васю ты всерьез не воспринимаешь, наверное, правильно делаешь, но в этом-то он прав. Не думай, что ты здесь начнешь все с чистого листа.

