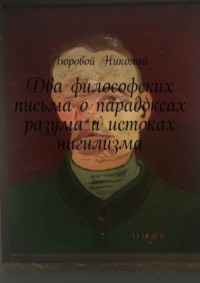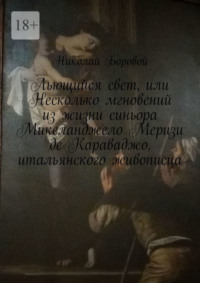Полная версия
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том II. Часть III и IV (Главы I-XI)
– Герр профессор, что Вы тут делаете?? О черт!.. Немедленно уходите отсюда, немедленно!! Слышите?!
Тон Шлётца был резким, не терпящим возражений и приказывающим, от утренней дружеской доброжелательности в нем не осталось и тени и как и весь облик Шлётца, он вызывал страх и еще сильнее разжигал панику.
– Губерт, я собственно, здесь… А что происходит, почему Вы..?
– Оставьте немедленно это место, слышите, уходите – продолжает грубо Щлётц, уже вплотную подскочивший к нему – Да уходите же, черт побери, убирайтесь, немедленно уходите, о дерьмо! – кричит он, видя приближающиеся ко въезду в университетский двор огни машинных фар, и в плечи выталкивает Войцеха в окружающую крыльцо темень – вон, быстрее вон отсюда, убирайтесь!
Войцех слышит шум, оборачивает голову и видит въезжающие в университетский двор две грузовые машины и следующий впереди них «опель», один из тех, на которых разъезжают по Кракову немецкие офицеры. Он более не может думать, его рот раскрывается от ужаса, но не издает крика, потому что горло и дыхание сдавлены. Тьма и ужас, с молодости накрывавшие его при мысли о том, что его рано или поздно не будет, вдруг вновь целиком охватывают его и становятся реальностью ощущения, что не будет его не когда-то еще «потом», а прямо сейчас, через несколько мгновений, что время перестать быть пришло. Что сейчас вот то жуткое, разверзавшееся с ранних лет в мыслях «не будет», наконец-то настанет, станет реальностью, потому что всё – назначенное время пришло. Ему вдруг представилась виденная им однажды в детстве пасть огромной свиньи. Лет в семь он, еще мальчик Нахум, сын великого раввина, сбежал с занятий в «хэдэре» в город и забрел случайно на набережную возле Вавеля, где в это время гостил переездной цирк-«шапито». Он пошел не к самому входу в цирковой шатер – на это он, хорошо воспитанный отцом-раввином мальчик, осмелиться конечно не мог – а вдоль ограды, за которой стояли вагончики артистов и были размещены вольеры с животными. Зачарованный, со смесью испуга, отвращения и веселого интереса глядел он, как по одному из вольеров, тяжело стуча и хрюкая, бегает огромная, заросшая густой темной шерстью свинья, шевелящая мокрым белым пятачком, с огромной же и словно застывшей в глумливой ухмылке пастью. Войцеху было страшно, потому что свинья была существом, олицетворявшим для его отца и всех окружающих его взрослых людей что-то самое страшное и ненавистное, противоположное жизни. Вправду, существо это было в его внешности и поведении очень неприятное, как выяснилось в ближайшем рассмотрении, и потому маленький Войцех глядел на него с испугом и отвращением, но оторваться, словно загипнотизированный, не мог, так было до безумия и захватывающе интересно. Вдруг – в вольер к свинье зашел служащий с ведром, из которого вышвырнул в угол, на смесь песка и опилок, что-то темное, бесформенное и вонючее. Лишь завидев это, свинья затопала по опилкам, быстро рванулась к темной груде «чего-то» и жадно, широко раскрывая зубастую и как выяснилось действительно огромную пасть, стала то темное и вонючее жрать. Еще посмотрев пару мгновений, он вдруг страшно закричал, заплакал и бросился пулей бежать от сетки ограды, так явственно ему представилось, что вместе с чем-то отвратительным и непонятным свинья набрасывается огромной пастью на него самого. И еще долго потом он переживал этот испуг и сворачивался от ужаса при встававшей у него в глазах и воспоминаниях огромной, с частыми желтыми зубами свиной пасти. И вот сейчас, 6 ноября 1939 года, сорокалетний мужчина, пришедший на официальное мероприятие профессор философии, он стоит в вечерней темноте, видит заезжающие во двор Университета и окутанные светом фар машины, и всё его существо охвачено и увлечено куда-то ужасом от сознания и ощущения, что сейчас он перестанет быть, только небытие и смерть глядят на него в этот раз не бездонностью и бесконечностью мглы, а пастью огромной свиньи, всплывшей неведомо откуда, из каких-то давно забытых воспоминаний и картин детства, и так же, как тогда, он готов по детски закричать от ужаса, но не может, потому что ему сдавило горло и дыхание. Он теряет рассудок, перестает помнить и осознавать, что делает. Бросается стремглав грузным телом в густую темноту университетского двора, перелетает через него, проносится сквозь задний двор к хозяйственным постройкам, как-то умудряется, в кровь сбивая и царапая и руки, и ноги, взобраться на них, чудом не сломав ноги спрыгивает с крыши и хромая, тяжело дыша и вскрикивая от бега, исчезает во мгле переулка…
– — —
Время вышло, часы указывали без четверти шесть и должно было идти в аудиторию номер 66[i]. И ректор Ягеллонского Университета Тадеуш Лер-Сплавински, точно так же, как два с небольшим месяца назад, вышел из своего кабинета на втором этаже и двинулся по коридору, в том же самом направлении и подобным же образом сдерживая шаг. По понятным причинам. Шел пан ректор в этот раз, однако, совершенно один. Стремясь сохранить наиболее спокойную, рабочую атмосферу, он отослал секретаря и ближайших коллег к аудитории 66 полчаса перед этим, изъявив желание побыть одному и полистать бумаги, поэтому привычной свиты рядом с ним не было. Однако – именно это было ему более всего сейчас нужно и обычная пустота вечернего коридора отзвучивала не только его шагами, а тем, что переполняло его. Сонм клокотавших в нем мыслей и чувств, от сомнений в правильности принятого им решения и сути того, что вот-вот должно случиться до тревог, страха, терзаний и невольных попыток оппонировать всему этому оптимизмом и сотню раз перебранными за день трезвыми доводами, не могли успокоить даже нарочито медленные шаги, которыми он, в его неотвратимом движении к назначенному событию (что-то в душе бесновалось и орало «к судьбе!»), пытался сохранить достоинство и выдержку – подобающие если не ситуации, то точно его возрасту и статусу. Целый день тревожившее и разрывавшее его душу, должно было через несколько минут произойти, но это ни чуть не разрешало клубок сомнений и мук, не дарило даже последнего покоя обреченности и бессилия перед неизбежным, а наоборот – стало каким-то предельным напряжением и накалом переживаний, превратило его в натянутую и способную в любой момент порваться струну. Судьба и вправду, какова бы ни была и что не несла бы с собой, через считанные мгновения должна была явить себя и вступить в права, взять ей положенное, но обычно приходящего с этим фактом покоя пан ректор не ощущал. Вопрос «что же он всё-таки сделал», судьба Университета и коллег, вверенная в его руки и зависящая от его решений и поступков, отданная им самим во власть немцев и их непонятных затей, сомнения и попытки задушить и приструнить те, в эти мгновения зашлись в его душе и мыслях в пляске и успокоить его не могло даже произносимое мысленно – «ты уважаемый человек и ректор, на тебя смотрят с доверием и ты должен сохранить выдержку и твердость хотя бы просто для того, чтобы вселить уверенность в сердца остальных, перед которыми отвечаешь!» В самый первый день страшных событий, в те часы, когда всё и на глазах рушилось, а бездна неведомых испытаний и бед разверзалась не просто во всеобщей жизни, а словно бы под конкретно его, шедшего в торжественную залу шагами, в его душе и уме царствовала дилемма, в ее сути и решении ясная. Человек слаб, ничтожен, подвержен власти случая и множества не зависящих от его воли обстоятельств, но он же достоен и велик, ибо может до последнего с судьбой и обстоятельствами бороться. Тогда это стало словно беспрекословным и емким ответом на все мучавшие его чувства и вопросы, внезапным пониманием ответственности и миссии, которая в складывающихся обстоятельствах на него ложится. Да и вообще – было целиком созвучно его человеческой сути и натуре, всей его жизни, как она состоялась до того дня. И последующие два месяца истина бороться до последнего определяла те его решения, от которых зависела судьба Университета и коллег, и в которых он, не имея права по давним академическим традициям принимать их самостоятельно, пытался наиболее важных из коллег убедить. В вопросе о работе Университета и открытии учебного года, ждать милости и решения оккупационных властей было нечего: захотят немцы запретить – так и поступят, а совершить в последние дни войны и полного краха, в преддверии капитуляции этот демарш, значило показать, что у поляков есть воля бороться и отстаивать их достоинства и права, если не у военных и чиновников правительства, то точно у интеллигентов, верных долгу и любви к собственной стране. И возможно – именно этим убедить новых господ и заставить их посчитаться, принять это и поостеречься от возможно бродящих в их головах намерений. Никто не мог знать в те дни, что будет и как продолжится уже безнадежно и надолго поменявшаяся жизнь, какой она будет под победно и твердо пришедшим немецким сапогом. И открыть год, совершить откровенный и вольнолюбивый демарш, означало с его точки зрения показать волю к борьбе и сколько вообще дано – быть может вправду убедить немцев хоть немного считаться с привычным укладом польской жизни, с главными правами раздавленных, униженных крахом страны и армии поляков. Ведь запретить так и не начавшуюся в страхе и покорности работу Университета гораздо проще, чем оборвать пошедший полным ходом, тысячами голосов гудящий в университетских коридорах учебный год. Так он чувствовал и думал, полностью сумев убедить коллег. И конечно был прав. Однако с сегодняшнего утра, в свете возникших обстоятельств и в особенности – после разговора со Стернбахом, в его уме и душе с безжалостной ясностью стоит и словно рана обнажена другая дилемма: истина борьбы до последнего и значит тревог, недоверия надеждам и пристального внимания к опасениям, резких и трагичных решений, либо же от судьбы, какова она, вправду не уйдешь и надо уметь спокойно, с достоинством предначертанное и неотвратимое принять. Как он сам сейчас, стараясь сохранять выдержку и достоинство, обреченно и безо всякой возможности повернуть назад, что-нибудь переиначить и сказать «нет», движется к тому, что должно произойти. И эта дилемма столь же в его уме и душе ясна, сколь разрывает и мучит его, ибо с ней связана правильность или же трагическая, быть может преступная и непредсказуемая по последствиям ошибочность принятого им решения, его поступков сегодня. Прав он или нет, принял верное решение или же страшно ошибся, трезво оценил ситуацию либо в страхе, утлых иллюзиях и надеждах позволил себе ослепнуть, не сумел в нужный момент посмотреть в глаза правде, связано с ней прямо. А еще потому, что старый Стернбах, его седой учитель-еврей, гениальный и великий ученый, сделавший для Университета и польской науки неизмеримое, показался ему в какой-то момент целиком правым и истина борьбы до последнего, диктуемое ею решение внезапно вставшей с утра проблемы, перестали быть для него однозначными. Ведь действительно бывает, что от судьбы не уйдешь и не обороть ее, как не старайся, и значит – достоинство требует спокойно принять судьбу, мужественно и спокойно идти навстречу предначертанному, покрытому мраком неизвестности или же безжалостно очевидному, а не пытаться отчаянно и чуть ли не до смеху напрасно вступать в драку. Бороться и надеяться до последнего – осознанно или нет, но это было истиной всей его сорока восьми летней жизни. Однако, в разговоре со Стернбахом он ощутил две вещи: «надежда на лучшее» может быть лживой и гибельно слепить, правдой же внезапно окажется самое страшное и невообразимое, словно рисуемое болезненной фантазией, а кроме того – какой бы ни была судьба, возможно только принять ее, ибо попросту не остается иного выхода. И надежда до последнего может спасти, сохранив для этого силы, но бывает – в трусости и малодушии делает слепым, скрывает опасность и нависшую угрозу краха, обязанность яростно бороться и спастись именно так. И поди знай, когда правильно одно или другое. И через ситуацию, которая так неожиданно встала сегодняшним утром, а спустя несколько минут как-нибудь точно разрешится, эта дилемма и потерянность в ответе на нее пролегла мучительно. Запаникуй и поступи так, как диктуют последние страхи и опасения – быть может только всё погубишь, нанесешь делу и коллегам вред. Считаешь, что трезво оцениваешь события, а на самом деле – может быть слеп и только трусливо лжешь себе, уводя глаза от опасности, от обязанности плюнуть на всё и принимать наиболее тяжелые и рискованные решения. А может и самое страшное – Стернбах прав и так или эдак, но от судьбы не уйдешь и просто прими отпущенное испытание, иди в него и будь готов в нем пропасть, но лелей надежду на лучшее и пытайся выстоять. Целый день он терзал себя этим вопросом, да так, что стал мысленно разговаривать с собой чуть ли не любимыми словацкими поговорками. Так решишь – может быть подвергнешь коллег опасности. Эдак решишь – может просто поддашься власти страха и паники и к еще худшему приведешь. А пойдешь прямо в назначенное судьбой – возможно всё погубишь или поди знай, что вообще в конце выйдет. Ответственность за судьбу Университета и коллег, в мирных обстоятельствах казавшаяся ему полем для волнующих, вдохновенных и важных начинаний, которые будоражат мечты и пробуждают море сил и энергии, в обстоятельствах краха и абсурдного карнавала событий стала тяжким и мучительным бременем, не менее мучительной неизвестностью в простых, но одновременно жизненно важных вопросах. И ведь правда такая судьба и от нее кажется не сбежишь, обманом и хитростью, как у героев народных эпосов, не скроешься! Ведь что же – откровенно и по последнему счету лезть с немцами на рожон, когда вокруг только их власть и воля, их прихоти и законы? Заставить старых и всемирно известных профессоров, словно ушедших в подполье и куда-то враз пропавших маршалов и генералов бежать, скрываться, жить по разным адресам? Да куда они все, с их возрастом и послужным списком, годами в университетских коридорах, лоском и размеренным благообразием в привычках могут деться!.. У вояк и чиновников не даром принято в лучшие времена смотреть на них, интеллигентов, как гордость и требующие ухода, прекрасные цветки в оранжерее, а в худшие считать их обузой и слабаками, с которыми что хочешь делай. За промелькнувший в душевных муках и борениях день, он не раз говорил это себе с горечью… Это правда, хоть часто не берут в расчет силу и опасность знания, вдохновенно и глубоко произнесенного слова, которую они несут, нередко способную на многое. А когда всё же берут, у «очкатых слабаков» появляется цена или же их начинают попросту уничтожать – в зависимости, до кого наконец-то дошло… И значит – принять судьбу и идти в предначертанное, не дерзнув дергаться и «трепыхаться», пусть даже что-то в душе и уме кричит, чуть ли не воплем орет о грядущей опасности?.. Ведь от судьбы не уйдешь, какой бы она не была… Он так в конечном итоге и поступил, хотел или нет, своим решением обрек на это сотни выдающихся коллег, которым – втайне и подобно ему встревоженным, либо же воспринимающим происходящее самым должным образом, он буквально через несколько мгновений взглянет в глаза. И сделал так, уже наверняка зная после разговора со Стернбахом, что его опасения и страхи вполне возможно верны и судьба, в жернова которой бросал себя и их, непредсказуема и скорее всего окажется наихудшей. Ответа на эти дилеммы и сомнения он не нашел в течении дня, а сейчас они обнажены в нем по истине кроваво… Однако – ни позволить им и далее терзать душу, ни сдерживать шаги больше нет смысла. Гулкий и плохо освещенный университетский коридор, множащий в готических сводах шаги пана ректора, почти пройден – в одиночестве, лицом к лицу с собой, сомнениями и страхом, изъевшим его за день чувством ответственности… Сколько есть духу, он призывает себя мысленно к выдержке и чувствует, что на сей раз это почему-то возымело силу, придает лицу выражение спокойствия и уверенности, и сделав шаг твердым и быстрым, устремляется вперед… Коллеги во множестве толпились в вестибюле, пришли действительно почти все – «весь цвет», как он еще раз, чуть ли не со слезами и ужасом сказал себе в мыслях, он не мог разглядеть лишь нескольких из упомненных им и хорошо знакомых ему молодых докторов. Еще почему-то нет Житковски. Здоровается сдержанно и напряженно с теми и другими, в голос просит их войти в зал, никого из немцев пока нет. Это не нравится ему, как и всё остальное, он уже почти не сомневается, что произойдет нечто ужасное, хотя тоже самое он произносил мысленно четыре часа назад и даже раньше. Низок человек, настоящий скот. И надежда до последнего – вот, что в нем самое низкое и грязным скотом его делает. Теперь он кажется считает истиной именно это. Немцев всё нет. Но ничего, эти уж точно заявятся, своего не упустят, будьте уверены и покойны – дождетесь. Доценты и профессура заходят в зал, приглушенно гудят разговоры. Хшановски, Стернбах, он и еще несколько больших профессоров рассаживаются в первом ряду, друг рядом с другом, так спокойнее. И вдруг раздается нарастающий издалека, страшный гул, который моментально заставляет большую аудиторию с почти двумя сотнями людей притихнуть и застыть. Гул этот рокочет вдали, где-то на парадной лестнице, быстро приближается, звучит уже содрогая готические своды, заставляя трястись стены и грозя поднять старинные деревянные полы перекрытий. Это уже не гул, а грохот, содрогающие и оглушающие удары. Это две роты СС из айнзацкоманды оберштурмбаннфюрера СС Бруно Мюллера, идущего рядом и вдоль их движения, с перевешенными через грудь автоматами, чеканят шаг и безжалостно бьют квадратными носками сапог старинный деревянный пол университетского коридора, под предводительством своего командира идут делать дело, важное и историческое, обреченное стать героической, славной легендой дело, и им плевать на толщину перекрытий, те не рухнут, выдержат – солдаты, как и командир, уверены в этом. Ибо то, что должно и предназначено совершиться, обязательно совершится, а они – лишь шаг и голос неотвратимого. Шум и грохот обнимает кажется уже всё здание, заставляет его трястись, собравшиеся в аудитории, молодые и старые, уже ничего не скрывают от себя и ни в чем не сомневаются, не сдерживают ни шок, ни вскрики прорвавшихся предчувствий, ни властвующую над ними панику, а некоторые привстают с их мест. Тадеуш Лер-Сплавински не вскакивает – он сидит, словно приросший к креслу, расширив глаза и уткнув их в пол, не в силах пошевелиться, ибо он понимает – идет Судьба и так звучат ее шаги. Шесть дверей в аудиторию распахиваются и пану ректору, сорока восьмилетнему академику и профессору, становится понятно, как выглядит Судьба, он смотрит ей в лицо. В зал, чеканным и грохочущим шагом, входит какая-то бесчисленная тьма солдат в черной форме и касках, с автоматами на груди. Они становятся в оцепление вдоль стен, а последним, тем же мощным, стремительным и бъющим об пол, чеканным и грохочущим шагом, в зал влетает высокий человек в такой же, как у солдат форме, но в черной фуражке и со множеством нацистских значков на груди, который, грозя перебить сапогами доски, поднимается прямо на сцену, чтобы сделать дело – то, что он умеет и привык делать. Чуть ли не треть зала вскочила в живом движении паники и ужаса с мест, и стоящие, и остающиеся в креслах, перегибают тела и вытягивают головы – в направлении сцены…
Пять минут назад оберштурмбаннфюреру Бруно Мюллеру сообщили в «опель», что польские профессора собрались там, где было им назначено. Оберштубманнфюрер спокойно курил и ждал, не волновался ничуть. Напротив – он уже, без малейшей йоты сомнений и колебаний торжествовал и праздновал успех, был уверен, что всё пройдет удачно и в точности так, как он наметил, собственно – считай произошло. Поэтому он, ничуть не засуетившись и не поменявшись в лице, спокойно и в том же ритме движений докурил хорошую американскую сигарету, спокойно же сел в машину, спокойно и даже не напряженно махнул рукой двум стоявшим за ней грузовикам с солдатами его айнзацкоманды, притаившимся в переулках Нового Света, недалеко от Университета и напротив окаймляющей Университет аллеи. «Опель» и грузовые машины въехали в парадный двор-парк перед главным входом, солдаты начали делать то, что должны и привыкли – выпрыгивать из машин и молниеносно становиться в порядок боевого марша, по три в ряд и создавая колонну. Вверху, в душной зале, собрались и должны быть арестованы почти двести человек, но оберштурмбаннфюрер не командует солдатам «бегом марш!», торопясь успешно сделать дело – он итак уверен в успехе. Они там наверху никуда не денутся и уже ничего не смогут сделать, даже если захотели бы. Они сами пришли в западню, наверняка догадываясь, что их может ждать, и так же послушно дадут в нужный момент сработавшей пружине судьбы пришибить их, сделать то, что она должна. К нему подлетает и молча замирает в «зиге» его одетый в штатское, контролировавший ситуацию в здании заместитель, Губерт Шлётц. Он командует двинуться шагом и таким же спокойным, могучим, грохочущим в гулком пространстве здания шагом, сопровождаемый заместителем, идет рядом с солдатами – по парадной лестнице с громадными дворцовыми пролетами и дальше, по готическому коридору, к аудитории номер 66. Он идет делать дело, которое он любит и умеет делать, и им владеет кураж. Это его дело, грамотно продуманное и обреченное на успех, и он чувствует себя так же, как солист в голосе, уверенный, что возьмет верхнюю ноту и сразит публику наповал, заставит ее сойти с ума и надорваться в аплодисментах и криках «браво!» Пусть собака Беккер вообще не скажет в рапортах о его участии в деле – он счастлив и удовлетворен самим делом, этим великим моментом, ему ничего больше не надо. И потому он не бежит, а решительно и с наслаждением идет, предвкушая предстоящие короткие мгновения, влетает мощным и грохочущим по гнилому деревянному полу шагом в зал, и мимо выстроившихся рядами вдоль стен солдат проходит на сцену. Окатывает привскочивший над креслами, превратившийся в одно, как кулак напряженное ожидание зал, и с удовлетворением, наслаждением впитывает исходящие от замерших людей волны ужаса, страха и паники. Его взгляд полон самого откровенного презрения, он торжествует над этой гнилью, над этими наглыми полячишками, вечными, но ничтожными врагами Рейха, которые возомнили, что значат что-нибудь под солнцем и получили по зубам так, что не позавидуешь, а сейчас, от него и его людей получат еще больше. Ведь застигнутые врасплох и оказавшиеся сейчас лицом к лицу перед Судьбой, наверняка владевшими многими из них предчувствиями, они даже не подозревают, что ждет их недавно мнившую себя великой, но навсегда уничтоженную, позорно растоптанную страну, что слова, которые через пару мгновений, он словно приговор обрушит на них, касаются вовсе не только их жалкой участи. Он не собирается надевать никакие маски или соблюдать приличия и тона, он сейчас прямо, в нескольких коротких словах объявит этим людям их судьбу и совершит ее, но он не торопится. Он – судьба, он в особенности их судьба, и это надо понять и прочувствовать, такой великий момент надо просмаковать. Он и не хочет начинать быстро, а желает насладиться страхом и паникой этих червяков в очках, сковавшим их сознанием того, что они глядят в лицо собственной судьбе, и потому – смотрит нагло и прямо на них, долго смотрит… Вы только взгляните – «мудрецы», гордость нации, наверняка евреев среди них полно… Трусливое и нерешительное отродье – как просто, будто детским матом в шахматы он обвел их вокруг пальца, заставил зайти в уготованную и наверняка предчувствованную большинством из них западню. Он испытывает к ним ненависть и презрение, они отвратительны ему – в первую очередь тем, что позволили так бесхитростно сцапать себя, в этот момент он ощущает их ничтожествами. Его речь начинает литься в зал – громкая, резкая, отдающая приказы и словно вершащая судьбу речь, речь хозяев, тех, кто умеет делать дело, чья воля неукротима и несломима, кто поэтому имеет право властвовать и подчинять. Он уверен, что большинство людей в зале знают его язык и поймут каждое произнесенное им слово. Остальные – догадаются, он уверен и в этом.
– Профессора и сотрудники краковского университета, слушайте внимательно! Мое имя Бруно Мюллер, я оберштурмбаннфюрер СС, офицер Великого Германского Рейха! Я здесь для того, чтобы объявить вам – вы виновны в дерзком неподчинении немецким властям, разочаровавшим власти и самого Фюрера, милостиво и благородно, как истинный рыцарь, желавшего наладить с интеллигенцией и университетами покоренной Польши сотрудничество. Вы и руководство Университета проявили дерзость, неповиновение и неуважение к Фюреру и Великой Германии – без какого-либо согласования с властями генерал-губернаторства открыли учебный год. Вы совершили преступный и наглый поступок, будете наказаны и расплатитесь за него, как должно. С этого момента, власти генерал-губернаторства и я, Бруно Мюллер, представляющий их здесь, объявляем Краковский университет закрытым, лишенным права осуществлять какую-либо образовательную деятельность, всякая попытка продолжить работу Университета будет сочтена тяжелым проступком и безжалостно, сурово наказана. Ягеллонского университета в Кракове более нет. Более того – одновременно с этим властями генерал-губернаторства воспрещается деятельность всех польских университетов и академических заведений, наказание за неуважение к властям Рейха должно быть жестоким и справедливым.