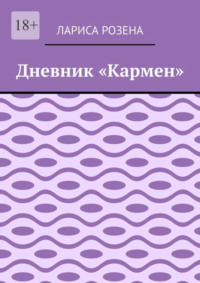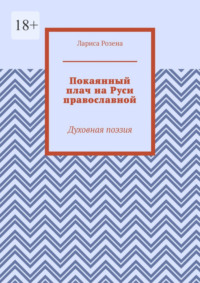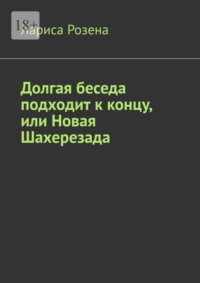Полная версия
Вразумление Господне. Историческая и современная проза
Обрадованная супруга священника улыбнулась. И внезапно превратилась в очень милую женщину. Просто ее убивали заботы. Она устала экономить, считать каждый грош. Ни в доме, ни на детях, ни на супруге, ни на ней нет ничего приличного. Живут почти впроголодь. А ведь она еще так молода… Наконец-то забрезжила надежда. Они расплатятся сейчас со всеми долгами, заткнут много дыр и возвращать никому ничего не надо будет. И ее можно понять, она почти высохла от хронического безденежья.
– Да хранит Вас Господь! – благодарно шептала она удалявшемуся посетителю. Глаза ее излучали тепло и признательность. Отец Иоанн удивился, бросив на нее внимательный взгляд: «Да ведь она еще так молода, хороша и добра. И я гублю эту голубку своим неумением прокормить семью…» От горьких, пронзительно-жгучих мыслей у него защемило сердце. Улыбка сбежала с лица и, побледнев, он сел в кресло. А дети все еще весело шумели, но притихшая мать гладила их и уговаривала успокоиться.
Наутро на Божественной литургии иерей помолился за своего благодетеля и на проскомидии вынул за него частичку из просфоры о здравии. А вечером, придя домой, занемог. Видимо, переволновался или сказались многолетняя усталость и заботы – как обеспечить все увеличивающуюся семью.
Жена пыталась его накормить, успокоить. Все было тщетно. Он от всего отказался, хватался за сердце и стонал. К утру ему стало совсем плохо.
– Умираю, – тихо прошептал он, закрыв глаза.
Любящая супруга находилась рядом:
– Ненаглядный мой, на кого ты меня оставляешь? Кто меня приголубит, кто пожалеет, кто деток на ноги поставит? – сокрушалась она.
Он слабо выдохнул:
– Да, как же вы будете жить без меня? – с непередаваемой грустью посмотрел на всех, попросил простить его и со словами – Вручаю заботы о вас Господу, – страдалец отдал Богу душу.
Безутешная вдова еле похоронила хозяина. Все деньги уже были истрачены. И остались крохи.
Взбешенный Оранций примчался к ней и стал требовать вернуть ему золото, которое он подарил им:
– Ваш батюшка умер, не сдержав обещания, и Вы должны отдать мне деньги назад.
– Но у меня их нет. И в доме, Вы видите, ничего нет, чтоб продать, – ужаснулась бедняжка, смахивая слезы.
– Я ничего не хочу знать, – взорвался купец, – Вы вернете мне все или я приму к Вам суровые меры. «Вот и связывайся с этой беднотой, мрут, как мухи. Но из нее-то я свои деньги вырву!» – думал он с негодованием.
Олимпиада, так звали супругу покойного священника, бросилась на колени, собрав всех своих малюток и, обняв их, стала просить богача простить им долг. Но Оранций был неумолим. Он никогда не знал жалости. И только понимал, что все покупается и продается. Но чтобы свое отдать кому-либо просто так. Нет, это уж слишком!
– Даю два дня сроку, милейшая. Если я так буду вести дела, как Вы предлагаете, то я скоро по миру пойду.
И, покрывшись крупными каплями пота, он быстро покинул бедное жилище.
Несчастная вдова, как подкошенная, упала на кушетку. Она не знала, как ей поступить. Мыслей не было. Встав, подошла к иконе Богородицы. Опустилась перед ней с детишками на колени и, попросив их молиться вместе, стала горячо взывать к Матери Божией о помощи. Молились весь вечер, одинокие, убитые двойным горем: и кормильца потеряли и врага смертельного нажили. Говорят, детская молитва особенно доходчива. Услышала их слезы Богородица и подала бедной вдове мысль идти к епископу Василию и все ему рассказать. Он помогает несчастным, прибегающим к его помощи.
Мать уложила детей спать. Какая-то дремота сковала ее оцепеневшее тело. Села и стала прислушиваться к своему робкому дыханию. Еле слышен пульс жизни. Погасли звезды в окнах улицы. Только ее огонек, мигая от одиночества, бросал во все стороны пугливые взгляды и душа ждала – вот сумрак рассеется и все успокоится. Но одиночество сковало ее плотной пеленой. Пусть тоскливо мигают ее затравленные глаза, все спят. Она не рассеивает их тьму, словно волшебный фонарик, который им снится только под одеялом. Прекрасная суть ее запуталась в паутине одиночества и грусти… Мысли наплывали одна на другую: «Только бы он понял, поверил, вошел в мое положение», – еле шептали губы. Глубокая складка залегла вдоль переносицы. Ее сотрясала мелкая дрожь, как в лихорадке.
Наутро она уже была в приемной епископа. Все здесь было просто, если не сказать, бедно. К ней навстречу вышел очень худой, высокий аскет с одухотворенным лицом и благостно-суровыми глазами. Волосы каштанового цвета ниспадали до плеч. Небольшая бородка и усы еще более подчеркивали его удивительную бледность. Олимпиада замерла, будто зрела ангела, а не человека во плоти. Видимо, очень много молится, трудится во славу Божию… Ведь он составил чин литургии, пишет духовные труды. Все благоговели перед блаженным Василием…
Когда он обратил на нее вопрошающий взор, она растерялась и не знала с чего начать. Сначала, сбиваясь и краснея, затем успокоившись под сочувствующим взглядом святителя, все по порядку рассказала. Ему стало до слез жаль бедную, придавленную нуждой беззащитную женщину. И он обнадеживающе улыбнулся:
– Не волнуйся, дитя мое, надейся на милость Божию. А если купец покажется вновь, попроси его вместе с тобой прийти ко мне…
Олимпиада успокоилась и поступила так, как велел святой. Когда она появилась с Оранцием, блаженный Василий вышел к ним. Усадив, выслушал богатого купца. Тот рассказал все, что считал необходимым. Но закончил свое объяснение требованием:
– Восполните то, что мое! Иначе я буду жаловаться префекту.
Глаза у купца налились кровью, он побагровел, стал задыхаться. Негодование душило его.
«Пчелы, – подумал Василий Великий, – летают роями и не отнимают друг у друга цветов, не так бывает у нас: каждый гораздо более заботится об удовлетворении своего гнева, чем о спасении и стремится к тому, чтобы ужалить своего ближнего… Что же взять с нищенки, кроме жизни?»
– А зачем ты давал? – поинтересовался владыко.
– Я рассчитывал о поминовении души на долгие годы.
– Хорошо. Все дороги ведут в храм. Будь завтра на литургии. На проскомидии я выну частичку из просфоры, помолюсь о твоем здравии и спасении и после все обсудим.
Утром блаженный Василий, облаченный в светлое одеяние, торжественно служил Божественную литургию. В церкви – благолепие и порядок. Мраморные колонны увенчаны капителями из проконисского мрамора, мозаичные полы – из декоративного. Над святым престолом – голубь из чистого золота. Он как бы охранял Божественные тайны. И когда во время литургии святой вносил святые дары, золотой голубь с Божественными дарами, движимый силой Божией, сотрясался три раза. Такой благодатный дар имел Василий Великий20.
Олимпиада с печальным лицом и припухшими от бессонных ночей глазами встала с правой стороны алтаря перед чудотворной иконой Богородицы. Сначала горькие слезы душили ее, казалось, никогда ей не выпутаться из бед. Потом на сердце потеплело. Она забыла все свои невзгоды и стала воссылать горячие молитвы ко Господу.
Невдалеке стоял и Оранций, побледневший, осунувшийся. Он также переживал, чем кончится все это. Какая-то непонятная растерянность входила в его бесчувственное сердце. Некая, неведомая доселе, жалость размягчала его. Она была такой сладостно-мучительной, горячей, что он испугался, стремясь не поддаваться ей всеми силами, которые он еще мог контролировать. «Что же это такое? Так можно и все, что имеешь раздать и превратиться в нищего. Нет, нет! Сколько лет наживалось, сколько пота, крови, унижений пришлось перетерпеть – и все зря? Никогда не бывать этому!»
О, как верны слова Господа – Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие небесное!..
После окончания службы епископ подозвал их к себе. Взял в руки весы и положил на одну чашу, вынутую из просфоры частицу, а на другую велел класть купцу золотые монеты, чтобы определить, сколько стоит крошечка, которую успел вынуть покойный отец Иоанн за здравие Оранция. Разницу обещал вернуть ему. Купец положил монету, весы с частицей склонились к земле. Он вынул вторую, третью, чаша опускалась все ниже и ниже, перетягивая золото. Опешивший купец бросал и бросал деньги, но не мог даже к равновесию привести весы. Давно уже количество монет превысило величину, полученную священником. Наконец Василий Великий воскликнул:
– Ну что ж, хватит! Пересчитай все. Насколько это превышает то, что ты дал ранее? Разницу верни вдове. Видишь, даже одна частица, вынутая за здравие и спасение души, – бесценна… А ты требуешь денег с нее, когда сам еще должен остался…
Отдавая Олимпиаде деньги, купец дрожал от негодования. Но суд был справедливым…
Вдова упала на колени и стала целовать край одеяния святого со слезами на глазах:
– Спасибо, святитель Божий, спасибо!
Он быстро поднял ее со словами:
– Не мне, Господи, не мне, но имени Твоему слава! – и добавил мягко, с большой убедительностью, – не меня благодари, а Творца и Пречистую Матерь Божию за спасение твоих детей от погибели!..
И молящиеся, теснившиеся около, возблагодарили вместе с ними Господа Бога и Богородицу за Их великие милости и любовь…
СКАЗАНИЕ ОБ ИОАННЕ ЗЛАТОУСТЕ21
Духовному отцу – Высокопреосвященному митрополиту Липецкому и Елецкому Никону
Молодой воин Катулл спешил сегодня в храм с другом – поэтом Себастьяном. В народе прошел слух, что их любимому патриарху грозит беда. Катул, высокий, статный юноша атлетического телосложения, с большими загорелыми руками, напоминал скульптуры, изваянные древнегреческими мастерами Поликлетом или Аполлонием. Короткие вьющиеся волосы, маленькая бородка и щеголевато постриженные усы придавали ему мужественный вид. Усиливали это впечатление шелковый плащ, накинутый на плечи, и высокий блестящий шлем.
Себастьян являлся ему полной противоположностью. Одет он был в короткую светлую тунику. И весь его вид, мягкий и мечтательно устремленный вдаль, говорил о тонкости возвышенной натуры. Волосы, почти спускавшиеся до плеч, и доверчивая улыбка на безбородом лице – все выдавало в нем мальчика. Хотя по годам друзья были ровесниками. Катулл пылко обратился к поэту:
– Пожалуйста, побыстрее, Себастьян, опаздываем. Да, скажи, за что угрожают нашему проповеднику?
– За что – живо повернулся к другу поэт, – за что? Я тебе сейчас отвечу стихами Овидия. И ты все быстро поймешь.
– О, нет. Стихи приятны, если хочешь остудить или разжечь застоявшуюся кровь. Но сейчас, когда мы так спешим… Объясни попроще.
– Хорошо, попытаюсь: наш патриарх живет для Бога и своей паствы, и последняя отвечает ему любовью, переживает за него. А это кое-кому не нравится…
Неблагодарный василевс, Византийский император Аркадий, и его супруга императрица Евдоксия изгоняли из столицы патриарха Константинопольского, святителя Иоанна Златоуста. Народ был в горе. Все хотели защитить своего любимого пастыря. Но, увы, усилия тщетны. Нет предела ненависти и злобе человеческой…
Подавленные друзья возвращались из храма, где сразу после службы патриарха тайно похитили слуги императора и увезли из города. Катулл с досадой спросил у Себастьяна:
– Почему ты ничего не скажешь по этому поводу? Ты же не только поэт, но и философ. Не следует ли осмыслить происходящее, как ты считаешь?
– Следует. – И смутившийся поэт пригласил спутника в свой дом, перед которым они оказались.
Воин увидел перед собой высокие стены, маленькие окна, портик из четырех колонн ионического стиля. Упругая капитель каждой колонны образовывала два изящных изгиба. Они являлись главным украшением фасада. Далее – небольшой дворик-атриум с бьющим фонтаном и бассейном, выложенным зеленым эфесским мрамором. Дворик отделялся от крытой галереи беломраморными колоннами.
Около бассейна было прохладно. Брызги, разлетаясь вокруг, оседали на лица, волосы, руки и одежду, создавая мечтательное настроение.
– Ну вот, почти искупались, – невольно улыбнулся Себастьян.
– Ничего, вода бодрит, – оживился воин.
Освежившись, друзья направились в приемную. Здесь, среди старинной мебели, выделялись: седалища из слоновой кости, римский мраморный канделябр в виде розеток с цветами. На маленькой столешнице из малахита красовалась древнегреческая ваза – пелика чернофигурного стиля. «О, какая редкость, – подумал Катулл, – может, перешла по наследству? Или найдена на раскопках?» Он невольно замер, залюбовавшись увиденным. И было чем. Возможно, это работа самого Эвфрония? Изображалась семейная сцена. Рисунок изысканен и прост, ничего лишнего. Композиция не перегружена деталями. Все говорит о чувстве меры и непосредственности. Древние греки умели ценить и создавать прекрасное!
Заметив восхищение Катулла, Себастьян спросил:
– Нравится?
– Еще бы, конечно, – простодушно ответил тот.
– Да, чудесная вещь. Ее подарил покойному отцу знаменитый предводитель готов. Может, и ты нечто подобное встретишь на своем пути.
Катулл ощутил смутное беспокойство: ни дома, ни семьи, всегда в походах. И ему захотелось покоя, уюта, оседлости…
– Но, впрочем, мы отвлеклись, – сделав жест рукой, обозначавший приглашение сесть, поэт добавил, понимая состояние друга и желая перевести разговор в другое русло, – ты хочешь послушать мои стихи?
– Безусловно. Мы же за этим к тебе пришли.
– Хорошо, слушай. Только договоримся, это не должно дойти до чужих ушей.
– О, ты можешь быть совершенно спокоен на этот счет, даю слово. Ну, а теперь я весь внимание. Начинай.
– Стихотворение обращено к древним римлянам.
– Понял. Так всегда поступали писатели и поэты, не желавшие себе неприятностей, но оно современно, ведь так?
– Делай выводы после.
Побледнев от волнения, Себастьян стал читать на утонченном греческом языке:
ДРЕВНИМ РИМЛЯНАМ
Помогите, не душите, дайте хоть вздохнуть! Где там, наступают всей шеренгой. Где им жалости учиться. Разве, люди, мы не проходили школу зверства вместо азбуки с пеленок? Помогите, не душите, дайте хоть вздохнуть! Где там, разве, люди, мы не от волчицы пили молоко? Разве кровь ее не поделили в чаше круговой, как издохнула волчица? Клятву дали этим люди перед будущем веков, что не осрамят свирепых чащ законы! Люди, люди, где же люди? Или выродились все вы, приняв вид лисиц, медведей, волков и рысей?
Некоторое время друзья молчали. Себастьян забеспокоился, бросил быстрый взгляд на друга. Тот, казалось, оцепенел. Глаза были прикрыты, лицо побледнело. Поэт не выдержал и нарушил молчание:
– Ну, как ты находишь эту безделицу?
Воин быстро пришел в себя и с жаром воскликнул:
– Хороша безделица, нечего сказать!
– Тс-тс-тс… – прижал палец к губам взволнованный приятель.
Из жилой части дома показалась миловидная высокая женщина в легком длинном хитоне. Она, не спеша, направлялась к юношам.
– Знакомься, – моя мама, а это – мой друг Катулл, о котором я тебе рассказываю почти каждый день.
Женщина улыбнулась, приветствуя юношу, и он – тоже.
– Ну, мне пора! – заспешил Катулл. Он был благодарен за тепло и внимание, оказанные ему. Они так необходимы сейчас. – Я хочу постараться попасть в число воинов, сопровождающих нашего патриарха.
– Случай исключительный, задерживать не смею. Что ж, желаю удачи. Давай иногда о себе знать. Да хранит тебя Бог!
– Обязательно буду писать. Оставайся с Богом!
И друзья крепко обнялись, скрывая слезы…
Находиться дома было невыносимо. Поцеловав мать, Себастьян с тяжелым сердцем покинул жилище и направился к Босфору по улицам, окаймленным колоннадами, украшенными древнегреческими скульптурами. Добрел до Круглого Форума. Взгляд привлекла исполинская порфировая колонна Константина, увенчанная статуей. Далее его путь лежал к Золотым воротам. Поэт с грустью смотрел на любимую столицу. В архитектуре города все гармонично и совершенно. «Но почему в душах некоторых людей нет никакой любви и гармонии? Господи, ну почему, почему, – сами собой шептали губы, – почему василевсы раскаленным железом ослепляют пленных, хвастаясь, что не грешат против заповеди «не убий!?» Он остановился, задохнувшись от боли. «И почему люди извечно распинают святость?» Стало грустно.
Где-то рядом раздалась рыбачья песнь. Она лилась к небу. Синее бездонное небо подхватило начало конца. Песня ширилась, ширилась, ширилась, охватила берега, реки, долины. Все могучее становились ее раскаты. Все нескончаемее красота и мощь. Симфония воды и неба. Звуки сливались в один аккорд.
А песня все звенела и рвалась к небу…
Себастьян возвращался домой. Собиралась гроза.
************
Путь изгнанника утомителен и труден. Далеко-далеко в Малую Армению, крошечный городишко Кукуз. Зной. Палит и сжигает солнце. А внутри – лихорадка. Кажется, тысячи раскаленных игл вонзаются в тело. Голову сдавливает, словно обручем. Сердце рвется на тысячи маленьких сердец. Боль нестерпима. Мысли, как в прибой, набегают одна на другую. От них никуда не деться…
Он никогда не жил для себя. Сначала, еще, будучи священником, сроднился с паствой в Антиохии. Внезапно перевели в Константинополь, избрали патриархом. А оттуда теперь вышвыривают, как щепку из обветшалого дома. Он привык к своим прихожанам. Народ и он – одно. Но вновь разлучают. Из столицы его изгоняют второй раз из-за проповеди, произнесенной им против устройства скачек в день Усекновения главы Иоанна Крестителя. Но повторись все сначала, и он поступил бы также…
Наконец-то отдых. Останавливаются повозки, конвой. Все прячутся в небольшую миртовую рощицу. Распрягают уставших лошадей, разводят костер, подогревают пищу. «Пить, пить. Ох, как хочется пить! Даже самая теплая вода кажется райским наслаждением».
Выйдя из повозки, сел на чахлую травку, облокотившись спиной о дерево, и закрыл глаза.
Воины отправились на поиски свежей воды. Вскоре была найдена живительная влага. И вновь в путь. Повозка сотрясалась от рытвин, камней, неровностей. А вокруг – потрескавшаяся земля и неотвязные мысли о прошлом.
Вдруг страдалец улыбнулся. Он вспомнил, как некогда простая женщина в храме на проповеди назвала его «Златые уста» и попросила говорить попроще. И почему-то на ум пришла юность. Как он в пятнадцать лет для обучения красноречию и греко-римской литературе поступил к Ливанию, у которого некогда учился сам Василий Великий. О, как любил его учитель!.. Потом занятия философией у Анрафия отточили наблюдательность, ясность ума и правильное понимание вещей. Но только когда стал адвокатом, увидел злость и неправду мира. И, если бы ни друг Василий, кто знает, что бы вышло из него? Это под его влиянием он бросил адвокатуру, светскую жизнь и решил посвятить себя Богу. Крестившись у епископа Мелетия, стал чтецом… И весь погрузился в изучение Священного Писания. А после смерти матушки пребывание в пустыне, монашество, возвращение в мир, посвящение в сан дьякона. Здесь он столкнулся с человеческими горем и нуждой, от которых рыдало сердце. И он распахнул себя навстречу людям…
************
Катулл разместился под сенью оливковых деревьев и с полчаса писал письмо Себастьяну. Он пошлет его со своим преданным родственником Флавием в далекий Константинополь. Писать было интересно, будто он разговаривал с другом. Строки сами собой ложились на пергаментный свиток: «…Наш святой отец очень страдает. Годы дают себя знать. Но он ведет себя мужественно, не жалуется и благодарит за все Бога. Помнишь, как он учил нас: «Случилось хорошее, благословляй Бога и хорошее останется. Случилось плохое, благословляй Бога и плохое прекратится».
Внезапно рядом прожужжал овод. Воин отвлекся, накрыл его ладонью, не поймал, улыбнулся и прошептал: «Ну что ж, живи!» И стал вновь продолжать начатое: «Я, кажется, тебе рассказывал, как мы познакомились. Отца грозили убить заимодавцы. Он брал деньги для поставки хлеба в армию, но его обокрали. Об этом узнал Божественный Иоанн. Он продал часть своего имущества и выручил несчастного. При этом не взял ни долговой расписки, ни долга. Это было еще в Антиохии. Он спас отца. И разве его одного? Сердце бы свое вынул из груди, чтобы облегчить его страдания…
А ведь виновница всего – Евдоксия, императрица. Она придерживается мнения старого эпикурейского поэта: «Жизнь человеческая – это пир. Я его оставлю, когда буду сыт». И так живет не одна она, а многие сановники и духовенство. И скоро ты с этим столкнешься сам. Поэтому наш аскет, болеющий за обездоленных, для них точно укор несуществующей совести, бельмо в глазу, мешающее видеть наслаждения и избытки. Ведь святитель, как человек праведной жизни, обличает их без боязни. Он сам говорит, что боится только Бога. Но не волнуйся. У Иоанна много врагов, но и много друзей, которые любят его больше жизни. По возможности буду писать тебе чаще».
Глаза у сурового воина затуманились. Разве все перескажешь в письме? На одном из привалов изгнанник кротко попросил воды.
– Ты желаешь попить? Я так понял тебя? – недружелюбно спросил один, из конвоиров. – Но ты выпил уже целую бочку. Куда тебе столько? На всю жизнь хочешь запастись? Так, да? Посмотри на себя – ты раздулся. У тебя внутри лягушки скоро квакать будут. Поверь мне, любя тебя, не даю воды, – лукаво улыбался он, злобно блестя птичьими глазками.
– Терпи до дождя. Тогда и напьешься, а то нам ничего не оставишь, – прокудахтал другой отщепенец, – ха-ха-ха! Пить ему захотелось! – смеясь, он достал флягу с водой и стал расплескивать ее перед праведником, делая вид, что умывается.
Изменившись в лице и держа в руках флягу, Катулл приблизился к святителю и предложил, прерывающимся от волнения голосом:
– Владыко, пейте!
– Спасибо за заботу, сын мой, – Иоанн просветлел, – но что ты так бледен? – участливо спросил он юношу.
– О, трудно видеть все это. Я часто спрашиваю себя: «Не сон ли мне снится?» – он запнулся. Потом вновь продолжил изливать свое сердце. – Тяжело и больно смотреть на то, как издеваются над Вами… – и дальше добавил уже шепотом, – я горю желанием по-настоящему проучить всех, кто истязает Вас…
Действительно, вид у иерарха изменился: стал изнуренным, похудевшим, уставшим. Выгоревшая одежда обвисла, лицо, обтянутое кожей, почернело. Глаза ввалились в глазницы. Но, как всегда, они были добрыми, ласковыми, в них светились чистота и спокойствие.
Дружелюбно положив руку на плечо молодого человека, святой воскликнул:
– Благородный мальчик мой! Сын Божий и Апостолы принесли людям истину среди мучений. Так что такое наши жалкие страдания?
– Не знаю, владыко. Но для меня это тяжелое испытание, – произнес он потупившись.
Чутко уловив неподдельную грусть в его голосе, Златоуст добавил:
– Дорогой. Все скорби, которые я терплю – это мое сокровище. Видишь, какой я богатый? – и, мягко улыбнувшись, он широко развел руками.
«Господь наделил невероятной стойкостью и силой такое тщедушное тело!» – мысленно восхитился молодой воин.
Три года спустя. Вечер. Почти ничего не видно в сумерках. Катулл старательно водит пером по пергаменту: «Дорогой друг! Пользуясь редким моментом, спешу сообщить тебе наши новости, пока нет соглядатая. Мы неплохо устроились. Больной пастырь прилагает большие труды по распространению Православия на Востоке и очищению его от еретиков. Ты же знаешь его апостольскую ревность и горение духа!
Уже умерли его главные враги, в том числе императрица, но и оставшиеся успокоиться не могут. Они боятся, что император, в глубине души уважавший святителя, передумает, вернет назад. Каждый из них нашептывает слабовольному Аркадию о негодности и зловредности Иоанна Златоуста. И вновь умоляют перевести в еще более далекую провинцию, опасаясь мнимой расплаты со стороны опального патриарха при возвращении в столицу. Император не понимает, что Бог покарал его супругу за гонения праведника. И позволяет холить и выращивать, словно пышный цветок – злость к святителю, которую старательно сеют неверные люди…
Эти сведения мне передали друзья, предупредив, что я не смогу сопровождать святого в изгнание далее. Что же с ним будет? Представляешь мое отчаяние?..» Ночь, внезапно нависшая над землей, поглотила написанные строки…
Травля продолжалась. Изгнанник вновь в пути. Три месяца по солнцепеку. На голове уже нет волос, и она ничем не защищена от солнечных ядовитых лучей. Иногда приходилось ехать под проливным дождем. Тогда с его одежд стекали целые потоки… Почти не разрешалось останавливаться и для отдыха. А ведь ему уже шестьдесят… Был получен тайный приказ относиться к нему без пощады и сожаления. Но ни слова гнева или ропота не вырвалось из уст святого страдальца. Одна молитва. Он отошел в вечность в дороге со словами: «Слава Богу за все!».22
Через девять месяцев скончался и жестокий император…
************
Минуло тридцать лет. На Константинопольский трон взошел сын Аркадия – император Феодосий II. Патриархом стал Прокл – любимый ученик Златоуста.
В столице конец лета. Тишь, благодать. Слабо покачивают листьями ветки платана, будто благодарят Создателя за счастье жизни. Тихо-тихо шелестит звуками улица. Утренний зной. Рябь листьев на деревьях напоминает море в безветрии, где иногда колышутся шаловливые маленькие волны. «Раскинуться бы на берегу и лежать, ни о чем не думая… Вот радость-то, вот наслаждение…» Воздух, точно парной. Ходят почти неживые, сваренные жарой люди, лениво шумят разбуженные ослы, мулы. Жизнь то приостановится, то вздрогнет и снова в путь, вновь за свою работу. «Надо спешить в храм. Сегодня день памяти любимого патриарха Константинопольского Иоанна Златоуста, " – думает Себастьян.