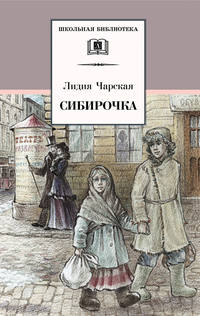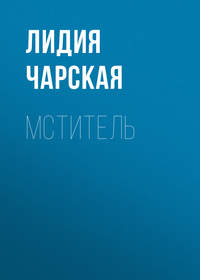Полная версия
За что? Моя повесть о самой себе
– Ну, храни тебя Бог, крошка моя! – произнес он, наконец, поборов себя, осторожно опустил меня на диван и бросился вон из комнаты.
Я услышала, как он застонал по дороге.
– Папа! Папа! Папочка! Солнышко мое! Вернись! – зарыдала я, протягивая вслед ему ручонки.
Он быстро на меня оглянулся и потом с живостью мальчика бросился снова к дивану, упал перед ним на колени, охватил мою голову дрожащими руками и впился в мои губы долгим, долгим поцелуем.
Потом снова закачался высокий белый султан на его каске, и… сердце мое наполнила пустота… Ужасная пустота…
Тетя Лиза подхватила меня на руки и подбежала к окошку… Коляска отъезжала от крыльца. Солнышко сидел подле другого военного и смотрел в окно, на нас. У него было грустное-грустное лицо. Он долго крестил воздух в мою сторону. И когда коляска тронулась, все крестил и кивал мне головой… Еще минута… другая, и Солнышко скрылся из моих глаз. Наступила темнота, такая темнота, точно ночью.
Чей-то голос зашептал близко-близко у моего уха:
– Если б ты захотела молиться, девочка, – кто знает? – может быть, папа остался бы с тобой.
– Тетя Лиза! – закричала я отчаянно. – Неси меня в столовую сейчас, скорее: я хочу молиться за него, за папу!
Через минуту мы были уже там. В открытое окно запах шиповника льется прежней ароматной волной. Худенькая нервная девочка стоит подле голубоглазой женщины перед образом на коленях и шепчет тихо, чуть слышно:
– Боженька! Добрый Боженька, прости меня и со храни мне мое Солнышко, добрый, ласковый Боженька…
И тихо, тихо плачет…
* * *Детская молитва была услышана.
Когда он вернулся через год, черный от загара, осунувшийся, похудевший, но все такой же красивый, я не узнала его.
Я отлично помню этот день. Тетя была в саду. Дверь с террасы на подъезд была широко раскрыта. Я сижу на террасе, а Дуня режет мне баранью кот летку, поданную на завтрак. В дверь террасы видны зеленые акации и дубовая аллея парка. И вдруг неожиданно, как в сказке, вырастает его фигура. Высокий, загорелый, в старой запыленной шинели, стоит он в проеме дверей, заслоняя и синий клочок неба, сияющий мне сапфиром за дверью, и зелень акации, и крыльцо. Он смотрит на меня с минуту… и странная улыбка играет на его лице, сплошь обросшем бородой.
– Лидюша! – зовет меня тихонько знакомый голос.
Я узнаю голос, но не узнаю черного бородатого лица.
– Батюшки мои! Да это барин! – вскрикивает Дуня и роняет тарелку. – Лидюша! Лидюша! Да ведь это папочка! – шумливо суетится она.
И только тут я понимаю, в чем дело.
– Папа… папа Алеша! Солнышко! – и вмиг я уже в его объятиях.
– Сокровище мое! Крошка моя! Радость моя, Лидюша! – слышу я нежный голос над моим ухом.
И град поцелуев сыплется на меня.
Боже мой, если когда-либо я была безумно счастлива в детстве, так это было в тот день, в те минуты.
Блаженные минуты свидания с милым, дорогим отцом, я не забуду вас никогда!

Часть вторая

Глава I. Моя пытка. – Тетя Оля. – Новость далеко не приятного свойства
Май в самом разгаре. Солнце жарит вовсю. Небо такое же голубое, как голубой кушак на моем новом платье. Ах, какое красивое небо! Век бы смотрела на него!
Мой стол стоит у самого окошка, у того самого окошка, через которое четыре года тому назад я смотрела на драку коршунов в воздушном пространстве и не хотела молиться. Но теперь я молюсь. Хороший урок дала мне судьба, на всю жизнь, и я часто думаю, что, захоти я тогда молиться, Бог не разгневался бы на меня, и папу Алешу не взяли бы на войну. Правда, Солнышко вернулся здоровым – не то что папа Лели Скоробогач, моей ближайшей подруги, которому контузило ногу, и он ходит теперь, опираясь на палку. И все-таки лучше, если бы не было войны и папа Алеша оставался бы дома.
Да, молиться я теперь умею. Но зато какая пытка – ученье! И к чему мне, восьмилетней девочке, знать, сколько было колен царства Израильского[6] и что такое причастие и деепричастие в русском языке?
Тетя Лиза ушла, выбившись со мной из сил, а я сижу над раскрытой книжкой и мечтаю. Сегодня приедет тетя Оля из города и привезет мне новое платье. Она всегда сама обшивает меня, никогда не позволяет отдавать мои костюмы портнихам. И новое платье она сшила сама. Только кушак купила мне тетя Лиза, голубой, как небо. Очень красивый кушак! Надену этот кушак, новое платье, и меня повезут к Весмандам на рождение. Там гостит рыжая Лили, и Вова приехал из Петербурга, из пажеского корпуса. Я его мельком видела вчера. Такой потешный в мундирчике!
Ах, скорее бы тетя Оля приезжала!.. Тогда Лиза, наверное, позволит мне бросить уроки. И я побегу тогда на гиганки[7]. Приедут Леля, Гриша, Коля, а может быть, и Анюта? Ах, только бы не она!.. Придется домой идти. Тетя Лиза не позволяет играть с Анютой. Она отчаянная. И Коля Черский будет. Я его очень люблю. Он никогда не ссорится со мной и умеет все объяснить: и какая травка, и какие букашки, и как паук называется. Он умный. Первым учеником идет в гимназии. А ему ведь только четырнадцать лет! Ах, скорее бы тетя приезжала! Вон Петр (это наш денщик) побежал дверь открывать.
– Что, Петр, тетя Оля приехала?
– Нет, барышня, мужик принес орехи продавать.
Орехи? Недурно! Совсем даже недурно!
Ах, скорее бы выучить! И что это за неблагодарные люди были! Сколько им Моисей сделал добра, ничего знать не хотят, ропщут – и только! И зачем только учить про них надо? То ли дело история Исаака. Я даже заплакала на том месте, где его Авраам в жертву принести хотел. Потом успокоилась, узнав, что все кончилось благополучно.
– Ты выучила урок, Лидюша? – внезапно появляясь на пороге, спрашивает тетя Лиза.
– Ты что это ешь, тетя Лиза? – заинтересовываюсь я, видя, что рот тети движется, пережевывая что-то.
– Отвечай урок. Нечего болтать попусту, – желая казаться строгой, говорит тетя.
Я надуваю губы и молчу.
– Закон Божий выучила?
Молчу.
– A русский?
Молчу снова.
– Ну, мы это вечером пройдем, а теперь пиши диктовку.
– В такую жару? Диктовку? Те-тя Ли-за-а! – тяну я жалобно.
Но тетя неумолима.
Я беру перо, которое становится разом мокрым в моих потных руках, и вывожу какие-то каракульки.
– Что ты написала?! – выходит из себя тетя. – Надо «труба», а ты пишешь «шуба»…
– Все равно – «труба» или «шуба»! – хладнокровно замечаю я.
– А такую длинную палку у «р» зачем ты сделала, а?
– С размаху! – отвечаю я равнодушно.
– Нет, ты будешь целую страницу лишнюю писать! – возмущается тетя. – Пиши!
Но я бросаю перо и начинаю хныкать. В одну минуту лицо тети Лизы проясняется. Суровое выражение исчезает с него.
– Девочка моя, о чем ты? – наклоняется она ко мне с тревогой.
Но я уже не хнычу, а реву вовсю.
Какая я несчастная! Какая несчастная, право! И никто не хочет понять, до чего я несчастная! В жару, в духоту – и вот изволь учить про каких-то неблагодарных людей, которые мучили бедненького Моисея! Нет, буду плакать! Нарочно буду! Чтобы голова разболелась, чтобы я вся расхворалась!
А потом умру. Да, умру, вот назло вам всем умру, в отместку. Придет священник, будет панихиду служить. Выроют ямку у церкви и положат туда Лидюшу. Закопают… Где Лидюша? Нет Лидюши!.. И всем будет жаль меня, жаль…
И я уже рыдаю, отлично зная, что Солнышко на работах (отец управляет ходом казенных построек), а тети мне нечего стесняться. Я ложусь головой на классный столик и повторяю только одно слово: «Умру, умру, умру!»
Теперь я уже не над тем плачу, что надо заниматься, а мне просто жаль себя.
Умереть в такой ранней юности! Ведь и девяти лет нет еще! О, ужас, ужас!..
Тетя мечется вокруг меня со стаканом воды, с валериановыми каплями, одеколоном. Но я нимало не обращаю внимания на нее, а реву, реву, реву…
За собственными стонами и всхлипываниями я не слышу, как подкатывает к крыльцу пролетка, как звонок продолжительно дребезжит в прихожей, и я прихожу в себя только тогда, когда вижу на пороге высокую, статную фигуру тети Оли с многочисленными узелками, пакетиками и картонками, которые она держит в руках. Тетя Лиза говорит постоянно: «Когда Оля умрет, за ее гробом все провожающие пойдут с узелками в руках». И все смеются, а сама тетя Оля смеется громче и добродушнее всех.
Не могу себе представить более доброго человека! Она вся соткана из доброты, моя вторая воспитательница и крестная мать. Ни на кого она никогда не рассердится, голоса не повысит, и постоянно хлопочет, и работает для других. Исполнить ли какое-нибудь трудное поручение, сшить ли к спеху кому-либо из сестер белье, одеть моих кукол, ухаживать дни и ночи за часто болеющей старшей сестрой Юлией, – она тут как тут, милая, добрая, самоотверженная тетя Оля! Я ее помню всегда спешащей куда-то с узелком, непременно с узелком, сосредоточенную, запыхавшуюся и милую, милую без конца, или приютившуюся с иголкой в руке в нашей столовой над длинной и скучной работой, так как она обшивала не только меня, но и тетю Лизу, и других сестер.
Кроме слабости делать добро близким и чужим, у тети Оли есть еще одна большая слабость: крестница Лидюша. И сейчас, войдя к нам, она сразу как-то потемнела лицом при виде слез своей любимицы.
– Вот неугодно ли, полюбуйся, Оля, – раздраженно говорит тетя Лиза, которая, видя, что ничто не может унять мои слезы, сердится снова, – полюбуйся, как отличается твоя любимица! Ни Закона не выучила, ни басни, ничего! А теперь плачет – унять не могу.
– Ай-ай-ай! Нехорошо, девочка! – говорит тетя Оля. – Ведь если так продолжаться будет, то папа и прав, пожалуй, что мы тебя воспитывать не умеем…
– Кто справится с такой капризницей?! – сердитым голосом говорит тетя Лиза.
– Ну, даст Бог, исправится наша Лидюша, – примиряющим тоном замечает моя крестная и ласково приглаживает мои кудряшки. – Вот приедет гувернантка и…
– Гувернантка? Какая гувернантка? – испуганно спрашиваю я, забыв про слезы. – Что ты сказала, тетя? Повтори, что ты сказала, про какую гувернантку ты сказала?! – задыхаясь от волнения, тормошу я тетю.
– Ну, чего ты волнуешься? Успокойся, пожалуйста, – говорит тетя Лиза. – Я давно хотела сказать тебе, что… что папа пригласил тебе гувернантку… Он находит, что наши занятия идут не так, как он хотел бы.
И горькая улыбка кривит губы моей второй матери. Я понимаю, что значит эта улыбка. Давно уже я замечаю, что что-то неладное творится у нас в доме. Папа как-то переменился к тете. Часто он говорит ей колкости, и она отвечает ему тем же. А иногда я слышу, как они ссорятся, и тогда голоса их звучат раздраженно и громко по всему дому. Я не помню, как это началось и когда. Но теперь, пожалуй, не проходит ни одного дня, чтобы они крупно не поговорили.
И, Господи, до чего же я страдаю в такие минуты!
Я люблю их обоих, ужасно люблю. Солнышко значительно больше, конечно, но и тетю Лизу люблю, как родную мать. И поэтому, когда я слышу, что двое любимых мной людей ссорятся из-за чего-то, я невыносимо страдаю. Теперь уже они не называют друг друга «Алешей» и «Лизой», нет, только «Алексей Александрович» и «Елизавета Дмитриевна»… Ах, как все это звучит печально и уныло!
Однажды, проходя мимо террасы, я услышала, как папа сказал:
– Нет, вы не умеете воспитывать Лидюшу! Никаких педагогических способностей, решительно никаких!
И дрожащий голос тети Лизы ответил:
– Но ведь все это скоро кончится, ведь вы, Алексей Александрович, нашли ей подходящую воспитательницу. Остается уже недолго потерпеть…
И в голосе тети Лизы послышались слезы.
Тогда я не поняла, о какой воспитательнице они говорили, но теперь… теперь… Я понимаю, что значит «новая воспитательница»!
«Они хотят мне дать гувернантку! Ага! Отлично! – вихрем проносится у меня в голове. – Гувернантка! Великолепно! Чудо, как хорошо! Задам же я ей перцу, этой гувернантке! Пусть только она появится в нашем доме!»
И взволнованная, как никогда, я вскакиваю со своего места и стрелой несусь в сад, оттуда вдоль пруда – прямо в рощу, в ту самую рощу, где впервые когда-то прекрасный принц увидел маленькую принцессу…
Глава II. Мои «рыцари». – «Маленькая ведьма». – В гостях у лягушек
– Нет, слышали вы эту новость? У меня будет гувернантка!
Красная от волнения и бега, растрепанная девочка обводит разгоревшимися глазами круг своих друзей.
Их пятеро под широкой, развесистой елью на опушке рощи: Леля Скоробогач – смугленькая, толстенькая брюнетка с иссиня-черными косичками и щелочками глаз; ее брат Гриша – краснощекий, курносый мальчик лет девяти с ясным, смеющимся взглядом; семилетний Копа – темноглазый мальчик с носиком пуговкой и бритой головенкой, круглой, как шар. Тут же и Коля Черский, рослый, тоненький гимназист четырнадцати лет, мало изменившийся с тех пор, как он спас меня от танцующих пар в зале Павловского вокзала, только лицо его стало еще серьезнее, а глаза – темнее и глубже.
Наконец, тут и Вова. За эти четыре года он порядочно изменился: плотный, широкоплечий, с тем же веселым, насмешливым и жизнерадостным взглядом, с теми же румяными, дерзко усмехающимися губками, он чудо как хорош собой. На нем коломянковая[8] рубашка с погонами, на которых стоят начальные буквы названия пажеского корпуса, и высокие, совсем мужские сапоги. Вова заметно важничает и своими высокими сапогами, и тем, что этой весной его приняли в пажи.
Коля в своей скромной гимназической блузе совсем теряется подле великолепного пажика.
Это мои «рыцари», особенно Коля. С того памятного утра, когда Солнышко на детском празднике пригласил его к нам, он поступил в мои «рыцари», как уверяет Вова. Все свободное от занятий время Коля проводил у нас. Тетя была очень рада этому. У Коли был дядя – бедный чиновник, который пил и буянил. По крайней мере, мы часто слышали его грозные крики, несущиеся из флигелька, где они жили в комнате у музыканта-стрелка. Колю все любили: он был всегда скромен, тих и серьезен. И потом, он так хорошо умел рассказывать, что его заслушаться можно было. Второй мой «рыцарь» – это Гриша. Веселый, шаловливый мальчуган, он был предан мне, как собачка. Он так и смотрел мне в глаза, предупреждая каждое мое желание. Это не то что Вова. Этот «рыцарем» не желал быть ни за что! «Вот еще! Прислуживать девчонке», – повторял он часто, презрительно выпячивая нижнюю губу.
Но когда мы с Лелей возили на прогулку кукол (что я не особенно любила, потому что признавала только одну игру: когда куклы изображали разбойников и дрались друг с другом!), Вова с особенным удовольствием брал на себя роль кучера и о «прислуживании девчонкам» не упоминал… Копа и Леля дополняли свиту маленькой принцессы.
Все мои «рыцари» поджидали меня, когда я, окончив урок, прибегу к ним на поляну.
– Гувернантка? Какая гувернантка? – так и встрепенулись они, устремив загоревшиеся любопытством глаза на мое красное, взволнованное лицо.
– А вот какая! Нос у нее длинный-предлинный, как у ведьмы. Рот такой, что всю нашу дачу проглотить может, зубы из него, как вилы, торчат, и она щелкает ими, как кастаньетами, а глаза у нее как у рыжей Лильки, когда та злится…
Последнее относилось к Вове. Рыжая Лиля была его кузиной, воспитывалась в институте и теперь приезжала на каникулы к Весмандам. Вове она ужасно нравилась, и потому он ходил за ней по пятам, живо перенял ее манеру говорить всегда по-французски, умышленно картавя на «р» и «л», и утверждал, что Лили – самая хорошенькая девочка в мире. Этого я уже никак перенести не могла, потому что считала себя гораздо красивее Лили и не забывала при каждом удобном случае пройтись на ее счет в присутствии Вовы.
Последнюю фразу я проговорила с особенным торжеством, Вове назло.
Вова вскипел.
– Неправда, Лили красивая! – горячо защищает он кузину. – И глаза у нее синие, выпуклые, замечательные, а твоих и не видно, ушли куда-то… Ищи их, как в лесу…
– Ну, уж, Вовка, это ты врешь! – заспорил Гриша. – У Лиды глазки чудные, и сама она прехорошенькая. Твоя рыжая Лилька ей в подметки не годится!
– Ты дурак и клоп. Смеешь еще разговаривать! – сердится Вова. – Вот постой, я тебя вздую!
Мне ужасно хотелось, чтобы они подрались. Ведь благородные рыцари всегда дрались на турнирах из-за своих принцесс. Впрочем, и сама принцесса готова была превратиться в рыцаря и подраться с этим негодным Вовкой!
– Ах, зачем я не мальчик! – самым искренним образом сожалела я в такие минуты.
Но на этот раз ссора была улажена. Есть более важный вопрос, который очень интересует моих «рыцарей», а именно: моя будущая гувернантка – страшная, сморщенная, как сморчок, точь-в-точь такая, какая была у рыжей Лили два года тому назад!..
– Я ее буду ненавидеть! – пылко и звонко выкрикивает Гриша.
– И я, и я тоже! – вторит ему сестра Леля.
– А я ее убью! – неожиданно выпаливает Копа.
– Из палки убьешь? – хохочет Вова и тотчас же добавляет, лукаво сощурив глаза: – А собственно, недурная идея пригласить к Лиде гувернантку… Она ее отшлифует.
– Что такое?
Вот так слово! Мы его слышим в первый раз. Леля даже рот раскрыла от удивления, и сама я преисполняюсь невольным уважением к Вовке, знающему такие великолепные, непонятные слова. Я даже обидеться не решаюсь, не зная наверное, хотел ли меня задеть своим словом Вова или нет.
– А по-моему, Лиде шлифовка не нужна! – звучит тихий, глубокий голос Коли Черского. – Она так лучше, как она есть, такая непосредственная.
Еще одно новое слово! И такое же непонятное… Нет, решительно они поумнели за лето, эти мальчишки! Меня одолевает самое жгучее любопытство, и так и подмывает спросить, что значат эти мудреные слова: «отшлифовать», «шлифовка», «непосредственная»… Но мне, принцессе, не следует выглядеть глупее своих «рыцарей». Нет, ни за что!
Минуту длится молчание. Наконец, Вова восклицает:
– И чего вы все носы повесили?.. Подумаешь, гувернантка, важность какая! Неужели ты, Лида, так глупа, что не сумеешь справиться с ней? Ты тогда не мальчик больше, а нюня, баба, девчонка…
Это уже дерзость и оскорбление. Моя всегдашняя мечта – быть настоящим мальчишкой, как Вова и Гриша. Я даже чуточку негодую на Колю за его «тихоньство»…
Я подскакиваю к Вове и… Бац! И маленький пажик, не ожидавший нападения, летит в траву, фуражка падает с его головы и откатывается далеко-далеко в сторону. Вова сконфужен.
– Ха-ха-ха-ха! Ловко! Так его! Ай да барышня воспитанная! Очень хорошо! – слышится где-то над нами веселый голос.
Мы с недоумением задираем кверху головы, так как голос идет откуда-то из ветвей развесистой ивы, склонившейся над самым берегом пруда.
Но в зелени никого и ничего не видно.
– Кто это? – недоумевая и переглядываясь, спрашиваем мы друг друга, сбившись в кучу, как маленькое стадо испуганных баранов.
– Это русалка! – прошептал в страхе Копа и спрятался за спину сестры.
– Русалок не бывает! – авторитетно заявил Гриша. – Какой ты глупый, Копа! Удивительно…
В просвет между ветвей выглянуло веснушчатое, загорелое и круглое, как яблоко, лицо девочки с зелеными, светлыми, даже слишком светлыми глазами, все окруженное зеленью ивы, как рамой.
– Анютка! – вскрикнули мы все хором.
Да, это была Анютка, отчаяннейшее существо, бич семьи Скоробогач, отъявленная проказница и шалунья. Ее считали не совсем нормальной, и нам, детям, было строго-настрого запрещено играть с ней. И мы тщательно избегали Анютки, хотя жгучее любопытство всегда влекло нас к ней, особенно меня, живую, впечатлительную девочку, вечно ищущую новых ощущений. Я знала, что Анютку нещадно наказывают за каждую провинность, но что она нимало не огорчается этим.
Ее иначе не называли, как «маленькой ведьмой». Ей было двенадцать лет, но казалась она крошечной, как восьмилетняя девчушка.
Едва ее загорелое веснушчатое лицо выглянуло из зелени ивы, как целый град мелких камешков полетел в нее: Копа и Гриша «бомбардировали» сестру. Вова не отставал от них. Анютка злилась. Она то высовывала нам язык, то корчила гримасы.
– Анюта, Анюта!.. И не стыдно тебе! – пробовал уговорить ее Коля. Но едва он раскрыл рот, как комок мягкой глины, в изобилии покрывавшей берег пруда, звонко шлепнулся ему в щеку.
– Безобразие какое! – воскликнули мы все трое, а Коля, весь красный от обиды, стал тщательно вытирать лицо носовым платком.
– Вот тебе! Вот тебе! Ишь ты, умник какой выискался. Учитель будущий! Что, ловко тебе влетело?! – кривляясь на своем суку, кричала Анютка.
В ответ разозленные мальчишки запустили в нее целый град камешков. Она метнулась было в сторону, причем личико ее приняло осмысленное выражение испуга. Потом она снова расхохоталась и показала нам язык.
– Анюта! Перестань дурачиться, слезай с ивы, сук может отломиться, и ты упадешь в пруд! – кричала Леля.
Та в ответ показала сестре кулак.
– Не хочешь! – грозно и значительно произнес Копа. – Вот погоди, тогда я сейчас домой побегу… и… папе пожалуюсь… и выдерут же тебя, Анютка!
– Ах, не надо! – вырвалось у меня невольно.
Одно только упоминание о наказании, о побоях приводило меня в какой-то непонятный ужас. Мне казался до того противным и позорным самый акт наказания, до того неестественно грубым, что при одном только упоминании о том, что какого-то ребенка наказывают, дерут, я бледнела, начинала дрожать и была близка к нервному припадку. Моя пылкая, впечатлительная натура и моя свободная, как птичка, душа были чужды мрачных образов насилия.
– Не надо жаловаться, Гриша, я сама попробую убедить ее сойти вниз! – ласково проговорила я и ловко и проворно, как кошка, вспрыгнула на первый сук, оттуда на следующий, потом еще и еще выше и, наконец, вскоре уже стояла перед Анюткой, тесно окруженная густой листвой огромной ивы.
– Пойдем! – я схватила ее за руку. – Пойдем вниз! Я даю тебе честное слово, что тебя никто пальцем не тронет, я защищу тебя!
– Не очень-то я нуждаюсь в твоей защите! – дерзко ответила Анютка. – Поди прочь от меня подобру-поздорову, пока…
– Что пока? – спросила я строго, глядя прямо в ее светлые злые глаза.
– А вот что пока! – захохотала она, и, прежде чем я догадалась, что она хочет сделать, Анютка толкнула меня в грудь, огромный сук выскользнул у меня из-под ног, и, больно ударяясь о встречные сучья ивы, я, перекувыркнувшись несколько раз в воздухе, тяжело рухнула в пруд.
Первое ощущение холодной воды как-то отрезвило меня. Я услышала звонкие крики моей «свиты», повисшие над прудом, чей-то плач – и больше уже не понимала ничего.
Что-то холодное, вонючее, скользкое вливалось мне в нос, в рот и в уши, мешая крикнуть, мешая дышать… Мне казалось, что я умру сейчас, сию минуту…
Пришла я в себя на руках тети Оли. Надо мной склонилось насмерть перепуганное лицо тети Лизы. Что-то горячее жгло под ложечкой и у висков (потом я поняла, что это горчичники, щедро расставленные тетями по всему моему телу).
– Деточка! Слава Богу, очнулась, моя дорогая! Спасибо Коле… вытащил тебя из пруда и сюда принес, и рассказал все… про Анютку… Хорошо же ей достанется сейчас! Сама пойду жаловаться ее отцу. Экая дрянная девчонка! – и на добром, милом лице моей крестной отразились и негодование, и гнев, так не свойственные ее мягкому характеру.
Точно что ударило мне в голову: «На Анютку жаловаться! Ее же накажут! И надо было Коле сплетничать! Велика важность: в пруду выкупалась. Невидаль какая! Ведь не зимой же – летом!»
– Ну, уж это неправда, Коля соврал! – воскликнула я пылко. – Анюта здесь ни при чем! Я полезла на иву, сук подломился, и я рухнула в пруд.
– Лида! – услышала я тихий, но внушительный оклик.
– Ага, он здесь! Несносный доносчик!
И, повернувшись в сторону взволнованного, бледного Коли, с платья которого струилась на пол вода, я проворчала сердито:
– Нечего глупости болтать. Сама упала в пруд, и баста. А если… если… вы… кто-нибудь на Анютку… пожалуетесь… то я… я…
И, не договорив, я забилась в рыданиях на руках у тети.
Мне тотчас же было дано слово, что Анютку оставят в покое.
На другое утро, когда я, совсем уже оправившись от моего невольного купания, как ни в чем не бывало бегала по саду, ко мне подошел Коля.
– Ты меня выставила вчера лгуном, – проговорил он серьезно, исподлобья глянув мне в глаза.
– Зато Анютка спасена, – рассмеялась я весело.
– Не только спасена, но еще и успела сделать мне гадость…
– А что такое? – спросила я встревоженно.
– Она побежала к моему дяде и пожаловалась на меня, что я ее хотел толкнуть в воду, и дядя наказал меня.
– Как? – вся замирая от ужаса, прерывающимся голосом спросила я.
Коля молчал.
– Как? – уже настойчиво повторила я, и в моем голосе зазвучали властные нотки. Я всегда так говорила с моими «рыцарями».