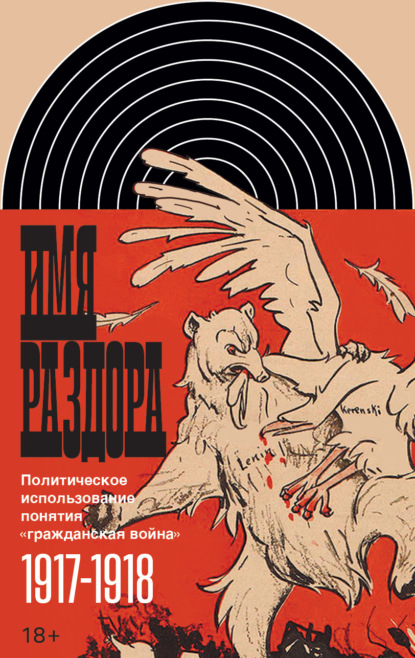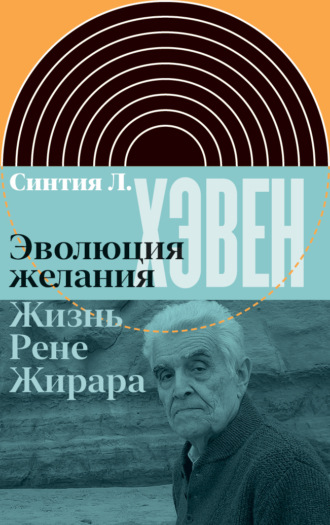
Полная версия
Эволюция желания. Жизнь Рене Жирара
Жирар нечасто говорил о своей жизни, если я не приставала к нему с расспросами, зато его город мог поведать мне свою историю. Город оказался разговорчивым и красноречивым – и захочешь, не заткнешь.
Жирар разъяснил мне, что бурная и яростная Рона, огибающая город, делит Францию на зоны влияния: к западу от Роны – испанская, к востоку – итальянская. Восток пошел с козырей, предрешив судьбу Авиньона в Средние века. Авиньон и Рим. Около сотни лет соперничество этих двух сил, сцепившихся в поединке, раздирало Европу надвое, раскалывая Церковь и государство, власть духовную и власть светскую. То, что здесь родился человек, разработавший теорию мимесиса, соперничества и конфликта, – не просто игра случая.
В описываемые времена непостижимая шахматная партия была в полном разгаре. Папский престол – нечто единственное в своем роде, соблазнительный трофей. Кто завладеет им? И кто из земных монархов подчинит своему влиянию самодержца, чья власть не от мира сего? Беспрерывные конфликты, коррупция и свары в средневековой Церкви и между государствами, имевшими с ней дело, превратили Вечный город в негостеприимное и даже опасное место для римских пап: там лучше было даже не снимать вьюки с лошадей. Потому-то в 1309 году папа Климент V и выбрал Авиньон, на тот момент входивший в состав Арльского королевства.
Его решение не было беспрецедентным. В Средневековье папы и раньше сбегали из Рима. Но Климент V повысил ставки в игре – отказался покидать Францию после того, как в 1305 году в Лионе его провозгласили папой.
Спустя несколько лет он обосновался в Авиньоне, к тому времени успевшем побывать под оккупацией у римлян, сарацин, франков, бургундцев, остготов и мавров. В тот момент Авиньон был довольно тихим и захолустным городком, но в захолустье часто происходят интересные события.
Данте заклеймил Климента V: «…вслед, всех в скверне обогнав, / Придет с заката пастырь без закона…»10. За Климентом последовала целая череда пап-французов, причем их друзей и родичей делали кардиналами, что становилось дополнительной помехой для всех попыток вернуть папский престол в Италию. Иоанн XXII, преемник Климента, продолжил строительство в Авиньоне, превратив его в один из самых могущественных и хорошо укрепленных городов Европы. Мы можем счесть, что пребывание пап в Авиньоне – лишь мелкая подробность истории, но такой подход будет означать лишь, что взгляд из нашей эпохи необъективен. В ту эру расцвели два из величайших гениев позднего Средневековья. Начало работы Данте над «Божественной комедией» примерно совпало с началом авиньонского папства – потрясений, которые, возможно, стали одним из мотивов создания дантовского шедевра. Поскольку действие «Commedia» начинается в 1300 году – за пять лет до того, как Климент V стал папой, – легко запамятовать, что, когда Данте переживал свой творческий расцвет, центр католической церкви был не в Италии, а во Франции.
Тем временем, на заре «вавилонского пленения пап», семейство Петрарка последовало за папой Климентом V в Авиньон, покинув Инчизу, городок в окрестностях Флоренции: отец Франческо Петрарки близко дружил с Данте и, подобно ему, был изгнан из Флоренции. В Авиньоне Петрарка повстречал Лауру, свою возлюбленную: она родилась в этом городе в 1327 году. Встретились они в Великую Пятницу, а умерла она тоже в Великую Пятницу, спустя ровно двадцать один год с того часа, когда Петрарка увидел ее впервые. Не будь на свете авиньонки Лауры, у нас не было бы и «Канцоньере» Петрарки. Чтобы убедить папу вернуться в Рим, потребовалось вмешательство святой – а именно Екатерины Сиенской, – но за этим переездом последовали годы Великого западного раскола, когда папы из Рима и антипапы из Авиньона боролись за главенство. Европу обескровила необходимость кормить две папские резиденции и два административных органа Святого Престола. К тому времени захолустье превратилось в изысканный город, стремившийся затмить Рим. Появились Папский дворец, Малый дворец, церковь Святого Дидье и кольцо белых крепостных стен.
Отец наверняка рассказывал Рене Жирару об этом, ведь их семья неразрывно срослась с историей Авиньона. А сын, Рене, вернулся в ту эпоху и местность, когда в Национальной школе хартий засел за дипломную работу о второй половине XV века, начав с момента, когда Великий западный раскол закончился; его выбор определенно подчеркивает, как глубоко въелась эта история в его сознание.
* * *Рене Ноэль Теофиль Жирар родился вечером на Рождество в 1923 году в комнате, за которой «присматривала» картина в темно-медовых тонах с изображением полудюжины коз. Та самая картина впоследствии висела в гостиной семьи Жирар в Пало-Альто: пасторальная идиллия XIX века на стандартную тему – пастух объясняется в любви пастушке, поодаль другие молодые люди заняты крестьянским трудом среди резвящихся коз. Не сказать, чтобы на картине были изображены «козлы отпущения», но гостям иногда указывали с лукавой улыбкой на это почти сбывшееся предзнаменование.
Хотя второе имя Жирара указывает на провидческое чутье при выборе дня рождения, в действительности имя Ноэль было позаимствовано то ли у деда, то ли у прадеда – возможно, по материнской линии. Его мать происходила из Буше (департамент Дром, регион Рона-Альпы). Ее род жил в Провансе несколько столетий и когда-то владел шелкопрядильными фабриками в городе Сериньян-дю-Конта. В этих краях фамилия де Луа доселе ассоциируется с производством шелка. Жирар говорил, что его семейство принадлежало к «старой обедневшей буржуазии»11. Родня и по отцовской, и по материнской линии жила не так зажиточно, как их предки, и не смогла принести успех нескольким своим предприятиям и затеям, но в родных краях члены этих семейств занимали видное положение в обществе и были в большой чести. Жирар вспоминал, что освоил лишь начатки провансальского языка – этого рудимента былых времен, напоминающего, что в эпоху авиньонского папства обитатели региона были во многом отдельным народом, да и в последующие столетия оставались таковым. Визит в архив департамента Воклюз – его помещения выдолблены в толще скалы, на которой держится Дворец, – помогает осознать, что Авиньон доселе остается маленьким городком, где все между собой связаны. У Бландин Сильвестр, стройной и серьезной сотрудницы архива, есть свои пересечения с семейством Жирар: одно время она жила в доме 12 на рю де ла Круа – по тому же адресу, что и когда-то Жирары. Но первая догадка Сильвестр не подтвердилась: там обитал не Рене Жирар, а его отец со своими родителями, то есть дедом и бабкой Рене. Мадам Сильвестр выдвинула старомодный деревянный ящик каталожного шкафа с материалами об отце Жирара, Жозефе Фредерике Мари Жираре (1881–1962); то были шесть десятков библиографических карточек с информацией о книгах и статьях. Однако Жозеф, архивист-палеограф, был известен не только как ученый. Он был хранителем Папского дворца, а еще раньше, с 1906-го по 1949 год, хранителем маленькой авиньонской сокровищницы – музея изящных искусств Кальве, занимающего великолепный особняк XVIII века.
Жирар говорил, что его мать была женщина умнейшая и даже свободомыслящая. Мари-Тереза де Луа Фабр (1893–1967) была в некотором роде местной знаменитостью – одной из первых женщин в регионе, получивших степень бакалавра, то есть полное среднее образование. В 1808 году, когда Наполеон учредил «лё бак», эту степень получил всего тридцать один человек; в 1931 году экзамены на степень бакалавра сдали лишь 2,5% французских граждан соответствующей возрастной категории12; иначе говоря, ее наличие свидетельствовало об исключительной одаренности.
Сегодня мы знаем о родне Жирара по отцовской линии, наверно, больше, чем о родне по материнской, и все же складывается впечатление, что в 1920 году мадемуазель Фабр вышла замуж за человека, стоявшего в социальной иерархии чуть ниже. Жозефу Жирару, наоборот, посчастливилось жениться на девушке из старого рода из Конта – винодельческого района в окрестностях Авиньона (там делают рубиново-красное вино «Шатонёф-дю-Пап», первоначально предназначавшееся для авиньонских пап – больших любителей горячительных напитков). Вскоре после свадьбы родители жены разрешили молодым переехать в их дом с большим садом и платанами по адресу Шеман де л’Аррузер, дом 7 к югу от крепостных стен. Марта, супруга Рене Жирара, припомнила фразу, проливающую свет на то, как изменилась после свадьбы жизнь его матери: обучая Марту готовить, та упомянула, что ее саму в детстве не приучали кухарничать. Фирменные блюда мадам Жирар-старшей были, как и следует ожидать, простыми и непретенциозными.
В любом случае род матери Жирара был настолько благородного происхождения, что во времена Французской революции опасался гонений. В недавние годы кто-то из родни прислал Жирару свидетельство о восстановлении фамилии де ла Луа – ее когда-то урезали до Делуа, чтобы во времена робеспьеровской Эпохи террора смотрелась и звучала менее аристократично и, следовательно, не столь опасно.
Жозеф и Тереза Жирар поженились в Буше, но в жизни новой семьи фигурировала и Овернь, где родился отец Жозефа. Многочисленный клан Жираров много лет проводил долгие летние месяцы в Вивероле в департаменте Пюи-де-Дом, где находится одноименный спящий вулкан – самый высокий в краю, изобилующем вулканами. Жирар говорил мне, что это его самый любимый регион Франции, известный горами, кратерными озерами, туфовыми конусами и куполообразными вулканами: эти темные холмы, напоминающие курганы, и есть те самые «пюи» – характерная часть местных топонимов.
По рассказам иногда кажется, что Жозеф Жирар был слегка неприветливым, непреклонным педантом. Но это далеко не полная картина. В пять лет он остался без отца, и его вместе с двумя братьями устроили в иезуитский Коллеж святого Иосифа в Авиньоне. В 1899 году он продолжил образование в Национальной школе хартий – учебном заведении общенационального значения для архивистов, библиотекарей и палеографов; кстати, годом ранее ведущие специалисты Школы единодушно заключили, что почерк, которым было написано «бордеро», – это не почерк Альфреда Дрейфуса. То был звездный час Школы хартий, хотя дело Дрейфуса тянулось еще несколько лет. «Мой отец часто говорил об этом подвиге „хартистов“, – вспоминал Жирар. – Он был дрейфусар, в некотором роде радикальный социалист старой школы»13.
Жозеф Жирар участвовал в Первой мировой войне в чине лейтенанта и был ранен в голову шрапнелью в Реймсе – городе у северных рубежей Франции, который ожесточенно обстреливала германская артиллерия. Будь тогда антибиотики, рана зажила бы без осложнений, но в те времена помощник военврача просто забинтовал Жирару-старшему голову и отправил его на поправку домой. В Авиньон он приехал еле живой, понадобились хирургическая операция и длительная госпитализация. С тех пор и всю оставшуюся жизнь он был решительным противником войны. «Он сознавал, насколько все это глупо», – сказал мне Жирар. Старший брат Жозефа, Анри – капитан, командовавший молоденькими необстрелянными солдатами, – погиб при финальном наступлении во время битвы при Сомме, одной из самых кровопролитных в истории человечества. Пьер, младший брат Жозефа, уцелел и стал в Авиньоне преуспевающим врачом. Жозеф тоже обосновался в Авиньоне навсегда.
Жирар называл своего отца «типичным архивистом». У него было несколько подчиненных, а из дома на л’Аррузер, расположенного сразу за крепостной стеной близ вокзала, он ездил на работу на мопеде. Его очень уважали как человека и историка, но опыт войны не прошел бесследно. Некоторые обвиняли Жозефа в упрямстве и закостенелой приверженности своим методам. Марта вспоминала о нем так: «очень милый, ни в коей мере не холодный человек». Она сообщила, что, как ей рассказывали, в бытность большим начальником он однажды в сердцах разбил тарелку. Осколки этой тарелки давным-давно собрали и со вздохом выбросили на помойку, но этот момент крепко запомнился семье именно потому, что был нетипичным. Что до Терезы, то «у нее был несколько скептический взгляд на жизнь – собственно, весьма скептический, – вспоминала Марта. – Она часто говорила: les gens sont mauvais — „люди злые“». И все же мадам Жирар была добрая католичка и по воскресеньям, а также в церковные праздники водила детей в несколько городских церквей, в том числе в собор XII века Нотр-Дам у Папского дворца. На фотографии, сделанной в день первого причастия, ее темноволосый сын серьезен и держится очень прямо, сознавая важность события. Но лет в двенадцать-тринадцать он перестал ходить к мессе. Правда, позднее, в лицее записался на факультативный курс катехизиса – возможно, под материнским влиянием.
«Я, знаете ли, склонен разделять вкусы моей матери, а она любила классику, – сказал он однажды, сидя в своей гостиной на Френчменс-роуд (кстати, название улицы – как по заказу). – Во Франции семьи среднего класса, воспитанные в уважении к образованию, обычно тяготели сугубо к классической музыке, причем исключительно немецкой. Любопытно, что французскую музыку они оставляли без внимания, потому что историческое развитие музыки начинается с предшественников Баха и завершается Шубертом. И только самые дерзкие делают шаг дальше, к Стравинскому и Малеру», – добавил он со смешком.
Жирар рассказывал, что центральную роль в его детстве играла «безмятежная и уютная среда обитания, при абсолютно нормальной семейной жизни»14. Однако разница в возрасте между мужем и женой составляла около двенадцати лет, темпераменты и характеры тоже были разные. Красной нитью через воспоминания Жирара проходят пусть и несерьезные, но неизбежные разногласия между отцом и матерью. Жирар многое унаследовал от обоих родителей, и в его натуре развились оба начала – отцовское и материнское. А то, что мать была благочестивая католичка, а отец – антиклерикал-республиканец, во многом отражает историю Авиньона вообще. Перепрыгивая столетия, католичество пронизывало жизнь обитателей региона словно переменный электрический ток: отрицательный заряд сменялся положительным, положительный – отрицательным. Тема католичества всегда была крайне животрепещущей. Кто-то был за, кто-то – против, но никто не оставался к ней равнодушен. Схожим образом этот сюжет разыгрывался и в семье Жирар.
Сам Жирар как-то сказал: «Я был воспитан в духе двойной религии – дрейфусарства и (с материнской стороны) католичества, хотя о существовании Пеги узнал лишь спустя долгое время»15.
* * *Что больше всего запомнилось Рене Жирару из детства? Книги. Мать, любившая искусство и литературу, читала всем детям «Обрученных» Алессандро Мандзони.
Но у Жирара в основном формировались собственные вкусы. С младых ногтей в нем проявилась склонность, которую он сохранял всю жизнь, – идти своей дорогой, заниматься по индивидуальному учебному плану, руководствуясь собственными увлечениями и интуитивными стремлениями. Предубеждение против всего институционального проявилось у Жирара в весьма юном возрасте. «Я очень рано стал заниматься самостоятельно. Ребенком я не выносил школьной атмосферы. Поэтому мать забрала меня из маленького лицея, чтобы я брал уроки дома».
Когда его собеседник Марк Анспах спросил, что конкретно ему не нравилось, Жирар разругал школу в пух и прах: «Всё! Учительница показалась мне устрашающей особой. Я терпеть не мог классную комнату, терпеть не мог перемены, всех этих детей… Собственно, я терпеть не мог глупость. И потому мать записала меня на частный курс обучения, где, кроме меня, было всего два ученика. Отец называл его „школой избалованных детей“. В итоге до десяти лет в моей жизни не было настоящей школы. Уроки занимали очень мало времени, а читал я все, что только пожелаю»16.
«У меня было и до сих пор есть сильнейшее ощущение, что я родом из своего детства, – сказал он как-то. – У меня было чрезвычайно счастливое детство, и я всегда старался окружать себя вещами из детства. Простыми вещами, такими как еда или читанные в детстве книги – вроде моего „Дон Кихота“ в сокращенном издании или романов графини де Сегюр»17.
Поразительно, в какой огромной мере три книги, прочитанные им в детстве, – это составляющие генерального плана работы, которую он проделал на протяжении всей жизни. Первая и главная из этих книг – «Дон Кихот»: ее Жирар прочел в десять лет в издании, где текст был пересказан для детей, а картинки были не менее запоминающимися, чем слова. В них подчеркивалась сатирическая сторона Сервантеса, и Жирар находил иллюстрации очень смешными. «Когда я писал о „Дон Кихоте“ в „Лжи романтизма и правде романа“, то держал в голове именно этот зрительный ряд», – говорил он18. Потому-то Жирар не отождествлял себя с рыцарем, застрявшим во мраке отсталости, и не воспринимал его как симпатичного персонажа – это пришло позднее. Драгоценный томик сохранился в его библиотеке, и Жирар регулярно возвращался к «Дон Кихоту» всю жизнь.
Эта книга, несомненно, повлияла на его антиромантическое мировоззрение, предопределив стойкое отвращение, которое сохранялось спустя долгое время и после того, как он дописал последние страницы «Лжи романтизма». Когда я говорила ему, что в детстве любила «Отверженных» Виктора Гюго, то, будучи человеком тактичным, он ничего не отвечал, а лишь иронично кривил губы.
Второй книгой была «Книга джунглей» Редьярда Киплинга, прочитанная примерно в том же возрасте. Он находил, что это впечатляющее описание механизма козла отпущения с такими вездесущими темами, как коллективное насилие толпы, склонные к подражанию обезьяны и линчевание хромого тигра. На страницах Киплинга Жирар впервые открыл, что мы заново переписываем свои истории, чтобы сделать из жертвы виновника и скрыть этим самым нашу коллективную вину.
В трудах Жирара Киплинг появляется нечасто – любопытное умолчание, если учесть, что впоследствии он сказал о «Книге джунглей»: «Я постепенно осознал, что в ней содержится вся миметическая теория, и это, по сути, экстраординарно». Третья книга войдет в его жизнь несколькими годами позже. Тем временем его любимой игрой была забава, которой предаются в одиночку: он брал игрушечных солдатиков и воспроизводил главные битвы французской истории, один выступая во всех ролях. Иногда он лепил из глины целые парламенты и депутатов. Воссоздавал войны Средневековья, Наполеоновские войны, битвы при Аустерлице и Ватерлоо. «Я также читал книги о Наполеоне, – сказал он. – Выучил все стереотипные фразы вроде „Только первая и последняя битва имеют значение“». Он показал рукой на книжную полку. «Видите эту библиотеку в книжном шкафу в стиле Людовика XVI? Это библиотека моего отца: он был историк. В ней имелись книги, которыми я интересовался, например история Революции, написанная Луи Мадленом. Она меня по-настоящему захватила». Когда Гитлер укреплял свою власть в Германии, Жирар поддался массовому помешательству на другом вошедшем в историю авиньонце – Нострадамусе. В XVI веке тот родился примерно в двадцати милях от города и учился в Авиньонском университете. Правда, Жирар отзывался о Нострадамусе презрительно («какой-то полоумный»), и все же он и его ровесники дивились упоминаниям о «Hister» – «Гистере» – и трактовали слова Нострадамуса как пророчество о возвышении фюрера.
«С весьма раннего возраста, с двенадцати лет, я живо интересовался политикой. Ощущалось, что близится война – уже в 1932–1936-м, – сказал он. – У меня был какой-то странный возбужденный интерес к политике – чувство опасности, но, несмотря ни на что, какое-то пьянящее»19.
* * *Рене был вторым из пяти детей. Его брат Анри, на три года старше него, пошел по стопам дяди Пьера и занялся медициной. Сестра Марта в итоге обосновалась в Париже, а другая сестра, Мари, на десять лет младше Рене, переехала в Марсель. Самый младший ребенок в семье, Антуан, родился спустя более чем пятнадцать лет после Рене и, в сущности, принадлежал к другому поколению.
Рене Жирар был болезненным ребенком. Рассказывал, что последним в Авиньоне заболел брюшным тифом – а было ему тогда лет десять-одиннадцать. Лечил его дядя Пьер. «Это была затяжная история», – пояснил он, изящно взмахнув рукой. Тиф длится не бесконечно, но пациенту кажется таковым; болезнь обычно затягивается примерно на месяц, истощая и выматывая жертву. Возбудители тифа содержатся в загрязненной пище или воде, а затем передаются от человека к человеку; характерные симптомы – высокая температура, диарея, головная боль и кашель, озноб и усиленное потоотделение, боли, бред. В те времена, за два десятилетия до того, как тиф начали лечить антибиотиками, он все еще убивал массу народу, и у матери были все основания опасаться за Рене.
Несколько раз его спасали от серьезных болезней. То, что в семье был свой врач, определенно выручало. Он вспоминал о воспалении правой ноги и куче других хворей. И добавлял небрежно, что на юге Франции так уж повелось – «смертельные опасности оказываются ерундой». Значит, он был хрупким ребенком? «Так считала моя мать, не вполне безосновательно», – сказал он. Марта добавила: «Она его обычно баловала».
Свидетельство тому – фото из семейного альбома: посередине удовлетворенно улыбается темноволосый мальчик в свитере и коротких штанишках, сознающий, что его обожают. Фамильярно держит под руки двух заботливых бабушек – они стоят по бокам от мальчика, затянутые в темные платья, какие ассоциируются со Старым Светом. Другие взрослые и дети размещаются вокруг этого композиционного центра. Очевидно, мальчика продолжали баловать – дали ему домашнее образование, а позднее радушно принимали, когда он, живя в Лионе или в Париже, просился обратно домой, к семейному очагу.
* * *Марта и Рене, сидя за чаем в своей гостиной на Френчменс-роуд, забывают о всех заботах. Марта наливает чай в чашки из костяного фарфора. Марта сочла, что Рене отозвался об Авиньоне слегка несправедливо, и принялась вспоминать шарм старого города, называя его «чудесным местом».
Но по одному вопросу Жирар в тот день высказывался категорично. «Мне следовало бы пойти учиться в иезуитскую школу», – сказал он с неожиданным жаром, когда мы говорили о его образовании в те давно ушедшие времена. Отец Жирара безапелляционно возражал против идеи отдать его в такую школу. Чуть позже Жирар пожал плечами и засмеялся, вспоминая об отцовском антиклерикализме, выражавшемся в пламенной неприязни к иезуитам. Собственно, отец учился как раз в авиньонской иезуитской школе, обладавшей определенной жизненной энергией. Как-никак в 30-е годы XVII века коллеж почтил своим пленительным присутствием Афанасий Кирхер. Где-то под внутренним двором – на этом месте находилась францисканская церковь, позднее снесенная, – покоится Лаура, возлюбленная Петрарки. Остается лишь гадать: то ли в иезуитской школе Жирару, этому блистательному сыну Авиньона, действительно было бы лучше, то ли тяга к озорству прорезалась бы у него даже раньше. Альтернативой был Лицей-коллеж имени Фредерика Мистраля – сегодня он занимает красивое здание в одном из авиньонских переулков, над которым дугой изгибается крытый мост. Но Жирар сказал мне, что со времен его учебы лицей переехал. Некоторые хвастались, что учились «в классе Стефана Малларме», но в 1864 году двадцатидвухлетний поэт всего лишь заходил к другу, учителю лицея. Тем не менее легенда сохранилась.
Обе школы сулили Жирару прекрасное образование. Сегодня большинство американцев просто представить себе не может, какая прекрасная система образования была доступна французским детям в ту эпоху. Учительствовать в провинцию отправляли лучших из лучших, выпускников Высшей нормальной школы и других элитных учебных заведений. В те годы среди этих выпускников была и Симона Вейль, отработавшая некоторое время в школе в Ле-Пюи-ан-Веле в любимой Жираром Оверни: она вела там латынь, древнегреческий, философию, естествознание и французскую грамматику.
Однако когда Жирара держали в загоне, дело у него никогда не клеилось, и после «школы избалованных детей» ему пришлось остаться на второй год в шестом классе: очевидно, возвращение в массовую школу стало для него чрезмерным потрясением. И все же, по-видимому, лицей оставил кое-какие приятные воспоминания, и Жирар обрел там горстку единомышленников: «У меня было несколько друзей, очень увлекавшихся литературой, но их вкусы были типичны для эры позднего сюрреализма. Над нашими головами царственно кружил Рене Шар – знаменитый поэт, впоследствии пригласивший Хайдеггера на „Семинары в Ле Торе“». Поэт «был очень любезен со своими молодыми друзьями, которые его идеализировали, хотя заинтересоваться его поэзией я так никогда и не сумел»20.
Жирар часто говорил, что был отличником, пока не перешел в старшие классы – вероятно, пока не разбушевался пубертат со всеми вытекающими последствиями. Он называл себя «расхлябанным буяном». Наверное, он не был вожаком проказников в строгом смысле слова, но прослыл смутьяном и подстрекателем – а значит, именно ему с наибольшей вероятностью приходилось отдуваться за проделки. Его наказывали, заставляя по субботам сидеть в школе под арестом. Это принесло неожиданную пользу: так он свел близкое знакомство с Полем Тулузом, Жаком Шарпье и другими мальчиками, которые стали его друзьями.