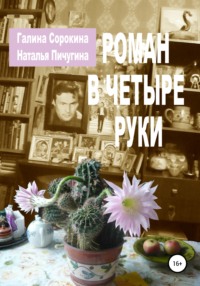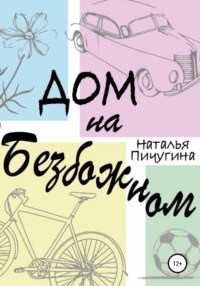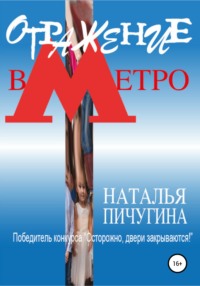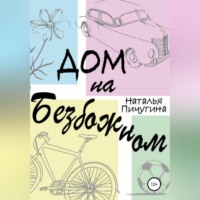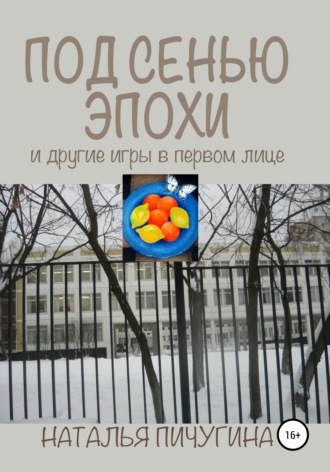
Полная версия
Под сенью эпохи и другие игры в первом лице
От тех знаменательных дней осталась доброкачественная и прекрасно скомпонованная мастером их совместная фотография, где у бабы от рыданий распухший рот и японский разрез глаз.
– Смотри, какой я был интересный парень! – удивлялся деда, разглядывая свою молодую фотографию. – А из-за бабы думал, что некрасив: она всегда меня рисовала носатым! Ах, она такая хитрованная!..
Чуть позже баба присоединилась к деду на Нефтегазе и преподавала химию в техникуме при производстве, обнаружив незаурядный преподавательский дар. Оба написали несколько учебников по химии. Баба вспоминала Нефтегаз, как свои лучшие годы.
К началу войны деда уже работал в Москве и имел служебную машину и дачу в посёлке нефтяников по Ярославской дороге, куда они переезжали летом с двумя детьми – моим папой, старшим, и младшей тётей.
В день объявления войны поздно вечером грузились на машину переезжать в Москву. У калитки над верхушками елей светила в грозном небе полная туманная луна. Маленькая тётя запомнила её по напряжённому молчанию сборов.
Шестнадцатого октября 41 года немцы были уже под Шереметьевым, где в мое время мы собирали клубнику на Литгазетовских дачах. Теперь широко известно, что панике поддались на короткое время в Кремле, в том числе Сталин. Решали, взрывать или не взрывать в Капотне знаменитый Московский нефтеперерабатывающий завод, единственный в 41 году источник горючего для Москвы. За «кнопку», замыкающую охранно-взрывную систему завода, отвечал мой дед, Алексей Павлович Пичугин. Четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого октября он почти не спал. Ценой неверного решения «взрывать–не взрывать», буквально неверного движения руки, лично для моего деда был расстрел или собственная пуля.
Как знаем, Капотня была спасена, то есть спасена Москва. Деда отправили за Урал руководить военной обороной, а бабу с детьми в эвакуацию в Пермь, откуда оба были родом, в дом наследственных врачей, к Татуньке.
Баба вспоминала Татуньку, как властную и самоуправную фигуру. Военная еда была скудной, перед работой Татунька, рассердившись накануне, могла не оставить бабе положенного куска хлеба с чаем.
– Жестоко поступала, – рассказывала баба, но даже в её драматической манере рассказа удивительным образом не слышалось ни осуждения чужому поведению, ни обиды на него.
Детей выкормили. На рынке баба обменивала детям даже яблоки, хотя папа Павлик, не желая их есть, швырял на пол. Баба же весила 46 килограмм, в итоге у неё обнаружили дистрофию и госпитализировали.
Бабины терпимость, покой и любезность, так же, как и знание о судьбе, были из родовых доблестей и не пострадали от советского воспитания.
Баба никогда не была мне так близка, как стала после смерти. Я чувствую в себе её безболезненное и согревающее присутствие и связь эпох, прочно и гармонично переданные мне во владение.
Только уже взрослой я узнала, что Татунька была последней, носящей фамилию рода Струйских, известного в истории ХVIII века знаменательной фигурой поэта Николая Струйского, кроме того имевшего наилучшее для тех времён тиснение в своей собственной типографии.
Портрет его жены Струйской кисти Рокотова висит в Третьяковской Галерее в зале портретной живописи XVIII века. В её чертах явственно проступает молодое лицо моей тётки. К заметному следу обоих прикоснулись, каждый в своё время, историк Ключевский, Вяземский, Николай Заболоцкий. В XIX веке Струйские состояли в родстве с семьёй Огарёвых.
Татунька рожала детей от разных отцов: моего деда она родила от сына Фатали Ахундова, великого поэта Азербайджана. От деды мне досталась восточная внешность: покатый лоб, великий нос – по маминой присказке, «на двоих рос, одной достался», – и египетские глаза, своим разрезом усугубляя мне скрытое косоглазие. Улыбаясь во весь рот, мы с дедой приобретаем одинаковое, слегка лягушачье, но прекрасное лицо.
Любовь к деду занимала центральное место в начале моей жизни. С моей стороны это было осознанное общение по интересам. Зарождение моего внутреннего мира, самые начала моей духовной жизни. Отношение с другими членами семьи пребывало в то время на другом уровне, скорее утилитарном.
Воскресным утром вторым после меня просыпался дед. Заслышав из коридора мурлыканье воскресного радио, я пробиралась в их спальню через столовую, где спала тётя. Спала и баба на своей кровати, составляющей часть большого двойного супружеского ложа. По утрам деда носил тёмно-синюю в полосочку пижаму.
– А, проснулся мартышкин! – приветствовал он меня. Так он звал меня за любовь к бананам, которые всегда покупал мне.
Я забиралась к нему на постель, и начиналась наша игра в кораблик: я усаживалась между ног деда, покрытых одеялом, и дед раскачивал меня по волнам океана, пока не поднимался шторм и огромная волна не выбрасывала меня из кораблика на постель.
Благодаря раздельности двойной постели бабе не мешали наши морские бури, и они длились, пока иные воскресные радости не отвлекали нашего внимания. Таков был воскресный ритуал.
Дед собирал библиотеку – классику, библиотеку приключений, бабе о театре и мемуары, мне детскую и подростковую. Он обладал гуманитарной чуткостью и покупал книги, которые, как выяснялось позднее, становились классикой: «Орден жёлтого дятла», «Мафин и его друзья», «Маленький оборвыш», отдельное издание «Голубой чашки» Гайдара. Второй книжный шкаф стоял в столовой.
Дед был аккуратен и не любил беспорядка. Дубовый буфет занимал почётное место у стены и имел боковую дверь, где на полках он хранил свои реликвии, предмет моего любопытства. Среди них находились маленькие цветные карандаши в кожаном футляре, привезённые из командировки в Германию.
– Деда, дай порисовать, – просила я.
– Сломаешь, – отвечал деда, не желая подвергать своих любимцев новому испытанию.
– Нет, деда, нет, не сломаю, пожалуйста, я осторожненько! – молила я, хотя у меня была прорва своих цветных карандашей.
Обречённо вздыхая, дед доставал своих красавцев.
– Не нажимай, – безнадёжно говорил он. – Слегка прикасайся к бумаге.
Я искренно старалась следовать дедовым указаниям, пока изящно отточенный им грифель не вылетал с корнем из-под моих пальцев, оставляя меня в полном изумлении. Я не ожидала таких козней от карандашей.
Из того же хранилища дед вынимал по моей просьбе свои ордена и медали, приколотые на тёмно-синем бархатном лоскуте. Их было штук сорок: за Нефтегаз, за военную оборону 41–45 годов, за нефтяную промышленность послевоенного восстановительного периода, за руководящую деятельность в Госплане мирного времени.
– Алексей Павлович был крупная фигура, – позднее рассказывала мне мама, – он боролся за руководящее место в Госплане с Байбаковым, будущим министром нефтяной промышленности. Но в чём-то проиграл, выбрали Байбакова.
Дед был очень добрый и мягкий человек. Невозможно было представить его иным на своём рабочем месте. Его старший любимый брат Виктор погиб на войне. Дед просился на фронт («Представь себе, что бы я делала», – с неподражаемым сарказмом пересказывала мне баба семейную хронику тридцатилетней давности), но его не отпустили – под его ответственностью находилось несколько заводов на Урале.
– Можешь себе представить, какой надо было иметь характер и работоспособность, чтобы в те страшные военные годы не сесть в тюрьму, а сохранить заводы, сдать все нормы производства, да ещё получить за это столько орденов, – комментировала мне мама.
Дед представлял собой тот редкий случай, когда во всю траекторию своей государственной службы сохранил особенную доброту и политический идеализм. В начале перестройки, когда зашатались устои его государства под занавес его жизни и собственная дочь безжалостно открывала ему глаза, дед, обнимая меня, сказал:
– Вот эти пойдут за нами.
Обнимая его, я только кивала, согласная идти куда угодно за ним в его иллюзии. Он умер во сне, не заметив своего ухода, – его душа справилась с земными задачами. Благодарение Богу за то, что до конца дней хранил судьбу этой удивительной личности и не дал разочароваться в собственной жизни.
Над своим неувядающим трюмо баба устроила иконостас из фотографий. Баба с дедой покупали мебель на всю жизнь, вернее, в те времена мебель делали на всю жизнь. Во всяком случае, с рождения и по сей день интимно знакомая мебель встречает меня в тёткином доме вместе с «другими» членами семьи.
Из вороха фотографий я с удивлением вынула большую доброкачественную фотопробу, на которой в полный рост стояли возле учительского стола совсем молодой Шукшин и мой дядька-подросток, племянник деды.
– Что это? – с изумлением вопросила я у бабы, поднося ей снимок.
– Это Валерка снимался на пробах подхалима Синицына.
– Да-да, я помню, – обрадовалась я. – Но баба, с Шукшиным?!
– С Шукшиным, – невозмутимо кивнула баба. – Ведь это было так давно, он не был ещё знаменитым.
В нашем доме жил четырнадцатилетний Валерка, взятый дедой из Перми на воспитание в помощь своей сестре Жэке. Воспитание не удавалось, так как Валерка был жуткий лодырь и отлынивал от уроков всеми путями. Однажды баба взяла меня с собой в поликлинику, и пока она отлучалась в кабинет врача, я увидела Валерку. Если в списке моих семейных пристрастий деда стоял на первом месте, то Валерка – на последнем, но он охотно играл со мной в шумные и подвижные игры, и мы были большими друзьями. Во дворе Валеркин товарищ Никита учил меня чихать, глядя на солнце.
– Не говори, что я здесь! – наказал мне Валерка, исчезая с глаз долой.
– Хорошо, – согласно кивнула я, и как только баба вышла из кабинета, тут же по младенческой непосредственности передала ей нашу встречу.
– Он просил меня ничего не говорить! – беспокоясь за Валерку, закончила я, совсем не подозревая, что подвела его под монастырь.
По вечерам Валеркино домашнее задание помогали готовить все подряд. Но даже бабин преподавательский опыт и умение давали весьма скудные результаты. В проёме двери в столовую я видела Валеркину голову, бессильно уложенную на локти поверх обеденного стола, и канючащий голос:
– Тётя Ни-ина, дядя Алё-оша…
– Эх ты, шляпа! – раздавался из столовой расстроенный голос деды. – Лодырь и шляпа!
Это было самое сильное выражение, какое только я слышала в раннем детстве. Удивительно, но оба – баба и деда – не умели гневаться, скорее расстраивались и недоумевали, когда сердились. В их доме никто не повышал голоса.
И вот однажды лодырь и шляпа Валерка примчался из школы возбуждённый и сообщил, что некая съёмочная группа отбирала школьников для съёмок, и его выбрали на исполнение роли подхалима Синицына!
– Подхалима Синицына? – с неподражаемым чувством юмора переспросила баба. – На роль положительного ученика наверняка взяли Никиту Михалкова?
С этого дня наступила незабываемая и продолжительная пора, когда Валерка врывался после школы в дом и взахлёб пересказывал события съёмок. Фильм шёл к концу, Валеркины актёрские данные хвалили, обещали взять в новый фильм.
– Тётя Нина, дядя Алёша, я буду актёром! – ликовал он.
– Актёрам тоже надо учиться! – саркастически отзывалась баба.
Валерка уже собирался бросить школу и посвятить себя киносъёмкам. В итоге он уехал-таки на новые съёмки и переехал из нашего дома. Я ещё слышала о нём отрывочные замечания от бабы, от папы. Затем жизнь окончательно развела нас.
Среди моих друзей и знакомых понятие столовой я замечала только у меня. Где бы ни жили баба с дедой, в их доме, так же, как и на даче, была столовая, где стол ставился посредине комнаты часто недалеко от окна, очень гармонично увязывая между собой всю мебель. Это понятие столовой и манера ставить стол с возрастом убедили меня, что именно так стояла мебель в доме рано умершей прабабки («У нас в столовой ещё стоял фикус» – смутно помню бабины слова), – по укладу жизни в дореволюционных городских квартирах России.
В тёткином доме сохраняется прежняя, с рождения мне знакомая обстановка столовой, связывающая меня не только с памятью бабы с дедой, но и с их пермским детством, а оттуда с эпохой прабабки, дореволюционного быта и ушедших веков с героями нашей памяти. Я не отдавала себе в этом отчёта, пока тётке не пришло в голову обновить мебель в столовой и избавиться от фамильного буфета, почти достигающего потолка. Непроизвольно из меня вырвался такой вскрик, что тётка в изумлении замерла, и буфет – вместе с историей нации – остался на своём месте.
5. Игра в первом лице
Мне нравится повествование от первого лица, где я становлюсь любым персонажем каких угодно историй. Это моя игра, я играю в неё с детства, и весь мой мир реален, как окружающая нас действительность, – в этом самая соль игры и её основное стремление, из какого и сложился мой метод, который, как стало ясно во время моего образования, гуманитарные науки назвали реализмом. Я не имею к этому никакого отношения, но знаю наверняка: это самый иезуитский изо всех творческих методов способ искусить, обольстить и соблазнить (все три слова в своём исконном значении) читателя абсолютной – обратите внимание – ложью, с точки зрения окружающей действительности, а затем и бросить его на произвол этой окружающей действительности. Последнее не совсем человечно, но можно худо-бедно подготовить читателя, внушив ему о существовании двух реальностей – реализма художественного и реализма повседневного, на то у нас и школы, в конце концов.
Непосредственно для школьников и студентов хотелось бы привести некоторые формулировки с тем, чтобы поделиться с ними ясностью миропонимания. Метод реализма: отображение предметной реальности, как она есть, для изображения не существующей действительности. Метод экспрессионизма: образ ощущения. Его разновидность – символический экспрессионизм. Не хотелось бы выглядеть не от мира сего, но эти формулы помогают мне жить.
В отрочестве, как у Гулливера в стране лилипутов, у меня «был» многоэтажный дом красного кирпича высотой в мой рост, где проживало много разных семей, каждая со своей историей. Истории создавала я, так же как живых людей и животных миниатюрного, по габаритам жилья, размера – взрослых, детей, подростков, собак, кошек, рыбок и птичек. Я водила их по лестницам, из квартиры в квартиру, на улицу и в магазин, следуя взаимоотношениям, историям и интригам. Помню себя в задумчивости над снятой крышей дома: меня занимала проблема просматриваемости мизансцен в случае сохранения крыши на своём месте в связи с климатическими невзгодами в виде осенних дождей и зимних снегопадов.
Невозможно заметить, в какой момент у меня окружающая действительность переходит в сказку, почти волшебную. Я вся ушла в роли, исполняемые мной на протяжении жизни. От меня реальной, думаю, не осталось ничего или же некоторые недостатки, недостойные моей игры. Во всяком случае, с некоторых пор я равнодушна к собственному «я» и пользуюсь им постольку, поскольку оно позволяет мне исполнить ещё одну роль. Что-то вроде транспорта.
С возрастом моя игра только усугубляется, и мне нравится приглашать в неё друзей и читателей.
Я люблю рассказывать от своего «я», но избегаю того реального, что, вторгаясь в повествование, разрушает поэтическую ткань созданного мира. Что-то во мне чутко бдит и никогда не ошибается, рассказывая сказку о себе: она никогда не превращается в быль, хотя отличить их в повествовании невозможно. Благодарение художественному реализму.
Именно поэтому мне не даётся жанр мемуаров. Годами я кружу вокруг интересующих меня тем, лежащих в плоскости реальных имён и эпохи, подстёгиваемая честолюбием и тщеславием. И всякий раз при сближении двух планов, мой мир прекрасно раскалывается на мелкие осколки, оставляя меня безгрешной.
Пожалуй, только анекдот способен рассказать сущую нелепицу о Пушкине и Василь Иваныче, никого не оставив в обиде. Пожалуй, только анекдот позволяет нам снисходительно смотреть на рассказчика, не подавая на него за клевету.
Приветствую прекрасную находку, расширяю поле её приложения и представляю новый жанр: драматический анекдот-размышление.
Что я ищу, рассказывая историю своего поколения? Я стараюсь отыскать что-то, вороша ушедшую эпоху. Что?..
Загадочное нечто, правящее миром, это великое и непостижимое нечто, которое мы, по своей безграничной ограниченности, не обоняем и не осязаем, не видим и не слышим, но которому в моменты смирения инстинктивно подчиняемся, возвращает нас в переулки и за кулисы вчерашних событий в поисках прошедшего времени…
6. Причастие
Когда это началось? Каждое новое воспоминание влечёт за собой более раннее, и становится невозможным определить начало моего причастия к эпохе, сформировавшей моё поколение, – тех одногодков, которые раньше составляли мою единственную обозримую среду обитания, и которых теперь, в разнолетнем потоке поколений я распознаю по неуловимым приметам, как членов своей семьи.
Этот долголетний процесс причастия всегда стоял для меня на заднем плане, в полудымке реальности, существовал полубессознательным фоном, на котором развёртывался единственно первый для меня план моей эмоциональной роли среди друзей. Не удивительно поэтому, что все мои воспоминания, не касающиеся мира чувств, отличаются невнятностью. «Творческая память,» – как отзывалась об этом моя мама. Не помню в себе другого возраста, которому бы так безразличны были судьбоносные для общества события.
И только теперь принадлежность к своей эпохе и народу, понимание миссии гражданской, профессиональной и персональной, выдвинулись для меня на первый план, отодвинув на задний все остальные интересы. И прежний фон моей юности, покрытый дымкой, прожитый полубессознательно, теперь к моему удивлению, оказывается главным героем в становлении моей личности, главным действующим персонажем в драме моей жизни. Этот фон, как выясняется, при всей своей неявности имел на меня действие неотвратимое, как бомба замедленного взрыва, сработавшая много лет спустя, и теперь составляет мою ценность не только как свидетеля ушедшего времени, но и как вида: я не просто российское, я советское дитя – у меня клеймо стоит на самом сердце.
Однажды, в литературе чилийского сопротивления, меня поразило высказывание писателя, который вспоминал, как выросши в годы фашизма, он не столкнулся с его трагедией, и юность его была прекрасна.
Моя подруга, старше меня на десять лет, не устаёт удивляться моим безмятежным воспоминаниям.
Посмотрев фильм «Раскаяние», моя мама, журналист до мозга костей, очень резко сказала: «Я не согласна с темой фильма. Я не согласна, что виноваты те, кто не понимал ситуации.» В её резкости прозвучала не только обида, но и её прошлое, никогда не упоминаемое и неожиданно мне незнакомое. Но мама была не из тех, кто что-то скрывает. Видимо, незнакомым мне было именно её прошлое непонимание.
Я склонна доверять разного рода феноменам. Судьба всегда индивидуальна, даже если люди находятся в одинаковом положении.
И как мы, прощая родителям недостатки, помним о них лучшее, так и я, советское дитя, несу в себе светлое детство и юность, не омрачённые взрослым опытом.
Это была жизнь наших родителей. В то время мы неизбежно оказывались их и её отголоском.
В начале девятого класса мы выходили из школы после уроков, останавливались у киоска «Мороженое», у которого наши дороги расходились в разные стороны, и задерживались из-за разговора, похожего на спор.
После продолжительных осенних дождей у киоска разливалась непроходимая лужа, затопляющая улицу от тротуара до тротуара, и папа, отправляясь на автобус, надолго останавливался перед ней в раздумье, после чего сердито шёл вброд, обняв свой чёрный пузатый портфель, в котором вёз том античной истории, учебник французского языка и амбарную книгу для записи стихов и мыслей в автобусе, везущем его по делам. Никита случайно наблюдал за ним от киоска и со смехом комментировал мне папино классическое для гения поведение.
Стояла поздняя осень 1969 года, мы в пальто, и послеполуденное солнце характерно золотило лица, волосы, паутину и грело плечи.
Одноклассница Ира из семьи военного, Витя из семьи инженеров-речников, Никита из семьи технической интеллигенции и я из семьи журналистов-литераторов. Спорили в основном Никита с Ирой, Витя их корректировал, а я слушала. Всем по пятнадцать лет, мне скоро исполнится. Спор о системе социализма.
Кость бросил Никита, правнук дореволюционного публициста Меньшикова, на уроке литературы. Девятый класс сформировали после большого отсева выпускных восьмых. Район строился, и в школу пришло много новеньких. Состав класса был заново укомплектован. Праздничное ощущение новизны привносили и новые для нас учителя. Учительницу литературы Марго в школе ценили за подготовленность и разносторонность, фамилию Сонечкиного отца из «Преступления и наказания» она произносила «Мармаладов», считалось, что с литературой нам повезло. Марго защищалась на удивление яростно:
– Культ Сталина был осуждён на ХХ съезде партии! Все злоупотребления властью и гибель невинных людей признаны преступными! Зачем же продолжать порочить весь строй? Он наносил вред нашему государству, и я считаю, очень справедливо, что его исключили из Союза Писателей!
Для меня тема была совершенно новой, мои друзья оказались более информированы.
– Мама, кто такой… Солженицкин? – спросила я дома.
– Где ты слышала это имя?! – закричала мама голосом, которым обычно меня ругала.
– Да что ты на неё кричишь? – спокойно возразил ей папа, из чего я поняла, что им ведома суть дела. К моему большому удобству мои родители всегда всё знали. До сих пор я прибегаю к их знаниям или памяти, ибо в моей голове из необходимого задерживается так мало, что однажды я посетовала маме, отчего у меня такая несовершенная память.
– Творческая, – объяснила мама. – От тебя отскакивает всё, что не связано с эмоциональным потрясением.
До сих пор я стараюсь успокаивать себя этим ответом.
– Что вам сказали в школе? – спросила мама. Я пересказала.
Папа с мамой переглянулись. Папа усмехнулся, пожав плечами, мол, а чего ты ждала. Мама горько кивнула.
– А ведь это учительница литературы, – не удержалась мама.
– С учительницы физики не было бы спросу, – согласился папа.
Они говорили между собой, а не со мной. Говорили о себе – о том, что ежедневно встречало их за стенами нашего дома.
Я усваивала эмоциональные акценты, родительская реакция была в то время моим жизненным ориентиром, и я доверяла ей безгранично, насколько это в нас возможно.
– Не Солженицкин, а Солженицын! – возмущённо поправила меня мама и молча дала мне журнал, раскрытый на нужной странице. – На, почитай. Он писатель.
Это были рассказы «Матрёнин двор», «Для пользы дела» или даже «Один день Ивана Денисовича».
Как и следовало ожидать, при своих девственных знаниях ничего преступного со стороны писателя я в прочитанном не углядела, причин сверхъяростного спора не уяснила, родители с моей реакцией согласились, эмоционального потрясения не произошло, и непонятный спор отошёл на задний план.
Меня не задел нравственный аспект исключения из Союза Писателей. Я принимала его как установленные положения природы и не задумывалась над их целесообразностью. Не могу сказать, чтобы родители от меня скрывали происходящее. Они разговаривали с утра до вечера в малогабаритной двухкомнатной квартире, где на фоне их разговоров жила я.
«Система такая, система сякая» – в семидесятые годы я всё это принимала теоретически, занятая жизнью грёз. Убедило меня только чтение Бердяева в годы перестройки. Он вписался в мои грёзы и потряс меня даже не тем, о чём пишет, а как пишет. Оказывается, можно, оказывается, моя мысль – не социальная, не гражданственная, не умная, не сильная – тоже имеет право на существование. Изо всех, кого я прочитала к тому дню, никто так не писал. Речь домашняя, интеллигентная, он замечает то, что кажется несерьёзным, не стоящим внимания, что-то интимное, домашнее, языком необязательным, несовершенным, безбоязненно. При чтении Бердяева во мне росло восхищение его мыслью, удивление общностью наших с ним ощущений и реакций, таких узнаваемо русских, интеллигентных, настолько мягких, человечных, не притязающих на силу, не притязающих на знания, только размышление, только любопытство к мысли и ощущению, – и одновременно поднимался протест против тех, кто лишил меня и всю нацию наслаждения знать Бердяева с начала собственного пути, формироваться под влиянием его мысли, читать его книги, возможно, слышать запись его выступлений, смотреть о нем передачи по телевизору.
Поднять руку на такого человека, изгнать его из страны могла только преступная человечеству власть.
Принципы свободы мысли и слова специально в нас не воспитывались, они сложились во мне сами собой и, как мне казалось, не имели противостояния ни с чьей стороны.
Так я и росла, следуя своей естественной реакции на происходящее, в атмосфере родительского с ней согласия. Нам повезло: в нашей маленькой семье царствовали гармоничные отношения людей с похожими интересами и реакцией.