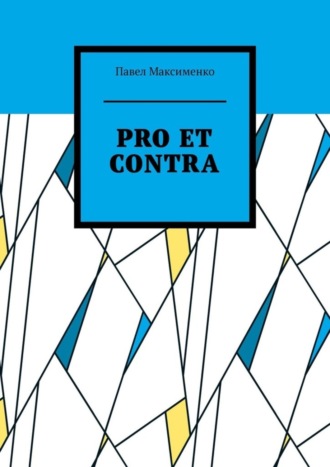
Полная версия
PRO ET CONTRA. Вольные рассуждения о русском радикализме
2. Новые классы
Спекулировать на возможном развитии истории и теории о том, что могло случиться или как старые порядки мог бы выжить, если бы реформы были другими, или если бы некоторые русские умы были менее непокорны и менее возмущены ими, это тщетное предприятие. Единственный вывод оправданно свидетельствует о том, что реформаторская деятельность Александра была своего рода урезание, переделывание, расширение и разработка того, что, по сути, не лечило больного российского общества, но само по себе было в значительной степени симптомом его болезни. Но в то же время, каковы бы ни были природа и ближайший эффект от реформ, они и силы, которые были косвенно стимулированы ими, создали, как уже было отмечено, новую атмосферу в стране. Это была атмосфера не столько освобождения, сколько расширения дифференциации, как будто центральная и объединяющая власть, которая держала тело в руках. потеряла свой импульс – изменение, которое не может быть отделено от краткого изложения простых фактов, как это было ясно почувствовано с помощью современников. Изменения во многом обусловлены тем, что самодержавие должно быть сделано из более суровых вещей, чем манера Александра. Александр пытался закрепить автократическую структуру в изменившихся условиях путем предоставления поддержки деспотичной политики его более жестким министрам, поощряя безжалостные полицейские меры. Он мрачно отступал перед новыми идеями и обязательствами – он не смог обуздать центробежную тенденцию – и, действительно, спровоцировал подпольное сопротивление.
В одной сфере заметна тенденция к дифференциации и к тому, чтобы расширение было внезапным и сразу же заметным; ибо в период между 1861 и 1914 годами русское общество начало соотносить себя в большом масштабе с проблемами того, что обычно называется промышленной революцией. Промышленное развитие в России началось в начале восемнадцатого века. Оно в значительной степени служило требованиям государственной власти; и оно, конечно же, поддерживалось подневольным состоянием труда. Частные промышленные предприятия играли относительно незначительную роль даже в первой половине девятнадцатого. столетия, и продолжали в значительной степени зависеть от государства, от государственных субсидий, государственных заказов и государственных тарифов. Потребности подавляющего большинства населения в промышленном производстве товаров в основном удовлетворялись крепостными мастерами, многие из которых организовались в артели, т.е. в постоянные или сезонные кооперативы, не имеющие юридического статуса, производящие домашнюю утварь или продающие свой коллективный труд за пределами деревни (в виде плотников, лесорубов, и т.д.). Хотя Николай I оказал определенную поддержку отдельным торговцам и фабрикантам, в частности, производителям текстиля, они осуществляли свою деятельность на фоне сильно преобладающего права дворянства на собственных крепостных, ограниченного предложения бесплатного труда, примитивных деловых связей и низкого уровня внутреннего потребления.
Реформы устранили эти препятствия. Промышленность, торговля, и строительство железных дорог сделало быстрый шаг, и pari passu родился новый коммерческий и промышленный класс, появление которого было источником недоумения, жалости или разочарования всем тем, кому явилась Россия, освобожденная от жесткости и конфликтов социального развития, состоявшая, в первую очередь, из старомодных купцов, ставших коммерческими предпринимателями-оптовиками, зерноброкеров, молокозаводчиков, сахарозаводчиков, производителей текстиля и кулачества, с растущей необходимостью и возможностью для внешней торговли. Они делали важное дело, вписывающееся в государственную политику обязательного экспорта, пшеницы и других сырьевых товаров, при том, что голод часто бушевал по соседству с регионами-экспортерами. У них не было причин быть недовольными реформами, и они их принимали безоговорочно. У них были экономические, но отсутствовали культурные амбиции, хотя и к концу века некоторые из них стали крупными меценатами искусства и литературы. Они были душными, узко мыслящими, показными и экстравагантными. 9
Симптомы распада сельского общества, где старый, «органический» порядок должен был выжить лучше всего, были источником особой тревоги с большим количеством дебатов, Даже ведущие статьи в таких полуофициальных органах, как Санкт-Петербургский «Голос», под редакцией Краевского, были полны ссылками на эту новую разработку. Дифференциация в деревне была простимулирована прежде всего тем, что новые и тяжёлые финансовые требования заставляли крестьян устраивать заговоры, и тем, что наиболее обеспеченные слои крестьянского меньшинства начали процветать ценой обнищания большинства. Участки, изначально назначенные, различались по размеру и, в то время как более обеспеченные крестьяне покупали землю у землевладельцев, крестьян, которые не смогли выжить на своей урезанной земле, нанимали в рабочие. При естественном росте сельского населения, это привело к постоянному оттоку крестьян в города и в новые промышленные и транспортные регионы, которые не имели ни паспортных проблем, ни необходимой связи с деревней. Все эти факторы способствовали дезинтеграции деревенской жизни и усилили экономические контрасты. Они также усложняли сбор статистики средних показателей к распределению богатства в деревне. Энгельгардт писал в семидесятых, что «идеалы кулаков правят в селах».
Правда, в репаративных крестьянских общинах, где периодическое перераспределение земель между членами, имеющими тенденцию к сохранению эгалитарной системы, было меньше дифференциации: отсюда и популистская вера в некапиталистические пути России. Но и здесь более богатые, «твердые» крестьяне были в преимущественном положении; и, как хорошо известно, именно у них Столыпин, проводивший аграрную реформу при Николае II, искал поддержки. Они поощряли несправедливое перераспределение: они использовали свое влияние, заставив крестьянскую общину («мир») допустить земельный передел, и они даже умудрялись покупать землю от их имени с тайного или явного согласия власти. Все это побудило некоторых историков утверждать, возможно, с преувеличением, что это было крестьянское меньшинство, а не городская буржуазия, которая осуществила «буржуазную революцию» в России, и что это представляло собой фундаментальную разницу между русской «буржуазной революцией» и Западной Европой.
Но новый класс пост-освобождения также включал в себя буржуазию в строгом смысле слова: банкиры, крупные промышленники, менеджеры, администраторы, многие из которых были исконными дворянами. Они были более самосознательными и осознанными в своем социальном и экономическом эксперименте. Они стремились создать институциональную форму, в которую их энергия и самоутверждение могли быть применены. Они полагались на поддержку более прогрессивных элементов бюрократии, с которыми они были тесно связаны. Один из самых типичных представителей этого класса был невероятно способный и энергичный Сергей Витте. Он начал с младшей должности в провинциальной администрации железных дорог, чтобы в конечном итоге стать министром транспорта, торговли, финансов, а в 1905 году – Председателем Совета министров.
Так же, как и зарождающийся средний класс, промышленная и коммерческая революция породила сельский и городской пролетариат. Что же касается крестьян, то в любом случае, будь экономика свободной или привилегированной – они лежали в основе законопроекта. Но, конечно, это была «свободна» система, которая была лучше адаптирована. к развитию капитализма. Как было отмечено, земельная реформа во многом обязана тому, что землевладелец отдал предпочтение работе свободного, но безземельного сельского населения. Новый предприниматель был более остроумен, имея в своём распоряжении землю, так как многие фабрики и шахты возникали в загородных районах, неквалифицированные рабочие и даже квалифицированные, сохранили свои связи с сельским крестьянством, из которого они вышли, и «текучесть рабочей силы» или сезонный труд (отхожий промысел) оставались неизменной чертой индустриальной системы. Но анализ статистики временной и постоянной занятости работников-мужчин (около половины в 1884 году) говорит о том, что «связь с землёй» была во многом обусловлена завышенной оценкой и она быстро уменьшалась с ростом промышленности и торговли. я
С другой стороны, по уже приведенным причинам, освобождение в сельскохозяйственных районах привело к такому количеству увольнений, что «резервная армия» рабочей силы, доступной для промышленности, была в два раза больше (около пяти миллионов) «полевой армии» (около двух с половиной миллионов). В этих условиях работодатель считал себя, а деревенские пролетарии в поисках работы считали его, благодетелем в том, что он соглашался платить вообще хоть какую-то зарплату. Время шло, но зарплаты не росли, так как в какой-то степени вписывались в современное западноевропейское индустриальное общество, и даже снижались, за исключением тех случаев, когда работник обладал мастерством премиум-класса. Российские рабочие в первые годы после освобождения были, на самом деле, самой опустошенной, эксплуатируемой и непоколебимой частью крестьянства.
Даже в девятнадцатом веке в Англии, в относительно открытом обществе, с парламентскими учреждениями, процесс пролетаризации был достаточно жесток. В России он был неприкрыто жестоким. Основой всей системы занятости в промышленности была, или скорее оставалась, как под крепостным правом, тюремная модель. Это было знакомое явление, конечно же, не свойственное исключительно России, и любое предложение об улучшении условий рабочих (до 1882 года не было никаких реальных предложений, кроме скромных и неэффективных первичных проверках на фабриках) сталкивалось с сильным сопротивлением со стороны частных работодателей и их сторонников в правительстве.
Россия была на пути к тому, чтобы стать тем социальным зрелищем современной истории в целом, которая проектирует и воплощает в себе человеческую скупость, жадность и жажду власти, его одержимость бессмысленностью слов, его поклонение бессмысленным ценностям. В соответствии с этим, официальные и полуофициальные русские мнения продолжали отрицать или объяснять реальность любых социальных антагонизмов и даже само существование пролетариата в России, а позиция правительства была изложена наиболее четко в длинном меморандуме – что-то вроде официальной «книги утешений» – по поводу социалистического движения семидесятых и восьмидесятых годов в России, составленном генералом Шебеко, помощником министра иностранных дел под графом Дмитрием Толстым: «Россия», – писал он, – «самая неблагоприятная почва для развития менталитета социализма и анархизма, для организации забастовок, для воспитания общих вопросов, касающихся организации труда, или для пропаганды революционных идей. К счастью, ни бедняки, ни пролетарии не слышны в России. Россия занимает огромную территорию,содержащуюдостаточно богатства, чтобы гарантировать средства существования для огромного количества людей. По этой причине русский народ не прислушивается к далеким мечтам и химерам социалистов. Дерзкие агитаторы забыли принять во внимание историческую преданность русского народа монарху, который занимает следующее место после Бога в сознании народа. Русский народ по праву может видеть в будущем светлые, спокойные и счастливые перспективы, без страха перед социальными кризисами и потрясениями. Сильная в вере предков, сознающая национальную власть и объединённая в своей нежной любви к монарху, далекая от раздоров. и штормов, мирная, но твердая в международных отношениях Россия, может спокойно и уверенно ожидать великой судьбы, которую ей предначертало Провидение»
Тем не менее, документ подробно описывает деятельность «маленькой группы людей, которые пытаются посеять раскол», но которые могут быть легко устранены, в то время как люди знают, что «все, что им нужно, предоставлено правительством ».
Либеральная и консервативная российская пресса, («Вестник Европы», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» и многие другие) другие была единодушна в отношении вопроса о благосостоянии рабочих как «экономической фантазии, порождённой принципом грубой зависти», вопрос «необузданных страстей, «бессмысленных и аморальных посягательств на священный принцип частной собственности («Вестник Европы). Время от времени, допускались злоупотребления, в частности в либеральной прессе, посвящённые исчезновению выживших в дореформенных условиях, или бюрократическим элементам, препятствующих бесперебойной работе формирующегося здорового конкурентного порядка. «Это не сложно», – писали «Санкт-Петербургские ведомости, – «убедить себя в том, что наше общество не подвержено опасности от „общественных движений“ западного типа, что нет никаких следов классовой враждымежду русскими собственниками и рабочими, и что мы должны стремиться избегать его искусственного воспитания только с отдавая предпочтение одной группе за счет другой. » » » » »
Такие ведущие общественные деятели, как Катков и Победоносцев, даже отказались обсуждать этот вопрос на том основании, что в России проблема пролетариата и монополии капитала «не имеет отношения к делу. Консервативная «Московская газета обвинила в «анти-национализме группы в отдаленных районах страны (в частности, в Польше) в определении общественных беспорядков «проблемой рабочих. Она признала существование «некоторых недоразумений между рабочими и собственниками», но отнесла их к «чисто экстравагантным причинам, чья исключительность не определена, но сказано, что она «препятствует нормальному развитию свободного труда. » » » » » »
Умеренные популисты приняли другую, но сопоставимую позицию. Они предполагали фундаментальное различие в социальном и экономическом развитии между Западной Европой и Россией. «Благодаря деревенской общине, которая была потеряна на западе, но, к счастью, сохранился в России, – писала популистская «Неделя», – «наш работник – землевладелец: он может, следовательно, получать прибыль от значительной части его труда без вмешательства работодателя – ситуация, которая вышла из-под контроля на западе. Тем не менее, популисты считали, что обязательства ослабляют, в соответствии с Актом об освобождении (выкупные платежи, налоговые сборы, земельные налоги, и другие платежи) преимущества, в частности, предполагаемой независимости крестьянских работников, которые должны были извлечь прибыль из их землевладений. Немногие популисты в шестидесятых или даже семидесятых годах ожидали, что правительство или землевладельцы отменят эти обременительные обязательства и тем самым оправдывали свою популистскую веру. » »
Другие, например, Ткачёв, пошли еще дальше и признали существование конфликтов внутри деревенской общины, предвидев её последующую постепенную дезинтеграцию. Действительно, одна из самых важных мыслей в том, что популисты проявили иллюзорный характер политики российского правительства, придерживающегося убеждения, что «естественная гармония классовмогла стать мифом и лозунгом, но это не дает оснований предполагать. что конфликты интересов и амбиций между людьми или группы людей иллюзорны. И все доказательства показывают, что Россия ни в коем случае не была освобождена от этого бесчеловечного состояние. »
3. Раскольники и верующие
а) Консервативная Россия
Рост индустриальности, новые классы, новые формы и отношения в производстве сформировали только один аспект более крупного движения духовных и психологических изменений, в котором философская мысль, религия и литература сыграли свою роль. Против желаний царей, которые продолжали управлять империей как патерналистские землевладельцы, они невольно подменили концепцию общества девятнадцатого века как поля битвы за конфликтующие силы, за идею гармоничного механизма, построенную и управляемую всемогущим Провидением. Последняя идея уже была поколеблена в России Петром I, чья вихревая энергия привела к мучительной, но во многом поверхностной медикаментозной трансформации теократической России; был также брошен вызов декабристам и одиноким повстанцем «замечательного десятилети» сороковых годов XIX века. Но теперь общество в целом распалось и разоблачило глубоко сидящие проблемы и дилеммы. я
По-прежнему не было партий и почти не было политических организаций: только движения и индивидуумы. Бок о бок с новыми экономическими процессами, ключом к этому периоду является развитие идей и людей, которые заполнили переполненный холст, каждый из которых олицетворял разные темпераменты и работал исходя из новизны ситуации.
Можно выделить, грубо говоря, три группы людей и мнений: консервативная, либеральная и радикальная, хотя каждая из этих групп оттеняет соседние, пересекаясь с другими верноподданцами и даже порой восставая против самих себя.
Каким бы сильным ни был правящий, консервативный класс в России, он жил в страхе перед насильственной революцией изнутри и влияние извне отсутствовало, ему не хватало интеллектуального источника, чтобы сформулировать свои убеждения, как это сделал Эдмунд Бёрк для англичан или Жозеф де Местр для французской аристократии, чтобы опровергнуть идеалы Французской революции. Это правда, что Иван Аксаков, Катков и даже Победоносцев по-разному предлагали себя в качестве истцов проблемы рабочих. Они могли бы претендовать на титул русского Бёрка, но это определенно несправедливо по отношению к настоящему Бёрку, за исключением того, возможно, что они разделяли его несогласие с вторжением рациональных принципов в политическую жизнь и его презрение к «звездному идеализму». Так называемый «официальный национализм с его трехсторонней формулой «православие, самодержавие, народность», сделанной в качестве девиза для режима Николая I, продолжал быть превознесённым в официальных заявлениях и консервативной прессе. Но в нём не было ни интеллектуальных, ни моральных, ни культурных признаков содержания, и он ни на что полагался, кроме как на вооруженную охрану государства. Интеллигенция была рассеяна в разное время в неожиданные места, и иногда её находили и под Короной. Но немногие монархи там мало уважали интеллект, или были настолько стерильны в интеллектуальных и культурных отношениях. как последние четыре Романовых. Государственная мудрость для них и их прямых сторонников заключалась в том, чтобы вести войны или заключать мир за границей, и политике сохранения власти у себя дома. Идеи рассматривались в лучшем случае как полезное оружие политической войны, но в основном как подрывные доктрины, которые представляют угрозу стабильности, в то время, как имеющиеся интеллигентные люди использовались в качестве инструментов и бывали выброшены, когда их полезность притуплялась, или когда их интеллект был слишком очевиден и откровенен. »
Погодин и Шевирев продолжали проповедовать, что, говоря словами знаменитого замечания Бенкендорфа Чаадаеву (сделанного по-французски), «le passé de la Russie a été étonnant, son présent plus que splendide, et son avenir dépasse tout ce qu’une imagination audacieuse peut imaginer. Теперь к ним присоединился чрезвычайно влиятельный и способный политический журналист Катков, который, после 1862 года, под влиянием растущего революционного движения и польского восстания 1863 года, был призван экстремальной реакцией и завоевал заслуженный титул «диктатора русской прессы». Им также помогали такие люди, как биограф Каткова Николай Любимов, историк Устрялов, популярные писатели Болеслав Маркевич и Дмитрий Аверкиев, и прежде всего самый зловещий триумвират русской реакции: Победоносцев, Дмитрий Толстой и князь Владимир Мещерский. Туманный, экстравагантный национализм Погодина в их руках превратился в бесстыдный jingoism, в племенной, религиозный шовинизм, и в антисемитизм. Они выразили широко распространенные и официально поощряемые страх или недоверие к общественному мнению, хотя они и платили время от времени пустословием. Им не нравились споры, и они никогда не спрашивали и не допускали вопросов, когда было известно, что ответы могут быть неприятными. Они были авторитарны и утверждали, что они ответственны перед Богом за существующий социальный и политический порядок, хотя они и не проявляли терпения к мистические рассуждениям о вечной судьбе России. Консервативная пресса, официальные и полуофициальные сообщения, меморандумы и переписка изобилуют морализаторством, любимыми лозунгами и фразами, такими как «священное самодержавие, «любящий христианин», «монарх и армия», «незыблемость религиозные веры, связанных с «бережливостью и богатством, «утратой традиций», «опасным подчинением низших сословий мыслям и высказываниям, неслыханным среди простых людей всего несколько лет назад, и так далее. Последние преступления обычно приписывали недостойным мотивам, и считалось, что враг существующего порядка был либо бесчестным, либо сумасшедшим. » » » » » 10 11
Есть все основания полагать, что многие представители официального консерватизма были искренними, правдивыми и верными людьми. В злодеев их превратили не их индивидуальные качества, но рабство их собственных убеждений – вся иерархия существующего порядка, от которого они зависели, с которыми они идентифицировали себя и для обслуживания которого были задействованы все средства и силы. Таким образом, они воплотили в себе все атавистические предрассудки, которые обезобразили социальную и духовную сцену России до конца монархии. Они были консерваторами, но только одной частью консерваторов атрофированной России, не имеющей моральных и интеллектуальных рефлексов, от неспособности или нежелания распознать реальные источники разочарования.
Другая консервативная Россия была представлена еще двумя менее отчетливыми, но взаимозависимыми группами: славянофилы и почвенники. Судьба ранних славянофилов не вписывается в рамки этого повествования. Хомяков, братья Киреевские, и Константин Аксаков не пережили освобождения. Их влиятельные последователи и союзники включали в себя Ивана Аксакова (1823—86), Александра Кошелева (1806—83), и редактора наиболее значимого журнала славянофилов, «Русская беседа», Юрия Самарина (1819—76), князя Владимира Черкасского (1824—78) и Александра Гильфердинга (1831—72). Они продолжали поддерживать основу славянофильской веры, и в целом не потеряли естественную порядочность и энтузиазм, которыми отличались их более выдающиеся предшественники. Но они были менее идеалистичны, менее щедры, и менее отданны утешениям патриархата, любви и романтической ностальгии, хотя и продолжали считать греховным все, что разделяло русский народ. Основа славянофильского представления в том, что общественная жизнь и культура нации могут существуют как чистая сущность, развивающаяся в соответствии с установленной схемой, божественно задуманным национальным гением, и отступление от этой модели сопровождается нежелательными социальными изменениями и является результатом коварно развращающего влияния извне; это понятие все больше становится устройством для отвлечения внимания от внутренних источников конфликтов и изменений. Хомяков в целом был культурным европейцем, без презрения к человечеству и порой даже мог видеть. обе стороны проблемы. Он и его товарищи-славянофилы были менее всего осведомлены о некоторых трудностях, связанных с отношением их мифов к реалиям истории, их безвестность и рассеянность в основном встречается в тех частях их доктрины, которые идут от воображаемых ими нравственных и социальных миров; их преемники ничего не знали о таких трудностях, и они легко и беспрепятственно использовали славянофильскую мифологию, как замену светским целям.
Правда, Иван Аксаков с Самариным и Кошелевым, защищали право на свободу слова. Но они также отображали большинство узких политических и националистических предрассудков, которые выдавали современный официальный консерватизм. Это стало особенно ясно в случае с Аксаковым, когда он добрался до высоты его политического влияния. История с поддержкой движения за освобождение балканских славян стимулировала распространение великого русского национализма и панславизма. «Славянофильство без всяких фантазий, но и без всякого стыда», как это описал Владимир Соловьев. В отличие от многих другие русских, Аксаков стал панславистом не потому, что он почувствовал «желание сделать что-то, чтобы избежать невыносимой апатии и скуки» (Пипин), но от глубокой и страстной убеждённости. Политика России на Балканах была для него «реализацией нашей священной миссии», которую ни Русское Княжеское министерство, ни даже царь не разделяли, но которыми они умели пользоваться до тех пор, пока не стало ясно. что интересам России лучше служить, отказавшись от дальнейших приключений на Балканах. У Аксакова было разбито сердце, когда он оказался преданным богами собственного творения.
Процесс, который сделал славянофилов глашатаями реакции, может быть рассмотрен в дальнейшем в карьере Аксакова как журналиста. Он начал редактирование «Дня со смелых призывов к свободе. Но вскоре голос Аксакова стал почти неразличимым среди официальной прессы по основным вопросам дня, в частности, отношению правительства к крестьянскому вопросу, репрессивным мерам против университетов и радикальной интеллигенции, гнёт в Польше и политику России на Балканах и на Востоке. «Ден перестал публиковаться главным образом потому, что он стал убыточным и, как откровенно признался сам Аксаков, его преемники, газеты «Москва и «Россия» существовали только до тех пор, пока они отражали правительственную линию. » ь» »



