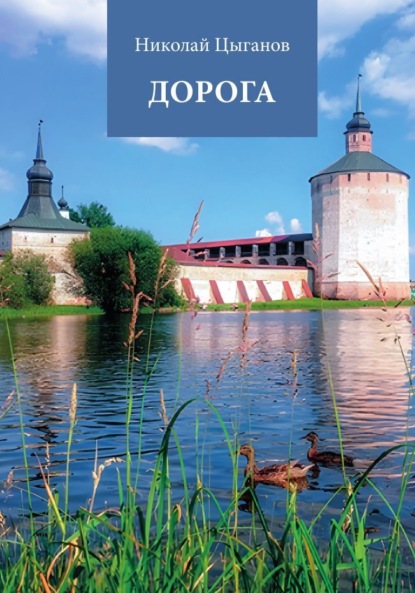Полная версия
Курдюг
Машина шла тяжело, ухая в выбоины, которых было такое множество, что даже сам сопровождающий, Владлен Григорьев, только морщился устало… Кажется, тут свет клином сошёлся!
А по обеим сторонам дороги с бесконечной тягомотностью тянулся чёрный лес; проехали небольшое кладбище, и Владлен Григорьев вполголоса рассказал, между делом кивнув на краснорукого водителя, не имевшего ни бороды, ни усов, ни на голове волосов:
– Глухой, здесь такие и нужны… А на кладбище этом зэки горемычные лежат. Сгорели они, пятеро, разом – как и не жили. А дело такое: переезжали из одного оцепления в другое, вагоны ещё деревянные были. Дороги вёрст двадцать, не меньше. Да ещё гэсээм в придачу надо было отдельно перекинуть, а тут – зачем лишняя волокита! – подцепили к вагончику с людьми – и вперёд. На новое место. По пути кто-то покурил, а чинарик и бросил в сторону, по привычке. Что люди, то и мы… Скоро и занялось. А деревянное – разом пыхнуло! Охрана повыскакивала, оцеплением встала, автоматами щелкнули – к бою готовы! Весёлое горе – солдатская жизнь!.. А в вагоне уже вовсю полыхало, ни жить, ни быть. Мужики орут, окна с решётками высадили – и на волю гуртом рваться!
Начальником конвоя был прапор Бись, Михайло Маркович, он по гражданке ещё в медиках начинал, да на первых порах всё не в своё дело норовил лезти – помогал встречному да поперечному. А на добреньких воду возят, сразу и надорвался. Быстро смекнул, в чём дело, да в общий ранжир и встал. И здесь тоже: то ли растерялся, то ли совсем испугался – матерится: «Стрелять буду! Назад! По местам!» А куда назад? Назад уже некуда – только вперёд!.. Тогда Бись и орёт конвою: «Огонь!» Пальба открылась такая, что эти пятеро побоялись и нос из вагона высунуть, ведь решето сделают и глазом не моргнут. Правда, потом выяснилось, что стреляли поверху, да после драки кулаками не машут. Так они, бедные, руками обхватились друг с другом в обнимку, да и сгорели… Вот ведь как: свет велик, а деваться некуда…
Взгляни-ка на меня; горе идущему, горе и ведущему!..
– Было хоть что-нибудь начальнику конвоя?! – сорвался я на внезапный крик на одном особо тряском месте: меня как-то необычно бросило вбок влево – и сразу же вправо, а следом – вверх, и я разом взмок; как ни гнись, а поясницы не поцелуешь…
– Известно дело, парень, – сопровождающий впервые глянул мне в глаза, – вологодский конвой шутить не любит: шаг влево – агитация, шаг вправо – провокация, прыжок вверх…
Тут его и самого столбиком под крышу подкинуло, но он, казалось, не обратил на это внимания:
– А прыжок вверх – попытка к побегу. Спускаю собаку. Собака не догонит – пуля догонит; пуля не догонит – сам раздеваюсь!..
Так говорил Владлен Григорьев, сам в своё время отсидевший здесь от звонка до звонка, а по освобождении оставшийся в этих местах, и до сих пор работавший механиком на нижнем складе.
– А насчёт было или не было… – Владлен для чего-то попротирал лобовое стекло. – Да ничего: в другую колонию перевели. Можно сказать – повысили. Здесь все и без того круглые сутки как под конвоем. Спроси каждого первого: только и мечтают любыми путями отсюда выбраться. Гиблое место. Тут говорят: кто в Курдюге пять лет отпашет, можно «Героя» давать, – усмехнулся сопровождающий и добавил: – Или «орден Сутулова»… А если серьёзно: человек приказ выполнял, а они не обсуждаются. Да в этой мутотени, как нечего делать, в два счёта и в бега податься. Не скоро и на след выйдешь: кругом тайга…
Но не успел я собраться с ответными словами, как впереди вдруг блеснул свет прожектора: чисто и одновременно как-то зловеще маячил он из темноты, вызывая неосознанную тревогу… И побежала дороженька через горку!
– Нижний склад, – выпрямился Владлен Григорьев. – Считай, на месте. Через два кэмэ – и посёлок.
В Курдюге машина взобралась на взгорок, оказавшийся после мостиком, и следом выхватила фарами торчащий на обочине щит, на котором поверху крупно было написано: Что? Где? Когда? – А ниже, на обрывке киноафишной бумаги, глаза успели пробежать: «ЗДЕСЬ ТЕБЯ НЕ ВСТРЕТИТ РАЙ».
Со щита как ветром сдуло взлохмаченную ворону, умчавшуюся в темень с хриплым криком, похожим на колдовской хохот сказочного злодея: «Ур-ря! Ур-ря! Ур-р-ряяя!..». Родясь, не видывал, умру – не увижу.
Машина, взревев, остановилась возле двухэтажного деревянного здания – штаба учреждения, над входной дверью которого, под лампочкой в железной сетке, красовалась надпись: «ВОСПИТАТЕЛЬ САМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОСПИТАН».
Напротив, освещенный, стоял тепловоз с прицепленными вагонами, из которых, спрыгивая, цугом, шли люди, одетые в чёрную одежду, – и прямым ходом к высоченным открытым воротам, окованным железом; с обеих сторон состава – молчаливые и усталые – солдаты с автоматами на изготовку; у одного с накрученного на руку поводка рвалась заходившаяся в лае овчарка; что-то кричали друг другу несколько офицеров возле шумно работающего тепловоза; из кабины его безучастно вертел коротковолосой головой молодой парень в шапке, лихо посаженной на макушку…
Начало трудно, а конец того мудрён; и направился я в штаб: первая дверь налево, постучал и услышав: «Войдите!» – не помня себя, шагнул.
За двойной дверью с тамбуром – комната; дюжина стульев, у зашторенного окна стол, а на стенах, обитых коричневыми листами дэвэпэ, несколько красочных таблиц и портрет главного чекиста, выполненный, видимо, самодеятельным художником. Потом оказалось, что практически во всех служебных кабинетах была такая же работа, только в режимной части она отличалась чем-то назойливо-неуловимым, а чем, наверное, так и останется для всех тайной. Да много знать – мало спать.
За столом, опершись локтями на полированную столешницу, сидел майор с приплюснутым носом и блестяще-коричневыми глазами, которые смотрели на меня немигающе и внимательно. Изучали да запоминали.
– Заместитель начальника учреждения Мирзоев Рамазан Рамазанович, – в ответ на мое представительство почти без акцента ответил майор и, привстав, крепко-накрепко пожал мне руку. – Ждём, ждём. Давно ждём…
И, пригласив сесть, Мирзоев с неторопливой дотошностью стал расспрашивать: верно ли, что я пошёл на службу добровольно, а также кем являются мои родители, и где я жил, учился и трудился до того, как…
Невелика недолга, и уж мои-то данные Мирзоев мог и без того сто раз выяснить, но я вспомнил, успокоившись, о характеристике, данной сопровождающим моему теперешнему начальству: «Ваш начальник, наверное, и во сне держит руки по швам. На всякий случай».
Зазвонил один из трёх телефонов, аккуратно расставленных перед руководителем. Мирзоев стремительно овладел трубкой и, внимательно выслушав, побурел на глазах – сменился с лица:
– Нельзя этого делать!.. – Он сморщился так, что верхняя губа подползла к кончику носа. – Мы тут посоветовались, – Мирзоев обвёл отсутствующим взглядом комнату, ни на чем конкретно не задержавшись, – и я решил: всё оставить по-прежнему!
Было понятно, что у него здесь все на местах, как соловьи на гнёздах.
Несмотря на мои отнекивания, Мирзоев споро договорился об ужине в роте, и мы с ним славно ударили по щам и гречневой каше, на верхосытку дунув ещё по стакану компота. Не хуже, чем дома.
Общежитие, в котором мне предстояло жить, оказалось напротив солдатских казарм. Комната с узкой кроватью и столиком у окна была на одного. На завтра до обеда мне разрешалось знакомство с посёлком, а потом ждала зона и обход по ней вместе с Мирзоевым. На том мы с начальством и расстались. Переводя дух, я огляделся: главное, жить можно, терпимо.
Говорят, что милует Бог и на чужой стороне; и эта комната с солдатской кроватью да столиком у окна заменит мне отныне родной дом.
Надолго ли?.. Теперь уже поздно решать – сам выбрал. Конечно, если глаза маленько разуешь, то спервоначалу любому не по себе станет. Но ведь жили здесь люди и до нас, будут жить и после нас. Разве не так? Что было – то видели; что будем – сами увидим; а ещё и то будет, что и нас не будет!..
Не выходит из ума, как мать любила говаривать: обомнётся, оботрётся – всё по-старому пойдет. А я всегда был в нашу родовую, тоже следом не отстаю: наше место свято!..
Разобрал я кровать – лёг прямо в пиджаке, с головой укутавшись, а после уснул разом так крепко, хоть свищи, душа, через нос! И спал до самого утра, как маковой воды напившись.
2.Утром выяснилось, что посёлок полностью находится на болоте, поэтому повсюду были мостки. И вдоль, и поперёк. Дома как на подбор: все барачного типа, разбросанные по обеим сторонам речушки Курдюжки. Возле общежития – магазинчик, следом пекарня, из которой валил чёрный дым, а на крыльцо то и дело выбегали лысые молодцы в исподнем с неизменными папиросами в зубах; ничем не примечательный садик и столовая примостились на окраине елового леска, из которого, добрые люди сказали, порыкивал порой мишка да шлялись рыси с волками; а ещё – библиотека.
Сюда я вошёл поспешно, – только что не вбежал.
Библиотекарша, невзрачная и бледная – в чём только и дух держится! – медленно выводя буквы, заполнила карточку. Между двух стеллажей – как тут и был! – бюст Фёдора Михайловича Достоевского; незабываемый взгляд его точно вопрошает о главном: о чём-то родном и давно забытом…
Здесь я и остался – взял «Дневник писателя», в свое время так поразивший меня и заставивший о многом задуматься, крепко и надолго.
А выйдя из библиотеки, выяснилось, что в стороне, откуда мы приехали накануне, с трассой пересекается дорога, проложенная деревянными настилами и огороженная с обеих сторон колючей проволокой; над всем этим – множество столбов с лампочками под чёрными жестяными абажурами…
И потом, редкими свободными вечерами, непонятно отчего приходил я сюда и, незамеченный, смотрел, как идут и идут, растянувшись в длинную тёмную цепь, люди; и, точно живые, стонут и шевелятся под ними скрипящие и шатающиеся мостки; лай овчарок и хриплые грозные окрики; и хотя во время следования разговоры строго-настрого запрещались, – голоса, голоса, голоса…
До сих пор неведомо, что же заставляло меня приходить сюда, к этой старой, расщепленной временем берёзе, скрывающей от чужого взгляда, но только доподлинно ясно: не узнав горя – не узнаешь и радости…
«У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся, но есть, необходимо, и жизнь, вновь складывающаяся на новых уже началах. Кто их подметит и кто укажет? Кто… может определить и выразить законы и этого разложения и нового созидания?..» – читалось потом в «Дневнике писателя». А болящий ожидает здравия даже до смерти. Век живи, век надейся!..
«ВХОД В ЗОНУ ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ», – гласило на зелёной железной двери пропускного пункта при входе в жилую зону осуждённых. И узкоглазый солдат с красными погонами всё не мог взять в толк, что на меня выписан пропуск, пока не появился сам Мирзоев, после чего мы, благополучно миновав препятствие, прошли несколько десятков метров и открыли дверь в дежурную комнату.
Но я успел-таки по пути оглядеться: кругом стенды да длинные дома-бараки, а на каждом из них – прожекторы, в этот час с бездействующим светлым глазом, потому что при необходимости фонарики горят да горят, а видели ль, не видали, понятно, ничего не говорят…
При нашем появлении всем как подсыпали перцу: вскочил за барьером сержант-сверхсрочник с повязкой на рукаве, а за порогом, вытянувшись, ожидал и сам дежурный: полный лейтенант со вскинутой к шапке растопыренной пятерней.
– Товарищ майор! – рявкнул он. – За время дежурства происшествий не случилось. Докладывает помощник начальника колонии лейтенант Сирин!
– Вольно! – покачал головой замполит, с любопытством глядя на дежурного: – Ну, Сирин, ну, Сирин…
– А что, Рамазан Рамазанович, по уставу действую. У меня закон – от устава ни на шаг. Железно!
Мирзоев дернул щекой и представил меня: мол, прошу любить и жаловать. Новый начальник отряда Цыплаков Игорь Александрович – собственной персоной.
– О, пополнение, – заулыбался лейтенант во всю ширину рта. – Дело, дело! – А голос-то что в тереме!..
Знакомство с зоной началось с клуба, к которому была пристроена библиотека. В клубном зале находилось полно коричневых крепких лавок со спинками, пронумерованных белой краской. Только около входа несколько скамеек выявилось без чисел – для администрации: здесь бывают сотрудники во время мероприятий; над головой – аппаратная… Экран – деревянный щит, обтянутый белой материей и отделяющий сцену от зала, – поднимался к потолку и возвращался обратно завклубом, который сейчас мелким бесом вертелся вокруг да около и с молчаливо-благосклонного согласия начальства рассказывал обо всём этом, сладко жмурясь. Такой и до Москвы напоказ без спотычки побежит – только заикнись!..
Длинные и серые бараки отрядов походили друг на друга, как родные братья. Разница состояла только в расположении: если первые три находились едва не вплотную, то остальные полукольцом охватывали зону.
В середине была вечерняя школа, столовая с медчастью и комната с надписью: «Совет коллектива колонии». С торца неуклюже приткнулось ещё строение, где новички проходили карантин. Вроде и не просторно, да дворно. А на видном месте – напротив библиотеки – штаб, в котором помимо кабинета начальника колонии располагались и помещения его заместителей; в промежутке – небольшое поле. Здесь в хорошее время гоняют в футбол, а зимой это поле заливается водой, и на нём происходят нешуточные хоккейные баталии. Во всяком худе и верно, что не без добра.
Но вот и общежитие отряда, который мне предстоит со дня на день брать в свои руки… Вошли. День мой – век мой; что до нас дошло, то и к нам пришло… Навстречу метнулся осуждённый – жердяй, в плечах лба поуже; брови – что медведи лежат; в нитку вытянулся перед замполитом, ни одна складка не скользнёт по чёрной спецовке, сапоги – зеркалом; доложил:
– Завхоз отряда Сугробов! Отряд занимается по распорядку дня! – А сам неприметно на меня посматривал: конечно, известно, что ждется новый начальничек-начальник.
– Ознакомьте Игоря Александровича с отрядом! – коротко достал языком Мирзоев.
Завхоз Сугробов деловито наладился объяснять расположение вверенного отряда, старательно помогая руками, глазами и даже своим подвижным телом: только знай, запоминай. После входного тамбура следовало фойе – всё в стендах, заполненных сводками, таблицами и призывами. Слева – две двери; здесь живут звенья отряда – по две секции в каждом помещении; справа – то же самое. Прямо пойдёшь – дверь начальника отряда, а впритык, через тамбурок, вход в курилку с умывалкой.
В секциях – койки в два яруса, заправленные на удивление чисто, с подверткой простыни по одеялу, а между койками – одна на другой – самодельные тумбочки. В конце секции – ещё двери: там каптерки, в них для одежды и обуви расположены шкафчики, встроенные в стену; на всём прибиты и прикручены таблички с указанием фамилии, отряда и звена осуждённого. А у входных дверей – алюминиевые бачки с водой. Все рассовано по своим местам – по сучкам да по веточкам, – просто, никаких излишеств.
Завхоз Сугробов, объяснявший деловито и толково, вьюном заходил то с одного, то с другого бока, а замполит тем временем скрылся в кабинете отрядника, куда мы вошли в последнюю очередь. И здесь глаз хозяйский на месте – прямо стол начальника отряда, напротив завхоза; десяток стульев, сейф и полка с документацией, а над окном, в разрисованных яркими красками горшочках, пущены к жизни цветы… Работай да любуйся.
Тут зазвонил телефон: майора Мирзоева приглашали в дежурную комнату зоны. Быстро выпроводив завхоза, замполит поинтересовался о моих впечатлениях и посоветовал остаться в отряде до вечера, который уже был не за горами: поговорить и познакомиться с людьми, а затем – при желании – сходить в кино, объявленное по случаю предвыходного дня. Засим крепкими пальцами застегнул на жёлтые пуговицы свой пятнистый бушлат, жамкнул мне руку – и только его видели.
Так всё это непривычно и неожиданно! Точно сон… Да только много спать, так мало жить: что проспано, то уже и прожито… Так и сяк повертелся я в самодельном вертящемся кресле, поперебирал бумаги на столе, что-то неопределенное представляя, воображая…
Пройдет полгода, и будет присвоено первичное офицерское звание, как было обещано на собеседовании в областном управлении, куда я сунулся по настоятельному совету одного служивого приятеля, уверившего меня в правильности этого, единственно верного решения… А там, глядишь, уже и в форме бегаю: брюки с красным кантом, на плечах звездочки поблескивают-посверкивают, галстук опять же… Смешно и грешно, но что-то ведь хочется, о чём-то всё-таки думается… Хотя почём знать, чего не знаешь. А уж если впрягся, – лучше веру к делу применяй, а дело к вере, тогда всё и будет, как на душу положено.
Вскоре за вежливо вошедшим завхозом Сугробовым потянулись по делу, но, кажется, больше без дела другие осуждённые: все, как один, с красными треугольными нашивками на рукавах; с завхозом переговариваются вполголоса, а то возьмут да о чём-нибудь и меня спросят… Вот так я, чуж-чуженин, и становился семьянин, а какой же мирянин от миру прочь?..
Дверь с грохотом распахнулась, и передо мной человек вырос: поперёк себя толще, да на щеке бородавка – телу прибавка; в горле петух засел:
– Гражданин начальник! Крысу поймали! Что делать? Крысу поймали!..
Ума не приложу: смотрел то на него, то на завхоза:
– Да что делать?.. Убить и выбросить. – Долго думать, тому же быть, да и лишние догадки всегда невпопад живут.
А завхоз Сугробов, прислушиваясь к шуму и грохоту в курилке, довольно улыбался:
– Оторвут сейчас от хвоста грудинку… «Застегнут» они его, гражданин начальник. Как пить дать – замочат!
– Кого – «его»? – всё не мог я понять. – Крыса же «она»! – Аль я уши отсидел?..
А у завхоза по-прежнему рот до ушей:
– Кто в тумбочках крадёт, крыса по-нашему. Крысятник. Вот по заслугам вора и жалуют.
Много учён, да не досечен, – кинулся я в курилку, а завхоз за мной – обогнал и блажанул:
– Мужики, завязывай! Проучили – и хана!
В курилке – спиной к печке – мужичок прижался: глаза на нитке висят, по пояс юшкой умылся, сопит и всхлипывает. Увидев меня, все расступились и отодвинулись. Ждали: каким глазом взглянет?..
– Разойдись! – себя я не узнавал. – Все по местам! Сам разберусь! – Развернулся, а мужичок следом за мной: голосом пляшет, ногами поёт – спасся!
В кабинете завхоз Сугробов передо мной верёвки из песка вил:
– Гражданин начальник! Слово-олово: больше пальцем не тронут, кому охота срок за гниль тянуть.
Попало за дело. Никто не видел и не слышал. Слово-олово!
Так сработано, что не придерёшься. Думаю, добро, шпана замоскворецкая: видно, всю вашу хитрость не изучишь, а только себя измучишь. Но одно здесь верно: слушай в оба, зри в три!..
Как раз по селектору на всю зону и фильм объявили: «Внимание! Завхозам отрядов построить осуждённых и привести в клуб для просмотра фильма «Возьму твою боль»!
Вроде и у дела я оказался: в два счёта построив людей возле отряда, завхоз доложил о готовности, на что я неопределённо дёрнул головой, а завхоз скомандовал: «Шагом марш!» – И я уже со своим законным отрядом, немного сбоку, как и положено начальству, дошагал до клуба; кругом слабые и тусклые огоньки лампочек на столбах, зябко да неуютно…
Зато возле клуба светлынь: подходили отряд за отрядом, завхозы докладывали дежурному Сирину, и тот своим зычным гласом: «Давай, урки!» – разрешал вход. А у клубных мостков помощник дежурного – чернющий прапорщик, едва до пупа не расхристанный, схватил за грудки осуждённого, мальчишку, пытавшегося в неустановленных по форме одежды ботинках взобраться по крутым ступенькам клуба:
– Ти-и… че-эго это виисиваешь? Па-ачему тут висиваешь?!
Малокровный и съёжившийся парнишка, запахиваясь в великовозрастную фуфайку, оправдывался:
– У меня плоскостопие, разрешено медчастью. Можно пройти?..
Но у прапора, внезапно налившегося кровью, как бы отслоились толстые выразительные усы:
– Марш в отряд! Ка-а-аму гаварю!..
Между делом подключился и Сирин:
– Что, не ясно? Посажу!
Кто барствует, тот и царствует; и пошагал, головушку опустив, стриженый-бритый, к родному общежитию-бараку. Одиноко да понуро: отлежаться, носом в подушку сунувшись.
– Всё верняком, – подмигнул мне Сирин. Пощёлкивая пальцами, он прищурил глаза и вдруг попросил, как рублём одарил: – Слышь, будь другом: посиди в клубе, пока фильм идёт. А то весь наряд на обходе. Один остался. Выручай, братан.
Конечно, спрос не грех, да и отказ, наверное, не беда. Да вот только не всё то есть, что видишь. Е с т ь у молодца не хоронится, а н е т – не воротится.
Вошёл я следом за последним в зал. Дверь закрыли на защёлку, чтобы не вовремя пожелавшие не лезли, свет выключили – и фильм начался.
Сидел я, точно оглушённый, на лавке бок о бок с пожилым, глянувшим на меня исподлобья, но выбирать уже не приходилось. То и есть, что двадцать шесть…
Из аппаратной – легкий хрупкий треск, струилась сверху песочно-лунная, прозрачная дорожка… На экране – титры: ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ… Шла война, – до сих пор в воспитательных целях сохранилась полезная привычка показывать такие фильмы, – и на глазах ребёнка немецкие прислужники убивали его мать и сестрёнку; и слышал мальчишка в свои неполные восемь лет последний крик матери и плач сестрёнки; и болью сердце гинет, ведь все мы одной матери дети…
И видел я боковым зрением, как плакал молчаливо мой пожилой сосед: растеклась под глазом светлая морось, к щеке подсбегала маленькой и горючей капелькой… И дикими мне показались думы подпольные, страхи летучие: хоть и не ровня, так свой же брат – человек человека стоит. Одним миром мазаны.
И долго ещё потом меня мучило – уже дома, в своей комнатушке, бессонной ночью, одинокого и далёкого ото всех родных и близких…
А ещё поразило меня то, что я как будто и не нашёл в этой жизни, в своих первых впечатлениях, ничего особенно поражающего или, вернее сказать, неожиданного. Всё это словно и раньше мелькало передо мной в воображении, когда я старался угадать свою долю.
Молвя правду, правду и чини; и хотя судить о человеке, не зная его, – дело последнее, но увиденное мною заставляет задуматься о том, что боль собственного сердца сострадающего прежде всяких наказаний убивает его своими муками. И он сам себя осудит за своё преступление беспощаднее и безжалостнее самого грозного закона…
3.Утренняя планёрка проходила на втором этаже штаба, в просторном кабинете начальника колонии полковника Любопытнова Виктора Ильича, пожилого уже человека с совершенно седой круглой головой и серо-чёрными с завитушками к вискам бровями. Сказывают, твёрдостью и определённостью при решении служебных вопросов он даже завоевал расположение мало кому верящих подопечных за колючей проволокой.
Среди старожилов посёлка упорно бытует легенда, что будто к одному из дней рождения начальника – без добрых дел вера мертва! – подарили ему осуждённые собственноручно изготовленный автомат, смастерив его на нижнем складе и тайно, по частям, доставив в жилзону, где возложили новенькое, смазанное оружие прямо на стол уважаемого человека, разумеется, до прихода того на рабочее место. Мол, кто нас помнит, того и мы помянем.
И этому как-то трудно было не верить, как и тому, что однажды некий изобретатель этого «колючего окружения» умудрился сконструировать ещё из бензопилы «Дружба» подобие вертолёта, затем на свой страх и риск даже сделал попытку подняться в воздух на сём агрегате в ночное, относительно безопасное время, но всё же был замечен обалдевшим часовым, а следом и благополучно подстрелен, упав за запретной полосой. После чего изобретатель был подлечен, где следует и поощрён – раз на раз не приходится! – далеко не по изобретательским заслугам: осуждён дополнительным сроком в колонию более строгого режима.
– Значит, туда и дорога, – смеялся перед планёркой дежурный Сирин. – А живи попроще и без затей, проживёшь сто лет. Соображать надо!..
Коренастый и плотный, быстро вошёл начальник колонии, точный минута в минуту. Посерьёзневший Сирин скомандовал офицерам, полукругом сидевшим в кабинете начальника:
– Товарищи офицеры!.. Товарищ полковник, лейтенант Сирин дежурство сдал!
– Капитан Брусков дежурство принял!
– Товарищи офицеры… – миролюбиво ответствовал начальник, что означало: прошу садиться. И все деловито расселись по местам, за исключением Сирина и заступавшего на дежурство капитана, у которого было бы грех спрашивать о здоровье, глянув на его лицо.
А лейтенант Сирин наладился привычной скороговоркой:
– За время дежурства происшествий не случилось. Осуждённые занимались по распорядку дня. Вывод на объекты и возвращение в жилзону соответствует учётным данным. Вечерний приём спецконтингента проводился медчастью, спецчастью и бухгалтерией. В вечернее время демонстрировался фильм. Оценка наряду осуждённых «удовлетворительно», дежурному наряду контролёров – «хорошо». Лейтенант Сирин дежурство сдал!