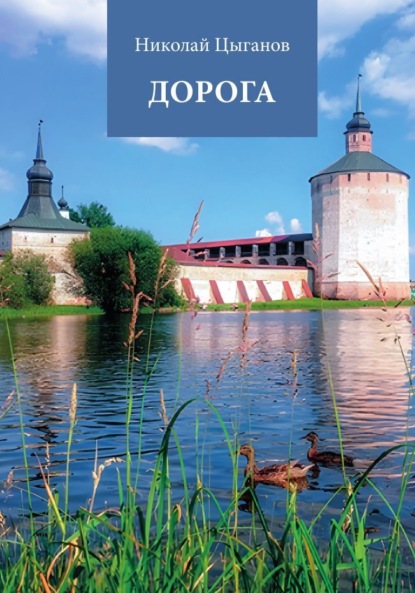Полная версия
Курдюг
Оное заведение на этом месте и поныне, как сноп в овине, мимо не пройти. Сразу навстречь дороги и приветствует своей внушительно-наддверной надписью: «Почта России», легка на помине. Пониже – что люди, то и мы – современное новшество: в замысловато-серой окантовке над резным окошком вклеено слово «киберпочта», и в то оконце лезет белая кошка, – так настырно заливает, палит оттуда белым светом от невесть какого невидимого глазу источника. В придачу ещё в такой палючей жарыни и саму площадь с торговыми рядами сразу не разглядеть, отныне выставленными городом для всеобщей продажи. Похожее даже во сне бы не привиделось этому же Егору Прокудину, после освобождения приодевшемуся в сих торговых местах, и пожелавшему отсюда в поисках долгожданного покоя «шаркнуть по душе».
Тем часом мы уже остановились дыхание перевести у самого почтового крылечка возле очередной скамейки, изготовленной умельцами так, что будьте-нате было взглянуть, а не то, что отдохнуть. Оставалось ещё добраться до центральной площади, что с торговыми рядами, а дальше быть и больнице, куда мы правили черепашьим ходом: моя спутница и с поддержкой еле-еле ноги передвигала. Тамошним врачевателям хоть день-деньской звони-зазвонись, во все колокола трезвонь, – ни ответа, ни привета, как поголовно вымерли: пришлось, худо-бедно, пешим порядком и тащиться до места.
А из-за открытой почтовой двери, откуда веяло распахнуто-жёлтым зноем – как сами жданки и ждали – возьми да как мигни тот, достопамятный эпизод из кинокартины, что снимался в переговорном пункте почты. Только что хлебнувший воли вольной человек в красной рубахе и кожаной куртке по настенному, заметных размеров аппарату и говорит своим слегка задиристым, но уже домашним, не зоновским голосом: «Алё, здрасте». След ещё толком не остыл от тех Прокудинских казённых кирзачей, в коих уже свободным он вышагал, верно, по неоглядным, ни конца ни края не видно, тюремным мосткам вологодского «пятака», чтоб затем из этого переговорного столь доверительно кому-то своему и напомнить в телефонную трубку: «Это я – Горе».
Так с годами всё тут по-старому и оставили, как до нас расставили. Не сдвигаемо занимал обычное место у входа тот же эллипсоидно-объёмный стол, обретшийся напротив высокого, лакировано отсвечивающего ящика с почтовыми номерами «до востребования». Дополняла вид ещё пара переговорных кабинок с расхлябанными дверками и, особенно запоминаемо, – именно соседний, шукшинско-прокудинский настенный телефон с эбонитовой трубкой на стальном пружинном проводе.
Как на ладошке и видится тот, кто сейчас же вместо нас – знать не знаю, а дело моё, – одним духом, не теряя времени даром, и заказал разговор по коммутатору, одуматься не успеешь. Не снова ли здорово кто-то и подшепнул нам опять без спроса сунуться не в своё дело, горе ты луковое? А по-другому и не узнать было бы решение самого хозяина, без чьего изволения даже волос не упадет с головы, состоящего на службе, младшего по положению лица.
Но когда воспринявшему слухом и коснулось уха приглашение к тому самому настенному телефону, даже у почтового крыльца селекторным голосом разнеслось: кто бы диву ни подивился? Телефонная трубка не только сохранила свой цвет с прошлых лет, хотя эбонит на ярком свету и приобретает некий зеленоватый оттенок, но, вызвавший огонь на себя, даже ощутил толчок какой-то силы, схожий с внезапным приливом крови, когда рука крепко-накрепко сжала увесисто-громоздкую трубку.
«Глянь, сколько хороших людей кругом, – с закадрово-шукшинской интонацией враз и толкнуло изнутри, – моментальным живительно-волшебным кровотоком и принеслось из концовки легендарной картины. – Надо жить, – неведомо из какой дали далёкой, а может, просто из самой души напоминаемо передавал оттуда родной голос. – Надо бы только умно жить…»
«Эк, куда хватил, – тотчас в действительности уже внушительно и отозвалось в трубке с ответной стороны, не внявшим просьбы начальником, что в одноразку, не дослушав, с места в карьер и вправил мозги подчинённому, только держись. – Каким ещё родственникам надо кого-то отдавать, – нагнал сорок бочек арестантов! Или приказы министра уже не указ: даже власть, как дед репку, садят, а у нас в одну минуту сам сизым голубем за решётку загремишь! – даром давали мне пару с лагерного боку на всю припёку. – Как раз из изолятора дружок убиенного Ворон по концу срока освобождается, – туда и отправим до этапа, чтоб на всю жизнь полные штаны радости были!» – С того места, где было лихо да стало тихо, что-то ещё последом буркнуло по-тарабарски, и связь после щелчка, как приснилась, вовсе пропала без вести.
А если так сказано, всё равно, как по нам смазано: что правда, то правда, с сумой да тюрьмой никогда не бранись, сам попадешь. У кого своя рука владыка, ещё с дорогой душой зашлёт и на кудыкину гору, куда Макар телят не гонял. Запоёшь тогда, пропащая душа, не своим голосом. Этого только мы и ждали? Свято место пусто не бывает, и если дальше лезть поперёк батьки в пекло, то недолог час и уже тогда всем, нерадостным на чужое горе, тоже доведется самолично лицезреть родное небо в клеточку.
После этого, пусть себе руганному, да пока недоруганному, и осталось лишь от самого крыльца не взглядывать с лица, чтоб не встретиться поглядкой с понимавшей всё на свете матерью отошедшего в мир иной бедолаги. Но чтобы там ни было, какие ещё силы и дохнул в жилы один лишь услышанный селекторный вызов в остывающую душу: так и подошла бы она к давшему надежду поближе, да поклонилась пониже! Там ещё было время, но в сей же час наступила и пора. Не сговариваясь, мы опять вместе с ней молчком и двинулись далее к площади с торговыми рядами.
Со стороны глянуть – не увянуть: ступить люди ступили на ровно облитую небесным молоком тропку, да как в воду и канули, настолько от почтового угла всё палило, – настырно заливало белым пламенем от какого-то невидимого источника. А появились вскоре на лобном месте – на самой площади, где, собственно, под замершим в мареве жидким, солнечно-расплавленным кругом, завершался и наш, пройденный от катерной стоянки, незримо-избавительный круг, безвозвратно исчезал там, где ещё не уготовано нам. Потому как за ним чьи-то кости уже навсегда лягут на погосте, а при этом нашенские, что своего ходу, дальше без лишних слов из ворот да в воду, только след простынет.
VIНо кто знает, где найдёшь, а где потеряешь… Вдруг ни с того ни с сего, как дёрни таким сквозным ветерочком, что сразу знобко стало, когда всё похолодало. И тотчас, ахнуть не успеешь, темным-темно, как черно кругом сделалось, – куда день, туда и ночь. Даже вспомогающему нам, как ни крути, вездесущему шукшинскому герою, так и не обретшему желанного умиротворения, а оттого посулившему из своего киношного мира опрокинуть «этот город во мрак и ужас, в тартарары», возможно, и довелось бы у нас в яви временно лишиться дара речи при виде случившегося.
Поскольку в нашем подлинном бытии, как перед самим светопреставлением, разом и стало глазу ни зги не видно, – такой мрак навалился, что ничего нельзя было различить, тьма кромешная. Этого только и не доставало, а нас уже из огня да в полымя ни за что, ни про что кинуло, что ни дальше, то хуже некуда. Так как в тот миг вбыль и привиделось, будто я на какое-то время очутился в ином измерении, где чьи-то необъяснимые усилия на несколько летучих секунд и заставили поверить в происходящее, точно в правду, кажись, навсегда накрывши безвозвратным мороком – от горизонта до горизонта – всю нашу тишь да гладь, да божью благодать, – по небу широко, по земле далеко. Не так ли, надо думать, и бывает, когда вдруг неизвестно зачем всей своей былью да небылью так запросто нас перетянет, что кто-то уже и сам не знает: был он – не был, жил – не жил, знать, как пропал?..
Тем временем, чтоб кому ни попадя не было охоты лишний раз время зря терять, – без толку рот разевать, незамедлительно и дунуло со спины обычным мирским ветерком, поверху пронеслось. Тогда перед нами вновь вполне ощутимо, хоть иголки собирай, и возникла эта же площадь, за которой на виду всего грешного мира, – кому неведомо неизменное место городского отдохновения? – как вышним напоминаем о наших вечных душах, судьбоносно пошумливало в кронах вековой сосны, исстари вознесшейся на травяном откосе, всегда остро пахнущим рыбной свежестью озерной воды.
А нас опять-таки в очередной раз за виски да в тиски, – отныне уже в самом деле, что и говорить, как миленький, на все сто попался в перекрестную. Чтоб её нелегкая, с самой верхушки да на всю катушку, как хлынула ещё небесная вода, что тебе беда, – что она позабыла тут?.. Но только со всего свету в нашу сторону таким водопадным столбом рухнуло, что и сам царь воды не уймет, даже небо с овчинку стало. Хлестало с высокой вышины без продыха так, что перед глазами видны лишь были кипящие литые струи, крутящиеся витыми водными верёвками, да ещё рыкнул и вол на семь сел, – грозную тучу по пути от края до края перебросило. А где много воды разве долго ли до беды?..
Вскинул я набыстро свой мундир над нами с матерью, – в этом хоть быть по-нашему, забор крашеный, а если затеяно, так надо кончить дело. И тогда мы под этим одеянием, – не столь велико закрылись, зато дороге открылись, – шаг за шагом, рядком да ладком, а где и спокользя, добрались-таки до военкоматского здания, за которым, в низине, что в одном ряду с горестным помещением анатомички, в конце всего явилась и сама больница на все лица.
Там своим обличьем к нам и предстали взору под больничным навесом все, кому следует быть, поскольку уже время пришло, и всех в нужном месте нашло. Видать, у нашего медика с двоими из «ларца» были пути иные, раз вышли напрямую, а у смуглокожего машинного работодателя, прогретого совсем не северными лучами, работа кипела до самого пота. Бегал, выжидаючи, взад-вперед возле своего железного коня с откинутыми бортами, потому что в открытых подвальных покоях у анатомической не молоденькой начальницы уже была на виду готовой кожевниковская домовина.
А тут еще на секундочку, вроде, как ух ты, вышли мы из бухты: с обратного края крыльца, потусторонне поблескивая расплывчато-красными бортовыми полосами, притаилась «скорая помощь», разом не узренная под этим не прекращающимся, ни с чем несравнимым водоизвержением. Подобные специализированные автомобили никоим образом не могли относиться к городским больницам, лишь единично появившиеся в областном центре, и предназначенные для станций скорой помощи.
Возле неё, несмотря ни на что, бдительно дежурили двое молодых людей в белых халатах, похоже, проглядевшие все глаза, потому как при виде нас они одновременно оба преклонили свои головы. Вот в этакой-то напасти как было едва не пропасти моей спутнице, не поддержи её со мной, и так уж обеспамятевшую, подскочившими ещё к нам сопровождающими. Но во времена и лета нынешнего света, может ли статься: есть ли хоть какой-то заступник и для нас, когда такое горе горькое у нас?..
«Возьмите сына, – вдруг сказал кто-то нам громким и странным, сроду не слыханным голосом. И ещё раз для нас раздалось рядом то же самое не от мира сего звучание. – Возьмите сына! – Я-то как очнулся, точно бы проснулся, а это, вишь ты, кто-то утробисто так внутри меня сам по себе говорит, словом жарким горит, – и не по-нашему хотенью, а по-чьему-то изволению. Что называется, ни в сказке сказать, ни пером описать, неужели такое бывает?..
И как после дышать, если слово ещё не держать, потому что оно опять у нас прошло, как огнём прижгло: «Возьмите своего сына!» – Только это уже аз от самого себя добавил, в своё слово вплавил. Или уже мы сами не с усами и, что бы с ходу ни пришло, сразу лапки кверху? И без подсказки сахар сладкий: не угадаешь, где упадёшь, где встанешь, но разве сей день не без завтра? Так не так, а уж этак и будет, кого ждем? И что с того, что плеть обуха не перешибает, зато свой должок не положим обратно в мешок, а после можно будет хоть как-то и на всех исподлобья не взглядывать, худо, что ли?..
Родясь, такое и знать не знавал, умру – не узнаю. Да и белому свету опять же не завтра ещё будешь рад, как вспомнится внове кожевниковской матери взгляд, когда она выпрямилась, неверяще приходя в себя от услышанного, и потом лишь молча, с широко раскрытыми глазами сама дошагнула, как на распорках, до «скорой», ухватившись обеими руками за раскрытые дверцы.
А осмотрительно взятые её молчаливые помощники с какой-то привычной быстротой деловито и погрузили в открытую машину деревянную домовину. И родимая матушка, напоследок ещё оглядясь вкруг себя, однова лишь вздохнула, но слышал бы тот, по ком этот был вздох, тот бы в щепку иссох! Она даже своими силами, в одиночку, поднялась к последней усыпальнице сына и, такой же человек божий, обшитый кожей, уже без удержу ткнулась в родное лицо: «Давно не видались? – Да как расстались».
А «скорая помощь», подобно обманчивому туману, скоро и растворилась в неумолкающем водном благоденствии, как её вовсе не бывало, лишь остальные ещё некоторое время пребывали в молчании, схожим с утренним моих сирых подопечных, над которыми тогда после случившегося в могильной тишине тихий ангел пролетел, напомнив, что на сём свете мы только в гостях гостим.
VIIМожет быть, после кто-то из наших катерных обратный путь и вспомнит как-нибудь, хотя, как водится, он и прошёл своим чередом, без какой-либо истории с географией. К тому же, кто вымочил, тот уже и высушил: пришла в себя выбившаяся из сил погода для народа, день под грейкой теплынью был промыт, как новенькое стекло. Отныне на носу у мачты с высоко вздернутым трехцветным стягом всю дорогу безмолвно пребывал прапор Пушистый, и его извечно жаркую думалку с лёгким одуванчиком остатков пушисто-волосяного оснащения бодро обдувал пропахший травой, сквозь пальцы пропускать можно, шелковисто-упругий ветерок. Зато в капитанской рубке за компанию с Гришей-Полпотычем блаженствовал безмятежный солнце-дуй Боря-Тошнотик, а весёлая летняя закуска с их бутылочкой по затылочку на газетной скатерке-самобранке перед самым носом даже способствовала невозмутимому капитану править судно по не впервости знакомому, неукоснительно выверенному курсу.
Только другим такое дело близко не приспело: в своё время успешно прошедшие огонь, воду и медные трубы «института имени Воровского по разряду факультета карманной тяги», «двое из ларца» благоденствовали в уютном кормовом трюме, где они в тишине и покое дрыхли без задних ног, предавшись излюбленному занятию клиентов исправительной системы.
А по мне лучше было и не придумать места снова под капитанской рубкой за той самой дверцей носового отсека, где лежанка была, что по заказу делана. Но каково в одиночку быть тому, у кого что ни день, как опять его тень в той давней послеармейской весне, где ещё и не знал, куда это нас хлестнёт?
Только от домашнего порога дале ждала лишь новая дорога, потому что впереди всё было на свете к лучшему. Но беда сама приспела, наперёд не сказалась. Даже не вздумать, как тот день и пришёл, в котором та самая единственная, с которой друг другу мы в глаза посмотрели впервые, и как будто время остановилось, – вдруг взяла да умчалась куда-то в иные края, – навсегда её след с инаким и простыл из того города, где было всё нам дорого. А коль уже истаяли те истые неотмирные сроки, когда душа сама по себе мёрзлой ломкой веткой слагала свои горячие слова на первом снеге – вспоминать-то веки вечные на что?..
И не надо ещё при всём этом нашим молодцам быть бледными с лица, когда в вечерней тиши «Курдюг», как-никак, возвернувшийся к родному причалу, и упёрся в дебаркадер, соседствующий с местом моего обитания. Хотя и встречал-то нас на вечернем причале собственной персоной сам грозный хозяин зоны Любопытнов, по-всегдашнему аккуратно застёгнутый на все мундирные пуговицы с тремя большими полковничьими звёздочками на погонах. Трудно было избавиться от впечатления, что начальник колонии всегда видел всё окружающее как-то не глядя. Входя куда-нибудь, он уже знал, что делалось по другую сторону – порядок дела не портит! – а твёрдостью и определённостью при решении служебных вопросов завоевал расположение и мало кому верящих подшефных за колючей проволокой.
Знать, наша молва опять поперёд нас дошла, потому, как только всё было доложено, у начальствующего лица не то, чтоб на этом месте сделались круглые глаза, но даже неизменно верный слову, он отчего-то и не возжелал повинных «за Можай» гнать – «киркой махать», лишь только бросив: «Идите отдыхать». Да и желающих брать под белы руки да отправлять на муки мученические нарушившего министерский указ – повыше высокого приказ, в этот вечер не нашлось, никому праздником не стало. Кому охота доносить, когда и самому-то, может, после головы не сносить?..
Другой день тоже не навёл тень на плетень: с утра пораньше на лагерной вахте дежурного в том самом зарешёченном домике, что неизменно производит на всяк сюда входящего удручающее впечатление, по-обычному, старое было по-старому, а вновь ничего, не считая доклада конвойного гарнизона хозяину зоны. Всем дежурным нарядом и готовились: одних заявлений да рапортов с протоколами у суточной смены конца-краю нет, только знай отписывайся.
В то самое время и наша дорога от порога была в эту сторону – мир вам, и я к вам! – но мне и шага шагнуть к своему отряду не дали, сразу от самых ворот поворот, из дежурки на пару слов всем миром приглашают. Вместе с бессменным дежурным Колей Ревой ещё двое прапоров-орлов наготове стоят: рот до ушей, хоть завязочки пришей, да один другого здоровей, под горячую руку не попадайся. Кому неизвестно: где начальству чуть что не по нраву, этих орлов сейчас же туда и совали на расправу, спасайся кто может. Чтоб тебе ни дна, ни покрышки: неужто и впрямь разбудили мы лихо, пока оно было тихо?..
А меж тем – от века до века само спокойствие – исполинского вида Рева, обстоятельно достав из своего ржаво-облезшего сейфа конверт с победной, празднично-весенней маркой – откуда только и взялся, – таких даже днём с огнём не сыскать, и встал передо мной, можно сказать, как лист перед травой.
– Самого «законника» Ворона по концу срока освободили, – веско изрёк дежурный и, внимательно оглядевшись вокруг, после, как эстафету, из рук в руки и передал мне, что припечатал, конверт явно ещё прошлых лет. – По утрянке на волю и отбыл, а это от него лично тому, кто в нашем дому! – И на замызганном, сомнительной чистоты столе оказался для меня тетрадный в линейку листок, где в клетках строк было два лишь слова: «Работай, брат».
2020
Вологодский конвой
…перелив на бумагу, казалось мне, лучшую часть своей сердечной крови.
П.Ф. Якубович «В мире отверженных»
Я начальник отряда осуждённых. Или отрядник, как говорят все, кому не лень. И сотрудники зоны, и сами осуждённые, и родственники, приезжающие на свидание… Конечно, порой не удержишься и поправишь того либо иного, но проку в этом нет: всё равно язык у всех на привязи не удержишь. А наш-то почёт никому в этих местах не в прочёт, потому что наша честь одним нам и достаётся с утра и до позднего вечера – в зоне…
Воспитатель, советчик, начальник, отец, старший брат, вершитель судеб, – всё в одном лице. И здесь только сердце – вещун, а душа твоя – мера…
Часть первая
Ясны очи
Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте.
Ф.М. Достоевский1.Казалось, считанные дни, как я здесь, в этом небольшом лесном посёлке, на дальнем северном бездорожье, забытом и богом, и людьми. Но после того, что произошло сегодня, вдруг разом нахлынуло, вспомнилось…
В Курд юг я добрался поздним мартовским вечером: было уже исчерна-темно и неуютно-насторожённо вокруг, нахлёстывал беспрестанный ветер с брызгами невидимого дождя…
А сначала, после вынужденного недельного торчания в белозерском райцентре, я наконец-то попал на самолёт, который заменил лыжи на колёса и через пару часов благополучно приземлился на поле с раскисшим снегом, подсинённым наступающим вечером.
Пилот передал подошедшему мужчине в шапке с кокардой два бумажных мешка с почтой, подмигнул нам и закрыл дверцу. А мы, взяв поклажу, отошли к деревянному домику, над входной дверью которого висела потемневшая от времени доска с надписью: «Аэропорт Северный».
Самолет взревел и, разбрызгивая стеклянным веером лужицы, завис в воздухе – и точно поплыл, скрылся за лесом, оставив за собой гул, – по небу широко, по земле далеко… И теперь я оставался один на один с неизвестностью, которая не то чтобы пугала, но, по крайней мере, напоминала о себе легендами и небылицами об этим жутких и непонятных местах… Не хочешь да задумаешься.
«Меньше надо говорить, меньше надо говорить…» – непонятно почему нашёптывал я себе, считая, что этим избавлюсь от случайных и необдуманных слов.
Мы вошли в домик, и хозяин открыл комнатку. На большом столе громоздилась всевозможная аппаратура, там что-то попискивало и потрескивало, но после щелчка тумблера всё стихло.
– Николай, – застенчиво протянул мне руку хозяин, – здешний начальник аэропорта. Он же и сторож, по совместительству.
Вскоре мы пили чай и, поглядывая на глубокие колеи разбитой дороги, мирно беседовали. Вернее, Николай рассказывал о Северном, где он родился и вырос. «Ага, ага», – то и дело добавлял он в разговоре, придавая тем самым своей речи необыкновенную притягательность. А красную-то речь красно слушать да на ус мотать.
Оказывается, от Северного до Курдюга, куда мне надо, всего-навсего тридцать вёрст, но даже трудно представить, как они даются. Добираются по шесть-восемь часов, если, конечно, всё нормально. Пока дорога не провалилась и ровда не ушла – в жизнь не вылезти из Курдюга. Так сиднем и сидят. А зимой, когда застывает, её сначала «гэтээской» укатывают, потом ещё «ураганом» пройдутся, а следом уже автобус посылают. Пока эту дорогу равняют – тягач, случается, по самые уши проваливается, посылают на выручку трактор – и «сотки» по самое дно рюхают. Беда и только. А ранней весной или поздней осенью всё объездом одним – так без молитвы и в путь незачем собираться. Тело-то, может, довезёшь, а уж за душу не ручаешься. А случись что, ткнуться уже некуда: по пути три деревушки почти пустые, в каких домах старики да старухи даже часы на новое время не переводят. Говорят, нам спешить некуда, мы своё отжили, а время везде одинаково. Но в этом году дорога ещё держится, так напрямую можно добраться – всё скорее да надежнее.
А сам Северный раньше райцентром был. Военкомат и милиция на бугре, а на берегу, рядышком, и роно с райкомом. После всем известных перестроечных событий и стал Северный просто посёлком. Но населения, правда, и сейчас тысячи три наберётся, не меньше. Свой леспромхоз, сплавучасток и сельпо имеются. Хотя, как и везде, всё на ладан дышит. Даже два участковых приставлены. Только они что есть, что нет: то по своим делам разъезжают на казённом мотоцикле, а то, глядишь, лыка не вяжут. Начальство, конечно, отругает хорошенько, когда надо, а выгнать не решается – никто в такую глухомань не полезет, себе дороже.
Только здесь давным-давно ко всему привыкли – вдосталь нагляделись да натерпелись. А как ещё послушаешь, что курдюгские из зоны рассказывают, когда в аэропорт приезжают, то, правда, лишь и подумаешь: «Слава Богу, тут ещё рай, живи да радуйся…»
Николай прислушался, затем кивнул уверенно:
– Машина из Курдюга идёт, больше неоткуда, ага, ага…
Прижавшись к оконному стеклу, я чувствовал, как сильнее и горестнее забилось сердце: из-за леса, воя, выползала машина. Громоздкая и тёмная, она упрямо двигалась к аэропорту, качко заваливаясь на каждом шагу в колеи и колдобины… Куда господь бог несёт?..
Перед посадкой на самолёт я набрал номер телефона, куда мне в своё время посоветовали звонить, однако ни словечком не обмолвившись о тех трудностях, которые предстояло перенести. То ли забыли, то ли не нашли нужным обращать внимания на такие мелочи. И после шума и свиста послышались слабые гудки, следом далёкий, пододеяльный голос ответил откуда-то: «Курдюг на проводе!»
Назвавшись, я попросил сообщить дежурному, как меня учили, что скоро вылетаю, чтобы встретили.
«Сообщим!» – коротко заверили из таинственного Курдюга, и связь разом оборвалась, точно её и в помине не было.
И сейчас, подхватив сумку, – долог путь, да изъездлив! – я простился с Николаем, глядевшим на меня необычайно сострадательными глазами, и шагнул на улицу к машине. Дверка её, заляпанная грязью, задёргалась и задребезжала, потом со скрежетом открылась, и оттуда вылез, согнувшись, мужик в годах, широкоплечий и кривоногий. В бушлате и кирзовых сапогах.
– Поедем, что ли, – обронил он глухо. – И так запозднились – в двух местах по самые мосты сели. Дорога, будь она неладна. – Сам мрачный, да и смотрит не россыпью, а комом, но – спокойный. Таким как-то сразу верится, а вера животворит, это мы и сами знаем.