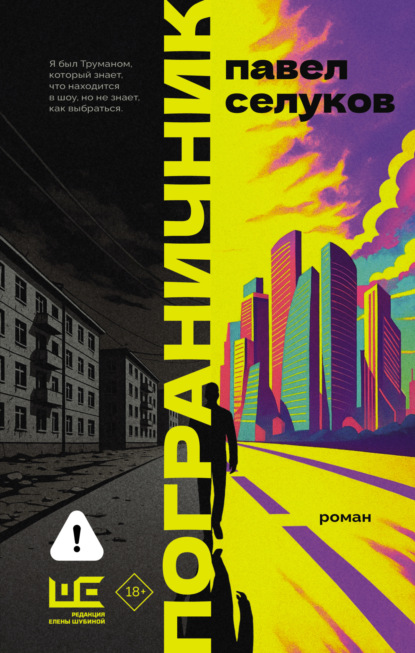Полная версия
Выключить моё видео
Почему кажется, что София Александровна хотела сказать что-то ещё, не только про Илью? Подожду, когда у неё закончатся уроки, тогда и спрошу. Можно и написать первой, спросить там, всё ли нормально.
Будто бы продолжая незаконченное про Илью.
Жалко, что она им так интересуется, будто лучшим учеником. Ничего ведь особенного.
Хотя на пробнике ЕГЭ у Ильи и вправду восемьдесят баллов было. Посмеялись – ботанишь, да? – но и позавидовали, знали, что не ботанит, на уроках думает о своём. Может, читает.
Нам в началке говорили – надо читать много, тогда сами по себе станете грамотными, правила можно будет не учить. А я читаю, читаю, но ошибки есть, и даже София смеётся. «Учавствовала», это как так можно написать было, «учавствовала». А вроде и не специально; вышло так. Иногда задумаешься долго над словом, и оно теряет знакомые очертания, расплывается – появляются и исчезают буквы, дефисы. Так и не знаешь никогда, как правильно. А потом возвращают проверенную тетрадку, красным исчирканную – куда смотрела, о чём думала. Уродские буквы, слипшиеся в одно.
Читаю рассказ.
Идёт с кровавым бинтом вокруг головы, долго идёт, не падает, но скоро, потому что только издалека окровавленная тряпка похожа на красную корону, а ближе видны запёкшиеся бурые следы, страшные. Точно кино смотрю.
На кухне пахнет дымом.
Нет, это мама вовремя не убавила огонь.
Пахнет овсянкой.
– Всё, – говорит мама, – сейчас будем завтракать, у папы как раз лекция закончится. Он обещал дать задание и пораньше отпустить, всё равно не ходит никто особо. А у вас целый класс слушает?
– Да конечно. Агафонов один как целый класс – нацепил, придурок, маску перед камерой, думает, прикольно. И где купил только.
– Вчера в новостях сказали – в любой аптеке есть.
А когда я, ещё в начале этого всего, по маминой просьбе в аптеку зашла – не было. Может быть, сейчас изменилось. Не знаю.
– Ну, балуется парень. Всем тяжело. Хотя странно вообще-то – ему в армию идти через год, если в институт не поступит.
– Зачем в армию. Поступит. Мы все поступим.
– Ты – конечно, вон сколько занимаешься. И этот, отличник ваш, как его зовут – Илья? Этот тоже. Может быть, и другие. Позови папу, пожалуйста, каша готова.
Иду звать папу в комнату и представляю себе нашу школу без никого – а может быть, там кто-то сидит и сейчас, охраняет – от кого охраняет? Никто и не зайдёт.
Отчего-то снова подумала об Илье: если ему надо идти, то может ли пройти мимо школы и посмотреть, не горит ли свет в кабинетах?
– Пап, – говорю, – мама завтракать зовёт.
Он кивает, не отрываясь от экрана. Лекция заканчивается, но сидит в наушниках, потому не слышно, сейчас, шепчет еле слышно, сейчас приду.
Вижу, как его студенты одни за другим выходят из конференций – только фамилии вспыхивают.
Слышу, как в моей комнате вибрирует телефон.
Может быть, началась физика, а я не знаю.
Иду за телефоном.
Это не физика.
Это Илья.
пойдём погуляем
Возвращаюсь на кухню и говорю маме, что папа сейчас придёт.
На стене дома напротив кто-то написал:
ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА
Но хочется просто успокоиться, узнать, что перемена так и пройдёт на балконе с видом на берёзы и липы, и соседний изгибающийся дом, а где-то совсем далеко виднеется многоэтажка и торговый центр «Райкин-Плаза», а ещё дальше – проспект, но пешком не дойти. Что я так и просижу, так и проведу, и ничего не увижу, и мама будет варить овсяную кашу, а потом я буду варить овсяную кашу, пока не кончатся пять пачек, а когда кончатся? Скоро кончатся, и заметить не успеем.
Так хочу, чтобы сердце требовало перемен, – но ничего.
а куда?
Через две минуты ответила. Глупо. Алёнка бы точно сказала, что глупо.
всё равно
Значит, Илья и вправду ходит, не боится.
А я?
Может быть, это и есть перемена?
– Мам, хочешь, за хлебом схожу?
Мама смотрит сначала на меня, потом на папу. Мы сидим над тарелками с кашей, доели уже почти. В кашу добавили смородиновое варенье, и мне тоже, хотя не люблю.
– Хочешь пойти? Сейчас?
– Да, а почему нет?
– Не знаю. Ещё половина батона осталась.
– Завтра всё равно придётся идти.
Смотрит недоверчиво, потом качает головой.
– Вер, не надо, правда. Понимаю, что грустно, что в школе мало уроков стало, а в телефоне весь день не просидишь. Но ведь мы решили, что будем выходить раз в неделю, чтобы лишний раз не… Правильно ведь?
Папа пожал плечами. Наверное, правильно. С самого начала договорились. У нас доверительные, дружеские отношения. Никто никому не запрещает. Мы договорились.
– Правильно, мам, а куда тебе ходить? – говорю. – Конечно, раз в неделю только и надо.
– А тебе куда? – мама встаёт, собирает грязные тарелки. – Скажи, куда.
– Вот вообще не важно, – тоже встаю, – но я не могу взять и пойти, не хочу так.
– Вся Москва так живёт, вся страна, чем ты недовольна? И вообще не понимаю, почему у вас нет уроков.
– Позвони в школу и спроси, в чём проблема.
Она молчит. Знаю – не будет никуда звонить, потому что не привыкла лезть, навязываться, спрашивать. И в магазине к продавцу-консультанту не подойдёт, не спросит – а где у вас краска для волос стоит? Сама будет искать.
Я такая же. Не буду спрашивать – но хочу думать, что не из страха, а просто у самой-то лучше выйдет.
– Ладно, Вер, – папа вмешивается, папе не нравятся такие разговоры, – ты чего хочешь?
– Я хочу, чтобы вы не думали, что мне на улицу меньше вашего нужно. И что раз нет учёбы – то и вообще ходить некуда.
– Не думаем. Мы друг друга бережём.
– Получается – я плохая?
Они так не скажут, не подумают даже, но не по себе – хочу, чтобы думали, хочу, чтобы произошло.
– Ну вас вообще, – ухожу в свою комнату, но дверью не хлопаю. В тринадцать хлопала, было дело. Теперь прикрываю тихонько, аккуратно – на двери нет пружины.
Телефон светится.
так что, пойдёшь?
не могу, родители не отпускают
Написала и села на разобранный диван. Бельё-то убрала, конечно, но собирать не стала – смысл, когда вечером снова разбирать, и не для кого, никого не приведёшь. Мама не ругается, не требует порядка, как раньше. Стала спокойнее. И я стала, потому что пару лет назад и на самом деле бы орала, чашку могла на пол кинуть, матом выругаться, чтобы всем стало грустно и неприятно, но страшнее ничего не было; с пацанами не тусила, пьяная не возвращалась. Да и не пили мы, это родители – по своим воспоминаниям – больше. Так, могли бутылку вина на всех.
Но это не те перемены, которых хотела.
Ну напиши что-нибудь. Скажи, что пойдём гулять, когда кончится карантин. Он ведь должен когда-нибудь кончиться. Скажи, что понимаешь, что твои родаки такие же, надо только договариваться уметь, а я, девчонка, не умею, реву только.
Илья не отвечает.
Думает, что я придумала про родителей; кто может человеку в шестнадцать лет запретить выходить на улицу?
Хочется расплакаться, и плачу неслышно, размазываю слёзы по лицу, волосам. Опять выхожу на балкон, но только чтобы посмотреть на размазанные и смутные от слёз деревья, дома́, редких прохожих. На каждом – маска, белая, разлохматившаяся от времени, хотя его и прошло всего ничего. Дома-то времени никто не чувствует, только там, среди деревьев.
Хочу спуститься, но тогда мама точно расплачется. И может и не сказать ничего, но ведь не деться никуда, когда вернусь. Так боимся друг друга и обвиняем, и от этого ещё страшнее.
Но на стене соседнего дома всё ещё написано:
ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА
ладно, а я пойду, а то ребята ждут
Ведь никто не ждёт, врёшь ты всё.
Снова смотрю вниз на улицу – один дяденька идёт, длинный, придерживает маску, чтобы поднявшийся ветер не сорвал.
Нет, никто.
Илья
Чёрт дёрнул написать. Знал же, что не пойдёт. И самому не хочется.
Потому что нет никаких ребят.
Какие ребята, правда.
Захотел выпендриться, выставить себя невесть кем.
Компанейским.
Я на самом деле компанейским раньше был. Сейчас меньше хочется разговаривать, меньше хочется читать, всего меньше. И уж точно нет охоты слушать Софию, что высоким тоненьким голоском несёт несусветное.
Образ, говорит, советского интеллигента.
Кого?
Кому он нужен?
Он и себе не нужен.
И его скоро не станет, потому что он совсем, ну совсем не видит того, что с его страной случилось. Ковров, блин, ему жалко.
Я бы не смог так.
Смотрю на полку с книгами. Учебники истории, мемуары всяких полководцев. Книжка о Черчилле, которую подарил папа, – прочитал почти сразу, ничего. Ещё трактат какого-то китайца, но так и не добрался. Здесь только новые книги, только мои. С остальными, древними, отец вот что сделал – позвал какого-то человека, он все книжки разобрал, подклеил корешки, вытер специальными салфетками, а где-то и обложки поменял, которые истрепались сильно. И тогда отец положил всё в багажник и отвёз в районную библиотеку – они там не то чтобы счастливы были, но похоже. А мне подарил «Kindle». Не скажу, что как-то дофига читаю. Но знаю, что всё есть, всё могу найти, если что. Поэтому так-то, конечно, зря трепанул Софии, что есть этот самый Булгаков, потому что уже не было на самом деле. Хотя саму книжку помню – белая, с чёрным росчерком на обложке.
Когда она спросила – захотелось включить микрофон, крикнуть: хватит уже обо мне, хватит, прекратите ко мне внимание привлекать, достали. Илюша то, Илюша это.
Нет у меня ничего.
Может, когда-то и было.
Айфон тревожно звенит, вскидываюсь – давно не звонил никто, отвыкла комната от звуков.
Незнакомый номер высвечивается – опять будут разную хрень рекламировать, проговаривать быстрым неодушевлённым голосом. Один раз позвонила женщина – судя по грохоту, где-то на «Чеховской» в центре зала стоя – и долго спрашивала, совершеннолетний ли я. Я говорил, что нет, но она не верила. Голос, говорила, взрослый, а вы распоряжаетесь данным номером? Я, конечно, кто ещё. Отцу до моего номера ничего.
Возьмите кредит, скажут.
Отвечу – вы что, там совсем тронулись, мне же восемнадцати нет.
Вроде и сами знают, но иногда путают, не смотрят.
– Да?
– Здравствуй, Илья, – голос женский, звонкий (непарный, твёрдый непарный) незнакомый, – мне в канцелярии твой номер дали.
– А я, может, не хочу, чтобы канцелярии всем подряд мой номер давали.
– Но ведь он в журнале есть. Тебе не нравится, что я звоню? Но тогда я бы могла просто рассказать Фаине Георгиевне, и звонила бы уже она.
– Она мне никогда не звонит. Зачем ей? Учусь нормально, что ещё нужно?
– Да, учишься ты нормально.
Она молчит.
Что это София Александровна, понял сразу, даже когда голос показался незнакомым. Ждёт, что извиняться начну; не дождётся.
– Но не понимаю, за что ты меня так не любишь. Что я сделала? – наконец говорит она. Не слезливо, а будто вправду узнать хочет.
– Почему не люблю, с чего вы взяли?
– Не знаю, ты ведь только на моих уроках разговариваешь – ну, агрессивно, что ли? Не любишь читать? Но ведь ясно, что не в этом дело. И про бумажную книжку говорили, что только у тебя есть. Родители библиотеку собирали?
Смешно.
Ничего они не собирали, разве что фарфоровый сервиз есть, от которого половину чашек давно переколотили, и современное искусство на стенах, которое пытаюсь понять.
Но чашки из сервиза чем-то нравятся – такие праздничные, тоненькие, в них даже чай в пакетиках выглядит радостно, тепло. Люблю, когда мама достаёт на праздники сервиз.
А все книжки родителям от дедушки с бабушкой достались.
– Я сам книги покупаю, когда деньги есть. А старые вообще копейки стоят, я в магазин букинистический захожу иногда. Так, подышать. Не покупаю ничего.
Молчит в трубку, дышит.
– На Никитском бульваре, знаете? Нет? Вы ведь учительница литературы, вы все книжные знать должны. Куда ходите тогда?
– Я… ну, в «Дом книги» хожу, в «Читай-город»… А вообще-то бумажные давно не покупала, отвыкла.
– Понятно. Того Булгакова папа давно в библиотеку отдал, так что ничего теперь нет. Ну, из того, что вас интересует.
И нечего выпендриваться тогда. Читайте, читайте. Наверняка сама нихрена не читает, вот точно.
– Я смотрю, что ты очень необычный мальчик, у тебя на всё своё мнение, и это хорошо. Но и так тяжело вести уроки – знаешь, я ведь в школе недавно и не совсем ещё освоилась.
– Подождите, – перебиваю невежливо, бросаю телефон на стол, – началось, надо окно закрыть.
Но не закрываю, слушаю.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА.
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
НЕ ВЫХОДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗ ДОМА.
ЕСЛИ ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА,
СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
Всё?
Кажется, всё.
Возвращаюсь к столу, беру телефон.
– Извините. Всё равно ничего слышно бы не было. Они орут как полоумные.
– Ничего, – растерянно говорит она.
Интересно, ездят ли эти машины с громкоговорителями там, где София живёт? Наверняка. Она же здесь недалеко. Ребята видели, как она из подъезда выходит. Иногда с ней какой-то молодой мужик. И живут, снимают. И как только денег хватает? Папа всегда говорил, что если бы не своё жильё – пожалуй, туговато бы пришлось. Мама раньше тоже работала в школе – вела рисование. Ей не понравилось. Она же художник, без дураков. Но сейчас непременно начнётся – у тебя же мама педагог, пусть и бывший, должен понимать…
Должен сочувствовать.
Я сочувствую.
А мама давно не педагог, бросила это дело. И правильно. Звонила бы вот так же, бормотала жалко.
Не знаю, как сказать.
Не знаю, что сказать.
Мама говорила, что в школе отвратно было, – и я верю.
– Так вот, я в школе совсем недавно, поэтому я рассчитывала, – торопясь, негромко проговаривает, будто должна проговорить, – что ты отнесёшься лучше, не будешь уроки срывать.
– София Александровна, я ваших уроков не срывал. Если не умеете их вести – то чем же я виноват?
Закаменела. Замолчала.
– Хорошо. Хорошо, Илья. Я поняла.
– Ничего вы не поняли.
– Я поняла. Ты хочешь конфликта, войны…
– Какой войны, с вами?
С блондинистой невысокой женщиной?
Смешно.
– Хочу, чтобы меня оставили в покое, – говорю я и отключаюсь. Хватит, наслушался. Надо выходить. Что она там сама с собой останется – грустить, читать, к следующему уроку готовиться – и думать не хочу; пускай остаётся.
Про маму не вспомнила или просто не знала. И была охота про ерунду болтать.
Переоделся – чёрные джинсы, серая футболка без принта, толстовка сверху. Закатываю рукава – люблю, чтобы запястья были открыты, а пацаны аж до кончиков пальцев натягивают. Бред.
Беру из холодильника банку кваса и пью на ходу, стараясь аккуратно, а то на сером видны брызги.
Выхожу на улицу.
У подъезда сидят мелкие, наверное, двенадцатилетние, ржут, на меня оглядываются. Не припомню, чтобы в нашем подъезде кто-то из них жил, так что неясно, с какой стати ржут. Шугануть можно, но неохота связываться. Да и смелые, впятером сидят.
– Вас на балконе слышно, – всё равно говорю, – потише нельзя?
Мелкие потягиваются, переглядываются. Наконец, самый длинный, долговязый, похожий на пятнадцатилетнего, сплёвывает в траву и поднимает блёкло-голубые глаза. Под глазами синяки.
– А чё тебе, бля, мешаем? – равнодушно говорит долговязый.
– Мешаете, – останавливаюсь. Вру: никто не мешал, я и не слышал с балкона. Но теперь и не уйдёшь.
– Ну так вали, – так же тихо говорит долговязый; дружки поддерживают, ржут. Какая-то девка в короткой кофте, открывающей живот, громко смеётся и опускает голову на плечо долговязого. Эти старшие – есть ещё один полноватый, спокойный, остальные – совсем детишки. Но стою.
– А может, вам скорее свалить? Давайте, поднимайтесь все.
– Больше тебе ничего не надо?
– Ничего. Давай, бери свою девку и уматывай. Остальной детский сад пусть тоже валит.
Длинный отодвигает девку, поднимается. Сейчас уже видно, что он с меня ростом. Подходит близко, в полуметре останавливается.
– Дальше что?
– А ничего.
– А если мы? А?
Но не подходит, держится.
– Вас на меня не хватит.
– Ага, не хватит. А чего ты без маски – не боишься эту хрень подхватить?
– Нет.
– И мы не боимся. Мы специально вместе собираемся.
Всё ещё стоим друг напротив друга, но не так. Отчего-то внимательнее смотрю на них и понимаю – а я ведь пару лет назад так же стоял бы, разве что, может, не задирался, ушёл.
Но тут девчонка, поэтому длинный уйти не может.
Девчонка и дружки.
Но дружкам, может, не так важно.
Разве что совсем мелкому, наверное, пятикласснику.
– Специально? А вам ничего не говорят, что выходите? Школу-то не просто так отменили.
– Она вон в школу и так не ходила, – толстый кивает на девчонку в короткой кофточке, – всё больше по впискам шатается.
– Завались, – у девчонки голос осипший, – что ты меня перед людьми шалавой какой выставляешь.
Улыбаюсь. Долговязый не знает теперь, как перестать стоять напротив.
– Так все знают, что ты, Насть, шалава, что выставлять, – говорит долговязый, оборачиваясь.
Смеются. Девчонка матерится, толкает в плечо ближайшего шкета.
– Может, он ещё не знает, – толстый кивает на меня.
– Ладно, надо идти, – говорю, хотя не знаю, куда, – если что, я на пятом этаже живу. Если кто что скажет.
– Мы недолго, – тихо обещает долговязый.
И садится к девчонке обратно. И хотя они мелкие, и говорят о ерунде всякой, но почему-то страшно захотелось остаться, сидеть на лавочке, курить «Winston», смеяться над жирным, утешать Настю. Не похожа на шалаву, хотя и кофта дурацкая, и джинсы с низкой посадкой оголяют полные бока.
И это ничего не значит, потому что когда я мелким был – тоже все обзывались, хуже даже.
Как меня называли?
Как меня называли?
Не помню.
Но понравилось больше всего, что мелкие сидят расслабленно, близко, не говорят ни о чём таком, о чём сейчас везде, не обсуждают новости, маски не носят. Они бы ни за что не надели, скорее послали бы родителей и свалили.
Просто бы ушли вместе сидеть.
Я так не могу.
Если бы отец и мать носили и не выходили никуда – не смог бы сопротивляться, спорить.
Но им всё равно.
Я еду на Чистые. В вагоне шесть человек забились по углам, не читают, музыку не слушают, оглядываются беспокойно. На «Трубной» в вагон заходят полицейские, трое, все в чёрных масках, от которых становится ещё страшнее – ведь у них частью формы выглядят, точно они лица хотят скрыть. Думаю, что им хотя бы опускать маски надо, когда к человеку подходят – как гаишники козыряют, как мужчины раньше шляпы приподнимали. Они подходят к мужчине в углу. Может быть, потом ко мне – но не двигаюсь с места, потому что слишком сильно брезгливо-радостно-облегчённое – не меня, не меня. Вынимаю один наушник, прислушиваюсь к тому, что говорят. Спрашивают пропуск. Мужчина шарит по карманам, огрызается. Взрослый, пожилой, лет пятьдесят – иначе за телефон бы схватился, а так в бумажки верит. На «Трубной» они выходят вместе, а полицейские не оборачиваются ни на кого больше. Глаза мужика растерянные, незлые, я взгляд отвожу – что сделаю, ничего.
Не хочу вмешиваться, я кто такой, а кто бы вмешался? Никто.
У меня пропуска нет, конечно, я и не думал, что на самом деле так всё строго.
Закрываю глаза, представляю Веру, почему-то в очень коротком платье. Она в таком коротком в школу никогда не приходила, но однажды видел в парке Горького – она лежала на газоне под балюстрадой, загорала. На следующий год балюстраду отремонтировали, но точно помню, что тогда ещё было много крошащейся штукатурки, острых краёв.
А Вера лежала, в джинсовых шортах и лифчике, прямо на зелёной немнущейся траве, без коврика, пиджака, брошенного на землю, без ничего. Только футболка белая под головой. И я почувствовал, как трава щекочет её кожу, как мошки ползут по стебелькам, по ногам, животу. Вера уже успела немного загореть – в школе сидела белая, а тут золотистая, разглядел даже светлый пушок на ногах, выгоревший от солнца. Вообще-то они бреют все, и давно, класса с восьмого, но тут вроде и неопрятно – а смотрится по-другому.
В какой-то момент подняла голову, а я отвернулся – не хотел, чтобы заметила.
Поднялось тёплое от ног, разошлось по телу.
Что это было?
Потом только понял, что.
Лифчик на ней был не от купальника, а самый обыкновенный, белый с цветочками, такие часто у девчонок увидишь, у семиклассниц даже. Вспомнил стыдное – как развлекались с пацанами тем, что затаскивали кого-то в женскую раздевалку перед физкультурой, а сами оставались, держали дверь, слушали, как визжат девчонки. Но они, кажется, сразу понимали, в чём дело, поэтому никогда не кидались на того, кто оказывался внутри.
Так, кричали больше.
Сейчас-то никто так не делает, выросли. Но маленькие лифчики с цветами я запомнил.
Да.
Это меня заталкивали.
Мелкие были, понятно, тупые.
Пошёл к метро, к «Октябрьской», но никак не мог из головы выбросить.
Потом потихоньку забыл, но вскоре появился повод написать – мы должны были бежать кросс (за честь школы), я, Вера и ещё ребята. Но никто не спрашивал, а так, сказали только, посмотрев на нас на физкультуре, – так, завтра бежите отстаивать честь школы, ты и ты. На стадионе. Оденьтесь как теперь, возьмите воду и что-нибудь от солнца.
Всё.
С нами не обсуждали.
Кажется, только Вера обрадовалась.
Обрадовалась, а меня взбесило.
На «Чистых прудах» вышел один, всё ещё вспоминая – так и не побежал ведь, сказал, что плохо себя чувствую. И это ещё более жалким вышло, чем если бы побежал.
Да и Вера была.
Но тогда появились какие-то иные мысли, уже не о парке Горького и золотистой коже, другие, непохожие.
Вот и будут вертеться в голове, пока пойду бульваром мимо закрытых кафе.
Одно, впрочем, открыто, возле люди стоят. Значит, кофе с собой. Останавливаюсь тоже.
Какая-то женщина брызгает на руки антисептиком. Резкий запах бьёт в нос, кашляю. Люди в очереди шарахаются. Хочу сказать им, что не болен, но глупо прозвучит.
И все «Чистые» насквозь пропахли антисептиком, ничем не пахнут больше – ни застоявшейся водой, ни осыпавшимися голубиными перьями, ни тюльпанами. Или это я ничего не чувствую, во мне что-то сломалось, кончилось?
Чёрт. Останавливаюсь, морщусь. Горячее.
Чёрный всегда выходит горячее – если американо с молоком можно пить почти сразу и не бояться, то с этим не выйдет. Надо привыкнуть.
Надо написать.
Кажется, в центре ничего не заканчивается – только у нас на Марьиной Роще тихо, недвижно. Эти малолетки сидели – ну так они из протеста. Пускай бабушки из окон посмотрят, взбесятся.
Кофе чуть остыл, можно попробовать осторожно, легко.
Мимо проехала машина «Росгвардии», но не остановилась.
Немного хотелось, чтобы остановились.
Тогда бы написал отцу.
Он бы посмотрел на экран кнопочного телефона (наверное, единственный человек в Москве, который с таким ходит; для работы у него хорошая техника, а для себя не нужна) – и в очередной раз убедился, что я непоседливый, что не могу просто заниматься творчеством или делами. Сам-то он всегда мог.
Получается, что я не могу не мешать.
В метро спускаться не стал – пропуска нет, загребут, как того мужика. Тут до дома километра четыре, фигня. Пройдусь. Домой всё равно не хочется.
Написать?
Кому написать и сказать – иду по улице, кофе остыл, никого и ничего, каштаны цветут, и никто не видит, машины не останавливаются, лиц водителей не разглядеть?
Антисептик выветрился с рук, запахло пылью и каштановым цветом.
Свернул со скуки в незнакомый дворик, а там в сгущающемся закатном свете горят на стене дома огромные буквы:
ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА
Дурь какая.
И делать кому-то нечего – на стенах писать. Из старой-старой песни, которую пацаны раньше во дворе бренчали, а теперь не слышно. Даже не помню, какие там дальше слова.
Достаю перед домом телефон, чтобы не сразу домой, – а там тридцать шесть уведомлений в «WhatsApp».
Начинается, блин.
Неймётся кому-то.
Ребята, у меня грустные новости. Я несколько дней назад разговаривала с Тамарой Алексеевной насчёт вашей контрольной по алгебре, но это неважно, это потом. Дело всё в том, что она тогда сказала, что её муж болеет – температура, ОРВИ. Я не обратила внимание, а вчера он умер. Я думаю, что вы всё понимаете.
охренеть
ужас какой
вы думаете, что от этого? да вряд ли