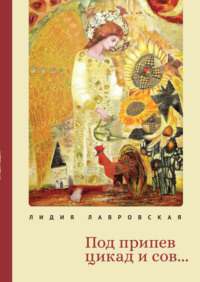Полная версия
Сочи любим очень
И, по словам Лены, ощущение первозданности, абсолютной нетронутости всех этих зеленых пустынных холмов с рощицами и редкими пасущимися коровками, на которые их группа глазела из окон «Серебряной птицы», рождалось благодаря одной интересной вещи. Оказывается, все коммуникации у англичан проложены под землей, никаких тебе столбов, проводов, разлапистых устрашающих ЛЭПов. А у нас, прочла однажды, эту железную каланчу взгромоздили даже рядом с церковью Покрова на Нерли – «как назло». Ну да, этот вреднючий бес, который так любит у нас в России ударять всем в ребро, не дремлет! Вот и не нашли вроде бы разумные люди другого места для железяки…
Помню, одной нашей соседке вдруг втемяшилось спилить старую грушу во дворе. Весной она так прекрасно, пышно цвела, а осенью ее маленькие жесткие грушки, немного полежав, становились коричневыми, мягонькими, сладчайшими! Я, конечно, запротестовала, но не достаточно активно, и меня «бес попутал»… Правда, теперь на месте груши раскинулись ветви молодой шелковицы. Алыча, росшая неподалеку, сама как-то захирела, вместо нее вознеслась выше крыши великолепная стройная черешня. Вот и маме, да и мне тоже, в сущности, пришла пора задуматься о такой «смене караула»… Только Павел Анатольевич смеется: «Да бросьте вы! Какие наши годы!»
Этот Павел Анатольевич… Неймется все-таки новоиспеченной пенсионерке, не сходит с языка, из головы не выходит этот седоватый женатый «Павлик»! Дети у него уже взрослые, а женатый говорит, давно только по паспорту… врет, скорее всего. Вроде бы супруга как сумасшедшая ударилась в эзотерику, председательствует в каком-то их сообществе, везде ездит, выступает с докладами. И его пыталась приобщить, да он не дался. Смеется: "Я вольтерьянец! Материалист!» Вообще-то такое в семьях бывает… Комплименты мне два раза сделал: ах, какие у вас большие добрые глаза, какая улыбка застенчивая, девичья! Так и сказал – «девичья», с ума сойти можно! Ох, отцвела давно моя черешня…
Заявляется в сквер с палочкой, прихрамывает, – тоже, говорит, пенсионер, бывший военный. Приехал подлечиться в военный санаторий и, говорит, просто мечтает остаться в нашем городе навсегда. Ну да, освоится, пропишется у какой-нибудь местной дурехи, а потом, как в старом фильме «Ночи Кабирии», подведет ее к пропасти (у нас их тут полным- полно!) чтобы столкнуть. И будет водить в ее квартиру развратных школьниц каких-нибудь… Говорила же мне знакомая учительница, что теперь в их школе дежурные педагоги следят, в основном, за туалетами, чтобы парочки старшеклассников не ходили туда заниматься сексом! Ужас!
А скорее всего, этот Павел Анатольевич – банальный «злоупотребляющий»: любят, любят у нас вояки выпить! Хотя он, может, и никакой не военный, просто сумел как-то в военный санаторий пролезть. На свете ведь всяких прохвостов хватает, уж это мне мамуля внушила накрепко. Ну, тогда тем более пьяница, скорей всего, – раз вот так, на седьмом десятке не обзавелся крепкими корнями, собрался переезжать в чужой город… Я по образованию экономист, хотя цифры, числа не слишком люблю, зато о некоторых вещах размышляю предельно четко. И мне абсолютно, абсолютно понятно, что эти наши случайные-неслучайные встречи под голыми весенними платанами ни к чему! Ну, просто так получается: он сидит в скверике на солнышке, читает газеты – я себе спешу мимо в «Магнит» или из «Магнита», маму-то надолго одну не оставишь…
А в первый раз, когда познакомились, я что-то набрала много картошки-морковки, присела на скамейку отдышаться с сумками. А он вдруг спросил, почему нет нигде поблизости книжного магазина. В его санатории, мол, библиотека не работает. Ну, у нас-то с мамой своя библиотека, книг немало… я и принесла ему два исторических романа! И вот интересно мне с ним разговаривать – хоть недолго, хоть полчасика. Просто так, по-человечески! Что, нельзя? С соседками перекинуться словом, с моими замечательными цветами на подоконниках пошептаться, мамуле что-то сказать по складам и полчаса вслушиваться в ее невнятицу… и все?
А раньше – что было-то? Больше тридцати лет оттрубила в женском коллективе, пока наше дышащее на ладан научно-исследовательское заведение не выпроводило на пенсию. А дома мама-командир… Всего-то хватило пороха на два куцых романа. Но Бог ведь любит троицу, говорят! Очень все-таки интеллигентное… простое, но безусловно интеллигентное, располагающее лицо у Павла Анатольевича, смотрит на меня и все улыбается – так, чуть-чуть… Господи, да что это я, о чем это я?! Ну, точно, как в песне: «и даже пень в весенний день березкой снова стать мечтает»! Березки эти, деревья, в общем… ну еще квартирку нашу уютную – вот и все, что мне положено любить. На роду, видать, написано! И маму, конечно, хотя она с этой своей вечной критикой… да что теперь вспоминать. В общем, хватит уже, хватит строчить ерунду всякую, в самом-то деле!
Действительно, такую ерундовину написала в позапрошлом году, самой сейчас не верится! Да как же можно ЛЮБИТЬ шершавые неподвижные деревья? Елки-палки, пальмы, березки? А Павлуша мой такой огонь, даже со своей палочкой всегда буквально мчится, а не шествует эдак важно, вальяжно, хоть и подполковник. С мамулей как начнет шутить, у нее губы так и расползаются в улыбке, явно бодрей стала! Нет, нет, нет, я люблю Павлика, так люблю, что просто слов нет… Какие еще там деревья?!
Шпион
Дом был – сплошь одни девчонки. Не считая совсем мелюзги, мальчиков всего трое: хулиган-атаман, двоечник-прогульщик Лёха, его правая рука Жорка. Был ещё отличник Саша, вот уж никак не левая Лехина рука, а «хомут на шею». Вечно приходилось его «отмазывать». Потому что его мать, врачиха, никуда Сашу не пускала. Никуда – значило на море. Его широкий галечный берег привечал всех, не одних только курортников в полосатых пижамах. Некоторые девочки даже притаскивали с собой на руках младших сестер и братьев, и, представьте, никто не утонул, ни разу даже не перегрелся на кавказском горячем солнышке!
В прочие походы девчонок обычно не брали, одну Таську, грубую большеглазую второгодницу. Некогда ей было уроки делать, некогда, бывало, и в школу ходить. Мать ломит в санаторной прачечной, отец – инвалид войны, на Таське хозяйство и малолетний братишка Васька. Но две Наташи, две Светки, Таня, Ленка, Лариса в эти детали не вдавались. Таськина вхожесть в мужскую компания раздражала их чрезвычайно…
Этот деревянный девчоночий дом был построен незадолго до войны вместе с очередным санаторным корпусом – «конек-горбунок» рядом с роскошным рысаком. В его коммунальных квартирках-клетушках взрослое, работающее в санатории население тоже отличалось невеселым перекосом в пользу женского пола. Только у Таськи и еще двух девочек были отцы, у остальных детей они погибли, сгинули, сгорели в пекле войны, которая всего несколько лет как закончилась.
И это было счастье, говорили взрослые. Наверно, большее, чем теплое море, переливающееся серебряно-золотыми чешуйками под высоким небом; большее, чем сладостная горчинка дикой черешни, оборванной до последней ягодки в санаторском парке; чем печеная картошка в отгоревшем костре на субботнике либо воскреснике…. Да уж, не очень сытой была эта ватага дочерна загорелой ребятни в линялых майках и сарафанах, зато горластой, настырной, любознательной – ого-го!
Однажды осенью в пору, что и тогда именовалась «бархатным сезоном», атаман Леха, уже шестиклассник (перевели наконец!), посетил несколько уроков нового предмета – химии. Очень даже впечатлился. А потом объявил, что тоже будет «ставить опыты». Секретные!! В овраге, в присутствии доверенных лиц, то есть Жорки, Саши и Таськи. Отличник Саша если и сомневался в чем, то молча, сам-то он пошел только в четвертый класс. Нахалка Таська заявила:
– Я Ваську возьму. Куда его денешь, паразита?
Атаман мазнул брезгливым взглядом хорошенького красногубого Ваську, но не успел ничего сказать, как Таська заверещала-запричитала:
– Ну, ты! Да он все соображает! Смотри, какой он здоровый, я еле-еле поднимаю уже! Ему уже пять… будет! Вот, на Первомай! Ой, нет, на седьмое.. Да, седьмого ноября! Скоро-скоро!
Атаман Леха был строг, но умел учитывать обстоятельства, а, главное, с Таськой было связываться – себе дороже.
– Это самое… Я там поджигать буду… кое-что. Это тайна, сечете? Молчать надо будет до могилы всем! Мало ли что… Понятно? Сечешь, Васька?
Васька вроде бы сек, бешено закивал головешкой, стуча подбородком по маломощной груди.
– Ну, ты, башку оторвешь! – прикрикнула Таська как ни в чем не бывало, и спасибо не сказала! Гордо тряхнула толстыми каштановыми косами, закидывая их за спину. Жорка и Саша насупились, в который раз бессильно, безмолвно вопрошая себя: да почему это командует какая-то девчонка, какая-то там Таська… Ну, понятно, вопрос из разряда вечных.
Компания пошла за дом, за сараи, к границе с соседним санаторием. А ею-то и был овраг. Таська заходила туда с девочками каждую зиму, субтропическую, дождливую, с нечастым несерьёзным снегом. Уже в январе здесь появлялись крохотные, нежные цветы. Так чудесно было отыскивать на влажных склонах незаметные лиловые клювики: кустики фиалок… А еще россыпи душистых примул («барашек» по-местному), ярко-розовые фонарики цикламенов! Особенно ценились подснежники – такие хорошенькие белые колокольчики…
Ребята спускались по тропке всё ниже, ниже. Ближе к немолчному клёкоту чистого ручейка под нависающими корнями деревьев и вековыми валунами в мягком панцире мха. Вот замечательное потаённое местечко – такой каменистый узкий каньончик. А дальше по течению ручья нагромождение камней, серый песок вокруг озерца. И всегда здесь такая тишина! Только позвякивает вода, не задерживаясь в своей ямке, сбегая вниз к морю, да редко-редко доносится отдаленный шум, гудки. Что-то там наверху проехало по Курортному проспекту, паровоз пропыхтел внизу…
– А как называется наш ручей? – вдруг спрашивает Таська.
– В науке географии такие маленькие ручейки не имеют названия, – поторопился с ответом Саша.
– Не-а, я знаю как – Черныш! Потому что море – Чёрное, понял? – самоуверенно объясняет Таська и тут же сама смеётся:
– Вообще-то нет, не Черныш, вон он какой, точно стеклянный!
– Ти-ха! Разговорчики! – Лёха, развязав мешок, достаёт стопку старых газет, вынимает из кармана грязноватый свёрток. Что это в нём?!
– Из кабинета химии спёр, – загадочно–небрежно поясняет он, – сверху накрутим ещё газет. Да вы сами давайте, крутите! Что я вам нанялся всё делать? Я пока курну.
Уступив ассистентам, Таське и Саше, поле действия, атаман так же небрежно закуривает длинный бычок, «беломорину», небрежно присаживается на валун. Щуплый Жорка мостится рядом, умильно поглядывая на папиросу. Наконец и ему достается пыхнуть раз, другой. Они уже здоровые пацаны, Леха с Жоркой, после семилетки сразу пойдут работать, матерям помогать. А там и в армию! Ждут не дождутся…
Ну вот, неуклюжий газетный шар готов.
– Всем отойти за каменюги! Спрятаться всем, я говорю! – Лёха шумно затягивается беломориной, тычет её в шар и резко отскакивает… Желтоватая бумага ещё больше желтеет, коричневеет, съеживается. Противный густой дым ест глаза, мешает увидеть – что?! Вот он еще больше сгущается… Какие-то необыкновенного цвета языки пламени вырываются из его недр, необыкновенный резкий запах лезет в ноздри…. И все вроде. Таська первая поднимается с корточек во весь рост, моргает, морщится. Все, что ли? Чёрные хлопья чуть вздрагивают на песке…. Всё.
Девочка разочарована, мальчишки, кажется, тоже. Один малолеток Васька в восторге и от «секретного» опыта, и от того, что он закончился. Пацанёнок вдруг начинает бешено скакать на месте, хохотать, выкрикивая всякую чепуху.
– Цыц, малявка! Помнишь? Никому! Могила! – хмуро напоминает Леха.
– Ну, ты! Че распрыгался, как дурак!.. Да он, Лешка, все понимает лучше нас! Да пять лет ему на седьмое… – привычно затянула Таська, думая о другом. Ну, подожгли, ну и что? Что-то этот секретный опыт каким-то ерундовским вышел! Костер на воскреснике и то интересней. Леха, понятное дело, двоечник, второгодник… Как и она, Таська! Ну да ладно….
Из оврага, не сговариваясь, пошли в парк – привычно побеситься, побрызгаться водой из фонтана с романтической мраморной купальщицей. Утомившийся Васька уселся на скамеечу, где скоро заканючил: «Кусать охота… Кусать хочу-у-у…» Его нытье потихоньку пробуравило воздушный шарик всеобщего оживления, упоения бегом и криком – жизнью! Повернуло ребят к дому.
В быстро опускающихся на парк сумерках Васька вдруг оробел. Ему почудилось: громады кипарисов, точно вредные великаны, вот-вот сомкнутся, сомнут его своими душными боками… За то, что «поджигали»! Что-то чуть хрустнуло под ногой… Маленький шершавый мячик, кипарисовая шишечка. Васька что было сил стиснул ее дрожащими пальцами, другой рукой цеплялся, не отпускал Таськин подол… И тут зажглись фонари. Еще, еще несколько шагов вдоль благоухающего розария в квадрате низкорослых кустов самшита – и вон он, «пятачок»! С почтой, магазинчиками, с пивным ларьком, облепленным мужичками, местными и приезжими.
Васька с воплем кидается в ту сторону, в колени, ну конечно, Васьки-Таськиного отца, пивнушка – его наиглавнейший пост.
– Паа-ап! А мы в овлаге, в овлаге, там, поджигали!!
На это чрезвычайной важности сообщение отец почему-то никак не реагирует. Только когда его кружка пустеет, рассеяно треплет Ваську по загривку единственной, уцелевшей на войне рукой:
– Картошку, что ли, пекли? Беги, беги давай к Таиске, поджигатель!
Трагически дрогнули, насупились выгоревшие атаманские брови, гневно затрепетал облупленный нос:
– Это самое…. Болтун – находка для шпиона. Сам значит шпион! Устроим Ваське бойкот, пацаны. И ты, Таська, слышишь? Не разговаривайте с ним. Навечно! Нечего, это самое….
– Ну ты … Сам шпион! – пискнула Таська потрясённо.
– А ничего особенного! Их, этих шпионов, у нас в эсэсэр тыщи! Даже мильены! Шпионов, вредителей всяких. Это самое… врагов народа! Кино смотреть надо! – разъяснял сердитый Лёха.
И пару дней никто из «поджигателей» с Васькой не разговаривал. Сама Таська остерегалась ему при ребятах «нутыкать». Даже жалко, что он вроде ничегошеньки не понял! Кажется, и не заметил, скакал себе с малышней. Ясно, что пять лет ему исполнялось всё-таки на Первомай.
Скалолаз
Привычная такая картина была когда-то: тащат отдыхающие – «здыхи» по-грубому, по-местному – посылочный ящик в сетчатой цепкой авоське. Фейхоа, хурма, солнцеподобные мандарины-лимоны, разумеется. Тверденькие, по возможности чуть недозрелые, спеленутые бумажками, каждый индивидуально. Розовый павильон с южными нарядными арками, почтамт, начинал заколачивать гвоздями все эти субтропические экзоты рано и громоподобно, хотя в доме напротив на это реагировали одни бездельные «здыхи», опять же, Сами, конечно, с заготовленным штабелем таких же ящиков!
Деревянная коробка этого дома «барачного типа» (Нет, нет, не «барочного»!) тоже была словно обхвачена серыми веревками – красавицей глицинией. Ее ствол завивался толстыми нестрашными змейгорынычьими кольцами чуть ли не до печных труб! День и ночь старушка усыпляюще шуршала листьями, в мае изысканно-парфюмерно благоухала водопадом лиловых цветов-подвесков. Именно такими рисовались Вете роковые подвески королевы Анны, добытые героическим д’Артаньяном из-за моря… А здесь, в окне ее высокого второго этажа море наличествовало – громадное и манящее уже с утра, – но по противоположному берегу ходили-бродили одни отсталые капиталистические турки. И никаких тебе влюбленных отдаленных герцогов!
Вечером, когда мать, утомленная грызней с коммунальными соседками, а больше избыточным, на две ставки, лечением санаторных больных – что саму ее, крупную, тяжело дышащую, крутую, взрывную, лечить надобно, Вете открылось довольно рано… Так вот, когда матушка бросалась в койку, завалив ухо твердокаменной подушкой, Вета скоренько бросалась на веранду. Вылезала из окна по глициниевым извивам и неслась к летнему кинотеатру! Где, сидя на кипарисе в кругу несостоятельных киноманов всех возрастов – билет стоил аж двадцать копеек, только на первые два ряда десять, – досматривала очередную… Ну, как правило, love story, хотя словами такими никто тогда не бросался, в ходу были иные зарубежные фразы типа «хенде хох, фашист!»
Именно так приветствовала однажды Вета рыженького здыха-целинника Леника, который каждое лето с родителями обретался на такой же веранде у соседей. Это называлось «снимать коечку». «Снимать девочку» умели и в те времена ребята постарше, но именовалось это тоже по-другому. Только, конечно, Леник средь бела дня забрался к ней по глицинии не потому совсем… Да просто так забрался, но Вета все равно разъярилась:
– Что, на своей целине тоже по чужим окнам шастаешь?
– Вообще-то по происхождению я москвич, сечешь? Романтик, как мои предки. Вот захотелось им взять необыкновенную высоту в жизни…
– Ага, и понесло их в степь за высотой, ничего себе. Идиотизм полный, в Москве ведь все-все! МГУ, например!
Со второго класса Вета почти единолично выпускала классную стенгазету, у которой лишь название менялось с годами. («Колючка» стала «Кактусом», потом, с полетами космонавтов «Нашим космосом», а далее, совсем уж возвышенно, – «Алым парусом».) Естественно, мечтала стать журналисткой, и потому все родные снеговые вершины, уж не говоря про какую-то плоскую степь, ей застил горделивый небоскреб на Ленинских горах…
Леник ничего этого не знал, оскорбился за родителей и потому стал злобно пихаться и валить Вету на ее продавленный диванчик. И вдруг поцеловал в уголок глаза… скорее, в нос!
Никогда, между прочим, никаких больше нежностей между ними не проскакивало, не случалось категорически. Вета была серьезная восьмиклассница, хотя тоже весьма романтично недавно переименовала себя, вернее, отсекла первую букву имени. И требовала, чтобы все теперь эту неугодную букву позабыли-позабросили! Навеки!
– Света… – промямлил тогда потрясенный собственной прытью Леник, и потому был с удвоенным негодованием изгнан с веранды. Тоже навеки!
А был он, конечно, шухарной, умненький пацан. Но, во-первых, на год младше Веты, да еще такой дурацки ушастенький! Ох, как они, эти его ушки-завитушки, бывало, розовели на пляже, пронизанные солнцем, прямо тебе затейливые кораллы. У нас на Черном море такие не водятся, издевалась Вета, вот разве что в чингисхановских степях!
Но когда второй раз Леник осмелился навестить Вету уже на четвертом этаже (то есть по пожарной лестнице и далее по карнизу!), выглядел он «ничтяк». С хипповскими лохмочками, баррикадирующими уши и даже картинный крутой лоб, был он вылитый битл Джордж Харрисон! А она уже являлась студенткой-первокурсницей, – увы, провинциального вуза, простенького, но журфак в нем наличествовал.
Леник, понятно, все еще прозябал в десятом классе и прикатил на весенних каникулах в университетский город с волейбольной командой, на соревнования. Тогда это широко практиковалось и даже не именовалось благотворительностью. (То есть тысячи деток-спортсменов, деток-музыкантов разъезжали по стране бесплатно на всякие турниры и конкурсы, вовсе не обещая поголовно дорасти до Родниной либо Кисина!) Да, но правды ради следует сказать, что Леник-то… Ну, потом, дальше.
Одним словом, прелестно они тогда полдня побродили по очень обыкновенному городу-крайцентру, – казачьей станице в недавнем прошлом. Вышли к реке, тоже обыкновенной, не Москва-река тебе, не Нева, скажем. Тем более, не море Ветино, так часто о себе напоминавшее: странновато было ходить по улицам без этого обязательного огромного ориентира! Здесь же маяками-ориентирами громогласно выступали Сенной рынок, Колхозный рынок, Блошиный… Фу!
Но возвращаясь к обыкновенной городской реке, надо отметить ее сверкающее, полноводное, чистое течение в тот солнечный день! И очень чистыми и смешными были их нескончаемые разговоры и воспоминания. («Так чего тебя понесло тогда на мою веранду, интересно?» «Интересно? Да так, в общем-то… Здоровенный стал, интересно, думаю, выдержит глициния такого медведя?» «Глициния-то выдержала…») Посидели в кафе и расстались вечером у дверей студенческого общежития: вахтерши – звери, приглашать кого в гости расхочется моментально. И потом, Леник на год младше, всего-то десятиклассник…. Ну, понятно.
А через полчаса Ветины соседки по комнате вдруг завопили дружным трио, захохотали, заахали – в темном окне обозначился Леник с букетом сирени!
– Так ты в «Спартаке» играешь? У Колхозного рынка? Я приду! – объявила Вета, но Леник замотал головой – тренер взбесится, все, все, пока…
Были потом от него письма – работаю, заочно учусь в архитектурном институте, очень хорошо к тебе отношусь. А поздравление, кажется, с восьмым марта, было начертано на листке с ее акварельным портретом, с хохмаческим комментарием. Дескать, девчонок лучше рисовать по памяти, они, вертухи, «каждый сеанс позирования точно хулахуп крутят». Запомнился, запомнился этот «каждый сеанс», из-за которого Вете расхотелось что-либо отвечать этому Ленику. «Каждый сеанс»… с каждой девчонкой? Скажите, пожалуйста!
Но вот лет через пятнадцать в чудесном старинном польском городе, в заштатной харчевне «Злата качка» («Золотая утка», то есть) интересный такой, крупный мужчина вдруг подсел к Вете… «Ты?! Ах, я так рада, Леня!»
Был он здесь не один, с женой, с горластой группой по профсоюзной путевке, наименее в те поры дефицитной. (Не то, что, скажем, в ГДР!) Сама Вета не без нервотрепки выбралась в братскую Польшу на творческий семинар, как успешный редактор столичного радио. Вообще-то, такая встреча за границей, хоть даже в соцстране, тогда показалась почти сказочной… Пальнул, стрельнул, мол, Иван Царевич в золотую утку, а она обернулась красной девицей: очень хорошо Вета смотрелась в алом модном брючном костюме, со стрижечкой под Мирэй Матье! Изящно помахивала супругам ручкой на прощанье – с крыльца «Качки» этой.
А Леник вдруг… Ну конечно, степной скалолаз Леник развернулся, подбежал к крылечку сбоку, там, где стояла Вета, потянулся, подтянулся… И вот он уже рядом с ней, смеется, обнимает ее не крепко, не нагло, но абсолютно безоглядно! То есть совсем не глядя на изумленных Ветиных коллег, на жену, что внизу ресничками хлопает, такая худышка молоденькая, очень и очень миловидная… А вот Ветин муж, будь он здесь, определенно не глазами хлопал бы – проверено, как говорится.
Домысливая впоследствии нерядовой этот эпизод, Вета ежилась от широкого, с широчайшей улыбкой исполненного жеста Глеба, каким бы он, скорей всего, хлопнул Леника по плечу! Кулаком и изо всех сил. А дальше изгадил бы ей всю поездку глумливой, нетрезвой веселостью – сама виновата, дескать! Мщу! Ветиных друзей, равно как и дружелюбие – не сыгранное, не спародированное – Глеб отметал изначально. Обаятельный интеллигентный москвич, эрудит, талантливый математик, мужем был очень, очень непростым…
Немудрено, что оказавшись среди почетных гостей на международном форуме в новенькой казахской, а некогда комсомольской, целинной столице, Светлана Юрьевна (уже наконец разведенная, уже дважды бабушка) быстренько вспомнила, где находится. Леник с его высотными заходами-заскоками так и влез в память, прилепился к той девочке Вете из южного города, где нынче затевалась грандиозная Олимпиада! Отсюда приезжал он к ее глициниевым пенатам, теперь фантастически отдаленным, отделенным от всех ее дальнейших цветов и шипов этим коротким, неуклюже цокающим словом «детство»… Иногда так трогающим ее закаленные сердечные клапаны – до боли, до ностальгического минора!
Нет, правда, и в двенадцать, и в восемнадцать такие ведь еще младенцы были… Пожалуй, никому в свои московские руководящие годы так вдруг не обрадовалась Светлана Юрьевна, как Леониду Алексеевичу Трошеву, проживающему – да-да, вы зря сомневались! – по такому-то адресу в двух шагах от ее гостиницы. Молодой человек из оргкомитета конгресса мимически сдержано изумлялся ее изумлению – наш президент сердечно приветствует русские кадры во всех производственных сферах!
А сферы Леника были, однако, явно непроизводственные, о чем моментально доложил объемистый рембрантовский берет на тех же, казалось, хипповских кудрях! (Точно вдруг ветрами местными знаменитыми толкнуло, развернуло Светлану Юрьевну к окну, хотя вот только договорились по телефону встретиться в холле…) Да, вот он, Леник, неподалеку на тротуаре в берете этом: широкие плечи красиво откинуты, руки в карманах куртки. Покачивается с носка на пятку, скользя взглядом по гостинице, точно примеривается, скалолаз такой, как бы это… Слава Богу, ее поселили на втором этаже! Объятая счастливым, смешливым ужасом, Светлана Владимировна заспешила из номера, на ходу, точно молоденькая, подкрашивая улыбающиеся губы. Тщетно пытаясь охладить, одернуть себя: «Парочка без пяти минут пенсионеров приготовилась подсчитать друг у друга морщинки, набежавшие за двадцать лет!»
Очень скоро подтвердилось: морщинки, конечно, у Леника наличествовали. И архитектуру он оставил ради живописи, причем, небезуспешно. Да что там, профессионально скептичной Светлане Юрьевне он показался мастером, и без всяких там снисходительных натяжек! Эти степи, повлекшие к себе его эмоциональных, юношески иррациональных родителей… Что-то в них было! Можно ведь иначе окрестить эту совершенную бескрайнюю плоскость земли, будоражившую древних. (Так где же, где все-таки ее краешек, чреватый падением ушедших караванов и кораблей?!) Совсем другим словом эту уплощенность – не упрощенность! – означить! Например, великий первозданный простор, ковер…