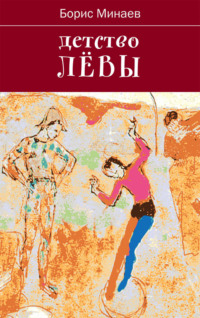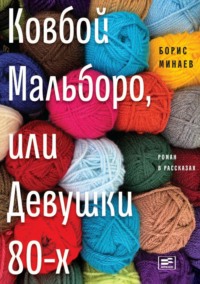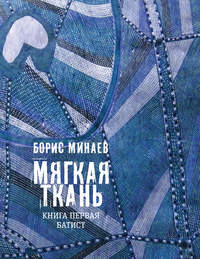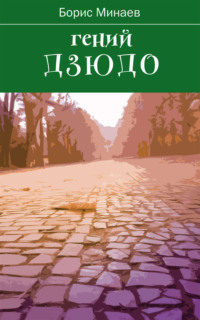Полная версия
Площадь Борьбы
Щели – защиту от авиабомб и возможных артобстрелов на тот случай, если до нормального бомбоубежища добежать не удалось, – рыли с таким расчетом, чтобы удобно было прятаться в них жителям нескольких соседних домов. По сути, такая же траншея, только поуже. Московская земля суше, тверже, вся просыпана железом и камнями, рыть ее было гораздо труднее, но то, что им помогали сами жители, приносившие из дома кто бидон с водой, кто хлеба, кто яблок, давало заметное облегчение, хотя и не всегда.
Люди между тем среди простых москвичей попадались разные.
Попадались, конечно, и совсем странные субъекты. Один вполне солидного вида мужчина (в основном-то мужчины были днем на работе), вышедший из большого пятиэтажного дома на Новой Басманной им помогать, привязался настолько, что она вынуждена была назвать свое имя и даже дать телефон, и вот он названивал теперь по вечерам слабым задушенным голосом (Роза предполагала, что он закрывается подушкой, чтобы жена не слышала) и требовал встречи, хотел сказать что-то очень важное.
– Опять твой ухажер звонит, помоложе найти не могла? – звал папа из коридора, а она, только приехав из-под какой-нибудь Рузы, ничего не соображая, не поев толком, со страшной ломотой во всем теле, была вынуждена все это выслушивать и вежливо отшивать этого почти старого уже человека.
В один из моментов этого нелепого телефонного романа (слава богу, на Новую Басманную их больше не посылали) он, этот самый Тимофей Васильевич, вдруг сказал ей такую вещь:
– Таля, только я вас умоляю, скорей уезжайте из Москвы! Передайте вашему отцу, что оставаться здесь смертельно опасно. Хотите, я всей вашей семье достану купе? На следующей же неделе?
Когда она передала этот разговор папе, он побледнел и усмехнулся, серьезные, мол, у вас отношения, я вижу, а Таля вспыхнула и обиделась.
В этой истории странным было то, что Тимофей Васильевич углядел ее во всей этой нелепой одежде, старой обуви, в пальто на вате, смешном берете, видно, глаз был у него на такие вещи зоркий, даже чересчур – и не только углядел, но и угадал, что она не будет его отшивать резко, то есть уловил ее мягкую душу, и в этой его прозорливости, жадности было что-то неприятное.
Или приятное тоже?
В общем, она не знала.
Но это было еще ничего – как-то жалко, нелепо, смешно, такие дурацкие ухаживания во время войны, но понятно, объяснимо, а вот когда во время рытья щелей ей вдруг сказали, что все это мартышкин труд, потому что немец все равно будет в Москве через неделю или две, она пошла с лопатой наперевес и потом пожаловалась Васе. Он поправил красную повязку на рукаве, как и отец, побледнел и спросил грозно, кто это сказал.
Но того дядьки и след простыл.
Дело было, конечно, не в этих ядовитых мерзких словах, а в том, как они были сказаны – не для того, чтобы оскорбить, ударить, а с полным сознанием своей правоты, уверенно, как будто священником с амвона.
Но она оглянулась, выдохнула, вслушалась в звон трамвая и забыла.
Увы, такие счастливые московские дни у трудфронта бывали не всегда – горком партии делал все, чтобы решить оборонные задачи своими силами: дежурные по дому, подъезду или району выгоняли оставшихся жителей на трудовые подвиги каждый день, а их посылали подальше – причем после первой линии обороны они начали рыть траншеи второй линии, гораздо ближе, и это уже пугало.
Порой им находили ночлег, на три дня, на четыре они оставались там, где-нибудь в Лобне, ни помыться, ни постираться, было страшно и грязно в этих общих комнатах – общежитие опустевшего завода, казарма, пионерский лагерь, пугала темнота, пугало отсутствие ясной перспективы, то есть когда обратно домой, пугало черное поле и какие-то глухие звуки.
С Розой они шептались по ночам.
Роза ничего не боялась.
– Мы победим! – шептала она, засыпая.
Так ли?..
Да, да, да, но все это было возможно тогда, в сорок первом году, той страшной и вместе с тем прекрасной осенью, но теперь, в морозном феврале сорок четвертого, когда они вернулись из Барнаула, слава богу, насовсем, навсегда, все стало иначе, и, что особенно важно, теперь она уже не девчонка, а взрослая женщина, молодая мать и одновременно невеста, и без новых туфель ей никак нельзя. Ну вот никак нельзя.
Папа сильно задумался, когда она ему об этом сказала.
– Надо изучить вопрос, – сказал Даня Каневский своей дочери Этель и начал его изучать.
…Туфли скоро купили, но не ей.
Площадь Ногина
Даниил Владимирович Каневский, которому исполнилось в январе сорок первого года ни много ни мало сорок девять лет, стоял на крыше пятиэтажного дома на Площади Борьбы и смотрел оттуда вниз.
Он осторожно нагнулся, чтобы посмотреть вниз, даже схватился за небольшой железный барьерчик, крыша была слегка поката, ладонь ощутила неприятную сырую ржавчину. Сощурившись, он пытался высмотреть что-то в глухой темноте – там во дворе тихо перемещались какие-то тени, приглушенно звучали шаркающие шаги, иногда даже слышался сдавленный смех, – но все окна в доме (и в окрестных домах) были темны, наглухо задраены, свет везде выключен, уличные фонари потушены, и непривычная темнота ощущалась как плотность воздуха, как густая взвесь, от которой было трудно дышать.
Ночное пасмурное небо вдруг осветили прожектора. Белые бледные пятна медленно перемещались там, деля туманное пространство на сектора и на квадраты, кромсая его гигантскими ножницами, и вот между этих разрезов вдруг метнулся силуэт самолетика, который казался игрушечным, на самом деле гудящий штурмовик летел почти над домами – и глухо застучали зенитки (батарея, судя по частым бликам, стояла где-то в самом центре). А здесь – на Площади Борьбы, на их дежурной крыше – «районные противопожарные расчеты номер восемь, семь и шесть», то есть мужчины среднего возраста в пиджаках и кепках, плащах и шляпах, выстроились по тихому свистку старшего, заняв свои места. Даня, плотнее надвинув кепи на лоб, глупо улыбнулся в темноте – давно, ох, давно не вставал он по росту и не отвечал коротко: «Я!» – на вопрос: «Каневский?»
Дом этот был очень странный – изогнутый таким образом, как если бы великан взял гигантскую кочергу и согнул ее, но не скрутил, а лишь согнул, демонстрируя собственные бицепсы, еще кто-то говорил, что дом похож на корабль своей треугольностью, но нет, он был похож именно на изогнутую великаном кочергу, он резко возвышался над слабо шелестящим садом Туберкулезного института, над уходящей вниз, как бы даже прыгающей вниз Самотёкой, и дом этот был, конечно, очень хорошей мишенью для бомб.
В эти осенние дни Москва горела сразу во многих местах.
Страшный пожар был в районе Кудринской площади. Говорили странное, что вроде бы за несколько дней до пожара ночью приехала команда военных строителей и возвела непонятные, бессвязные деревянные конструкции, которые с воздуха должны были напоминать московский Кремль.
И что именно поэтому туда был направлен массированный удар, невзирая на встречный огонь зенитных орудий.
Пресня пылала всю ночь и следующий день, догорая в вечерней тьме. Пострадало много домов и много людей. Но Кремль, конечно, был спасен.
Гораздо страшнее были сообщения с Мытной улицы – там на всех не хватило подвалов каменных домов (хотя именно там каменных домов было куда больше, чем здесь, в Марьиной Роще), и поэтому для жителей вырыли глубокие подземные укрепления, настелили бревна, засыпали сверху землей, навалили мешки – но фугасная бомба пробила все это и попала внутрь. Погибли все, кто сидел в бомбоубежище, никто не выжил вообще, так говорили в очередях и на остановках.
Многие москвичи после этих слухов решили оставаться во время тревоги дома. Хотя это и было строго запрещено.
Неизвестно, сколько именно их было, погибших на Мытной улице, говорили тогда про сорок человек, потом про сто сорок, цифры назывались разные, в газетах, конечно же, ничего об этом не писали.
Горели вагоны и склады в районе Белорусского вокзала.
Проезжая на трамвае знакомыми маршрутами, Даня отмечал (с каким-то чувством вины) следы новых и новых бомбежек – например, сгорели деревянные или полудеревянные дома в районе Гранатного переулка; обычные московские дворы и кварталы, мимо которых он проходил сто раз, превратились в руины и продолжали тлеть, на Овчинниковской набережной тоже снесло и разворотило немало домов, в Руновском переулке снесло один и разворотило полдома, люди ходили мимо стен, покореженных бомбой, даже не оглядываясь (привыкли?), но, конечно, особенно страшно было смотреть на памятник Тимирязеву у Никитских ворот: каменный академик в своей строгой шапочке уныло глядел на московскую землю, лежа на земле, уткнувшись в нее щекой и носом, его огородили заборчиком, что-то там вокруг уже ремонтировали, строили, но как символ наступающей беды он – поваленный Тимирязев в шапочке и со сложенными на причинном месте руками – был, конечно, весьма печален, рядом зияла огороженная яма – воронка от бомбы, чудовищно глубокая. Окна во многих домах вылетели, жильцы занавешивали их одеялами, тряпками, оставшиеся целыми заклеивали крест-накрест, дома имели от этого больной вид. Даня пытался понять, отчего же возникает у него острое чувство вины – оттого, что его не убили, что не его семья пострадала? – нет, это странно, это не так, но чувство вины определенно было – неожиданные толчки в груди: холод неизвестности подступал отовсюду.
В то же время Даниил Владимирович с удивлением ощущал в себе и некоторые благотворные перемены.
Он почему-то стал легче дышать с начала войны. Ему нравилось дежурить на крыше в эти ночные часы. Он стал с аппетитом есть, чего с некоторых пор за собой не наблюдал, и охотней разговаривал с сослуживцами, замечая что-то новое – этот, оказывается, тоже рыжий, как и он сам, у того четверо детей, с этим можно поговорить о шахматах.
Стоя сейчас на крыше, Даня подумал, что воздух тут все-таки очень чистый, ясный, свежий, хотя и чересчур густой от темноты, и такой воздух теперь всюду вокруг него – воздух покоя, а смысл этого покоя в том, что он теперь такой же человек, как и все остальные.
Возможно, так организм пока еще здорового человека (пока еще, усмехался Даня) реагировал на острое ощущение новой жизни Москвы. Витрины магазинов, заложенные мешками с землей. Траншеи, прорытые прямо посреди улицы. Метро на площади Маяковского, ночами превращавшееся в огромное бомбоубежище, где вповалку спали люди. Десятки военных патрулей, целые колонны солдат, бесцельно, на взгляд постороннего, но очень деловито шагающих по Москве в разных направлениях, все с винтовками, некоторые с вещмешками, то есть при полной выкладке. Баррикады из бревен и противотанковые ежи, удивительные сварные конструкции, повитые колючей проволокой. Стены домов, обильно заклеенные строгими листовками и плакатами.
Даня такого не видел со времен Гражданской войны.
Это ощущение неизвестности – гигантской неизвестности, нависшей над городом, над миром, над ним самим и его жизнью, – было ему когда-то хорошо знакомо.
Однажды он шел в районе улицы Герцена. Вдруг люди остановились. Он тоже остановился и посмотрел в ту сторону, куда смотрели все. Над домами медленно плыл аэростат. Он уже их видел – продолговатые, в форме дирижабля, воздушные шары, которые висят над крышами домов во время ночных бомбежек. Вблизи аэростат оказался серым, брезентовым, похожим на раздувшуюся плащ-палатку. Его волокли на тросах четыре девушки. Вернее, это он волок их – так казалось: огромный, могучий, он плыл над крышами, над улицей, а они вели его, как лошадь или верблюда, направляли умело, держа с четырех сторон, иногда упираясь ногами и покрикивая друг на друга, с напряженными спинами, но все-таки хорошенькие, в юбках до колена, кокетливых пилотках и отлично сидящих гимнастерках.
– Дайте дорогу, товарищи! – крикнула одна из них.
Даниил Владимирович стоял довольно далеко, но, повинуясь безотчетному чувству, чуть попятился – и немедленно упал в траншею.
Это была, собственно, даже не траншея, а яма – траншею только начали рыть, а потом бросили, потому что концепция изменилась – и ее решили рыть в другом месте, сейчас вся Москва была в этих неожиданных ямах, слава богу, вырыли неглубоко, но темнота, вдруг повалившаяся на Даню, заставила его слегка испугаться, и потом, он сразу вымазался, пока вылезал, и пока летел тоже; слава богу, ничего не сломал, не вывихнул – словом, случай был смешной, пришлось в таком непотребном виде ехать в трамвае домой, а ехать было далеко, на него с недоумением смотрели, а он только молча разводил в ответ руками – такое дело, товарищи!
Возле дома его, грязного с головы до пят, остановил постовой и спросил, что случилось. Пришлось объяснять.
– Что ж, товарищ – время военное! – сказал постовой милиционер и отдал ему документы.
Именно в этот момент Даня, как показалось ему, понял смысл происходивших с ним изменений. Случись это с ним – проверка документов на улице – еще три-четыре месяца назад, то есть до начала войны, Даня несомненно пережил бы это иначе. А сейчас он засмеялся и пошел дальше. Страх – как будто навсегда – исчез.
Тот страх, который жил с ним постоянно с момента ареста младшего брата Мили. Тот страх, с которым он прожил в Малаховке больше года, который сопровождал его всюду – на работе, дома, на улице, – этот страх вдруг ушел. Возможно, он был вытеснен другим – перед неизвестностью, перед бомбежкой, перед смертью, перед войной – но он ушел.
Этот прежний страх был страхом одинокого человека, на которого любой может показать пальцем – держите его!
Нынешний страх – да и можно ли было назвать его так? – это было ощущение общей беды и общей жизни.
Отныне Даня жил вместе со всеми и вместе со всеми боялся – или не боялся. Нет, скорее не боялся.
Кстати, придя домой тогда, весь в грязи, с порванной под мышкой рубашкой и в изгвазданных штиблетах, он переоделся и пошел за чайником на кухню. Там он встретил Светлану Ивановну Зайтаг, свою загадочную соседку.
– Вы знаете, Даня… – сказала она внезапно. – А я опять начала спать… Все сплю, сплю, сплю… Даже не знаю, надолго ли это… – И радостно коротко засмеялась.
Он сразу вспомнил, что когда-то давно Светлана Ивановна говорила ему, что не может заснуть, вообще не может. Какое-то воспаление в голове.
Теперь, глядя в ее светлые глаза, он понял, что она тогда говорила чистую правду.
Но именно в эту ночь Даниил Владимирович не смог заснуть.
Он все время думал про этих четырех девушек с аэростатом. Вот они идут и тянут эту надутую махину на тросах. Он вспомнил, что их всегда четыре… не три, и не пять, и не восемь. И что это какое-то ангельское число. (Почему ангельское? Он не знал.)
Он лежал в темноте и думал, что случится, если вдруг аэростат их унесет.
Вполне возможно, что в какой-то момент он поднимется чуть повыше, поймает воздушный поток и дернет их за собой.
Сначала с них начнут падать сапоги, а потом первая из них упадет с большой высоты вниз и разобьется.
Но потом он вернулся к первой мысли – об ангельском числе – и представил, как крылья прорастают у них за спиной, и они летят, летят…
– Тебе принести воды? – тихо и сонно спросила Надя.
– Да нет, спасибо, – ответил он. – Я сам.
Надя, и это было естественно, спрашивала его: что они делают во время этих ночных дежурств на крыше? Сначала ей было очень страшно, но потом она привыкла, что муж так часто уходит по ночам из дома. Даня смеялся и отвечал односложно:
– Ловим бомбы!
– Да ну тебя! – обижалась она. – Куда вы их ловите? В ведро, что ли?
Однажды Даня, кстати говоря, услышал, как рассказывает об этих дежурствах его новый знакомый (коллега по дежурному противопожарному расчету № 6) Сергей Яковлевич Куркотин, ответственный товарищ из какой-то газеты.
Они возвращались ранним утром (тревога не прекращалась, и их не отпускали до конца комендантского часа, до семи), и Сергей Яковлевич на улице встретил свою знакомую.
Он не упустил случая, произнес целую речь перед ней, и эффектная молодящаяся дама стояла и слушала, глядя на него восторженными глазами:
– Зимой… – говорил Сергей Яковлевич, смешно и значительно насупив брови, – зимой, Валечка, наш дворник, стоя у самого края крыши, сбрасывал вниз снег. Я смотрел на него как на существо фантастическое, как на человека неописуемой храбрости. И вот, Валечка, мы стоим там же, где в мирное время стоял дворник, в брезентовых рукавицах, вооруженные лопатами и щипцами. Теперь это место называется «Пост № 6, 7, 8». К нам выведены концы пожарных шлангов. Отсюда превосходно видно, что делается на крышах других зданий. И вот, Валечка, представьте себе… гул самолета, его сопровождают мечущиеся по небу лучи прожекторов, зенитки торопливо бьют, вспышки разрывов рвут темное небо. Наши руки напряженно сжимают щипцы для зажигательных бомб, которые нужно бросить туда, если что… вы понимаете, Валечка, бросить мгновенно! – мы на посту, мы готовы их хватать за стабилизаторы и сбрасывать вниз, чтобы не дать поджечь наше жилье, нашу Москву… И вот… Немецкий самолет, преследуемый прожекторами, поспешно поворачивает. Он успевает сбросить бомбы на соседние дома. Нам хорошо видны вспышки огня на крышах. Представляете, Валечка? Какой-нибудь бухгалтер одного из бесчисленных трестов, пожилой мужчина с животиком, хватает щипцами огонь, упавший с неба, и сует в ведро с водой. Или сбрасывает во двор и, наклонившись, кричит:
– Туши там, внизу!..
Дама слушала со слезами, и было видно, что ей хочется броситься Куркотину на шею.
– Да вы поэт, Сергей Яковлевич! – смущенно сказал Даня.
– А вот этот человек! – вдруг вскричал Куркотин, показывая на Даню. – Нет, я вам говорю истинно, вот этот человек – он заряжает нас всех своей молчаливой уверенностью, своей немногословной иронией, он душа боевого расчета! Мой друг… – гордо сказал Куркотин. – Мой друг, Даниил Владимирович Каневский.
– Очень приятно, – зардевшись, сказала Валечка.
– Хочется сказать – давайте отметим нашу встречу! Но, увы, рестораны в этот час еще закрыты, – попытался снизить этот невыносимый пафос Даня.
Но Куркотин и Валечка посмотрели на него с несколько брезгливым недоумением, как будто он икнул в опере.
Вот так рассказать Наде или девочкам о своем боевом дежурстве он бы никогда не сумел.
Впрочем, тут был нужен особый дар – которым, безусловно, обладал Куркотин.
Несмотря на возраст – а он был старше Дани, Куркотину было далеко за пятьдесят, – несмотря на одышку, нездоровую полноту, боли в суставах, несмотря на все признаки надвигающейся старости, Куркотин обладал даром зажигать и зажигаться. Это был удивительно вдохновенный тип. Он был настолько искренен в этом своем вдохновении, что Даня проникся необычной для него симпатией – ведь, в сущности, он совсем не знал этого человека, они виделись только во время дежурства. В сущности, он совсем не знал этого человека.
Впрочем, однажды рано утром их, пожилых мужчин, ответственных работников разных ведомств и комиссариатов, погнали на строевую подготовку куда-то в район Красных казарм, где был огромный плац. Там им выделили место, и они тренировались, печатая шаг и выполняя команду «раз-два, кру-угом!».
У Куркотина это никак не получалось, и тогда он отошел от строя и начал тренировать свой поворот сам. Было слышно, как он себе подсчитывает шаги:
– Раз, два, кру-угом.
Потом они стреляли из винтовки по мишеням.
Даня попал два раза, Куркотин три.
Возвращались в центр вместе на трамвае.
Куркотин вдруг спросил:
– На Гражданской воевали?
Даня неохотно кивнул.
– Где?
Вопрос не предвещал ничего хорошего. Такие вопросы задавали на партийных чистках. Ну и в другом месте. Но тут вроде бы иная ситуация была, не чистка и не допрос.
– На Юго-Западном фронте воевал, – коротко ответил Даня.
– Ясно, ясно… – торопливо кивнул Куркотин. – А я в политотделе Екатеринославского чека. Помнят еще руки, как заряжать винтовку, помнят…
Проехали еще некоторое время молча, и вдруг Куркотин сказал, задумчиво глядя в окно (и не глядя на Даню):
– Понимаете, Даня, – сказал он. – Таким людям, как вы, с вашей биографией… лучше всего сейчас пойти на фронт. Война все спишет. Это сейчас спасение для многих. Может быть, и для вас. Поверьте мне, опытному газетному волку.
Даня помолчал.
А потом ответил сухо и ясно:
– От судьбы не убежишь, Сергей Яковлевич.
Тот смутился и покраснел.
Приближение фронта – а фронт приближался к Москве со страшной, нечеловеческой скоростью – заставило многих задуматься о своем прошлом.
Фронт должен был залатать воронки, бреши и прорехи, которые в ином случае зияли бы почти в каждой биографии: коммунисты, прошедшие сквозь чистки, ссылки и иные наказания, но все же оставшиеся в живых и даже на воле, мечтали о фронте как о спасении своей репутации, если не жизни. Мечтали «искупить кровью» несуществующую, но ощутимую и как бы повисшую снова в воздухе вину. Перед ними стоял сейчас этот выбор. И они делали его в пользу фронта.
Выйдя тогда из трамвая, Даня почувствовал себя так, будто объелся жирного, дышать было трудно, его даже чуть подташнивало.
Он сошел с трамвая много раньше, где-то в районе Покровки. И решил шагать до дома пешком.
Сначала он осторожно обдумал – а с какой стати Куркотин вдруг пристал к нему с этим? Может, не случайно? Может, он знает гораздо больше, чем говорит? Даня прекрасно изучил эту скользкую манеру напугать и ошеломить, как бы между прочим, невзначай зацепившись за какое-то слово, за мелочь. Но здесь было не то. Не так.
Да и похож ли Куркотин на стукача?
Нисколько не похож. Важный, и вместе с тем смешной, вечно голодный, но гордый и напыщенный, как воробей на бульварной дорожке, сидящий в ожидании хлеба от скуповатой старушки.
Тогда почему? Откуда возникла эта тема?
«Ну неужели так трудно сообразить, – уговаривал сам себя Даня. – Гражданская война, мои явно неохотные ответы, да господи, просто опытный человек все понял, обо всем догадался».
Он медленно шел вверх по Покровскому бульвару.
Мимо прошел один патруль, потом второй. Процокала подковами лошадь под конным милиционером.
Прогрохотал трамвай. От Яузы поднимался густой молочный туман. Он зримо висел между ветками, рассыпаясь от соприкосновения с чем-то твердым – с птицей, стволом дерева, с его рукой.
Кора молодого тополя влажно блестела. В лужице плавал желтый помятый лист.
Стены домов были в сырости, в плавающем воздухе октября. Он сладко вдохнул этот северный воздух, который так и не успел еще до конца полюбить. Горький и сладкий одновременно. Предательский воздух.
В сущности, Куркотин говорил правду. Но и сам Даня тоже говорил правду: от судьбы не спрячешься ни на фронте, ни в тылу. От неизвестности не убежишь. Торопиться с этим не стоит. Смерть или жизнь – она найдет его сама. Поможет ли он фронту с винтовкой в руках?
Навряд ли.
Вот Миля торопился, он всегда хотел все решать сам. Великий, могучий и непобедимый Миля.
На Цветном вновь встретил девушек с аэростатом. Зашел в столовую, чтобы согреться. Заодно съел борщ. Есть уже хотелось.
Мародерство в Москве началось сразу после первых бомбежек. Квартиры стали обчищать как раз во время тревоги, когда все хватали детей, документы и бежали в убежище. Участились грабежи дач. Сергей Яковлевич Куркотин, с которым они продолжали радостно общаться (а что еще делать долгими часами на крыше, когда самолетов нет?), очень беспокоился за свою писательскую дачу в Удельном по Казанской дороге. Говорил он, что грабежи дач теперь стали постоянными и что они приобретают все больший размах – воры выбивают стекла, выносят мебель, вещи, портят обои, ничего не боятся.
Вначале Даня беспокоился за двоюродного брата Моню в Малаховке, но потом, съездив к нему пару раз и оценив обстановку, беспокоиться перестал: дачи с жильцами не трогали, лихие набеги угрожали домам, что были покинуты хозяевами, стояли наспех заколоченными – а таких становилось все больше и больше, люди потихоньку уезжали из Москвы, складывали вещи, частенько отдавая дворникам и лифтерам на хранение самое ценное, закрывали квартиры, заколачивали дачи, идея борьбы с беглецами уже тогда захватила умы, и московские воры, пока уклонявшиеся успешно от армии, и зеленые юнцы, бывшие в услужении у воров, этим пользовались. Иногда они прямо вступали в сговор с лифтерами и дворниками (случались ведь и среди них нечестные или слабые люди), иногда взламывали пустые квартиры, а еще чаще – выезжали на богатый дачный промысел.
В двадцатые и тридцатые годы Москва вновь начала обрастать дачным жирком – привозили сюда и мебель, казенную и свою, привозили то, что хотели скрыть от чужого глаза: картины, книги, иконы, антиквариат, дорогие реликвии, альбомы с фотографиями, репродукции, клубки шерсти и катушки ниток, швейные машинки, дачную утварь; все это теперь осиротело и ждало новых хозяев – мародеры, ничуть не стесняясь, подгоняли к дачам грузовики и, вынося содержимое деревянных особняков, работали порой целый день, а потом сбывали оптом.