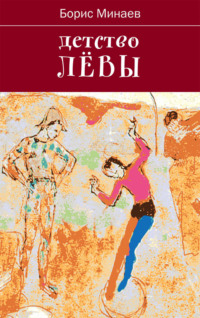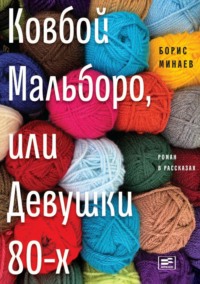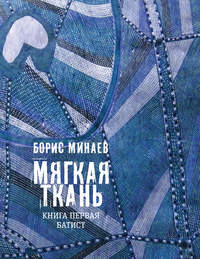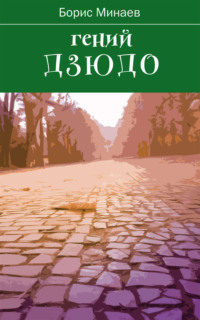Полная версия
Площадь Борьбы
В Москву стало приезжать все больше и больше этих новых жителей, потом хлынул полноводный целый человеческий поток, а старые люди все чаще куда-то уезжали, и процесс уплотнения пошел еще веселее.
Что уж говорить о пролетариате, который имел полное право шагнуть из бараков и рабочих казарм к новой прекрасной жизни, что уж говорить о различных милиционерах и служащих и прочих представителях власти, нэпманах и домработницах, что уж говорить о сестрах и санитарах Туберкулезного института, – все они имели (должны были иметь) в треугольном кооперативном доме на Площади Борьбы свое право.
Большие (слишком большие) комнаты были разделены перегородками, кухни – тоже разделены на некие «зоны», где стояли небольшие столики, накрытые клеенкой, и вонючие примусы. Двери на черную угольную лестницу в большинстве своем были заколочены (хотя в некоторых квартирах дровяные плиты еще работали, и возле этих квартир на черной лестнице вечно валялись щепки), стены подъезда исписаны надписями, в основном ругательного свойства, оконные стекла закоптились, а двери в квартирах и комнатах, которые то и дело ломали, вскрывали и снова укрепляли, вставляя новые замки, выглядели странно, новая беспородная мебель соседствовала со старой, породистой, но, пожалуй, главное, что произошло в бывшем доме баронессы Корф, – это страшное немыслимое смешение всех нравов, всех культур, языков и порядков.
Набожные сестры Любимовские, жившие теперь в бывшей квартире инженера Когана, ставили лампадку перед иконой и молились, в то время как Марья Семеновна подслушивала и строчила свои доносы. Все это не то чтобы очень удивляло Светлану Ивановну Зайтаг – но было любопытно.
Сама она жила тогда совсем другими проблемами: ей хотелось понять, готов ли экономист Терещенко иметь от нее ребенка? А когда Алешенька все-таки родился, она уже хотела понять, будет ли Терещенко теперь ей мужем или просто отцом ее ребенка? А ведь она по-прежнему жила у себя, во 2-м Вышеславцевом переулке, где была ее родительская квартира, а верней, теперь уже комната, потому что уплотнение, разумеется, коснулось и ее, и отношения их с Терещенко имели довольно странный характер, потому что – то он приходил к ней в гости, то она к нему, но жить вместе у них не получалось, и в одной комнате, и в другой пространство было небольшим, оно было малым, слишком малым для целой семьи, а когда она спрашивала у экономиста Терещенко, не дадут ли ему на его важной службе в важном учреждении какую-нибудь другую квартиру, соответствующую его статусу и вкладу в общее пролетарское дело, – он багровел, страшно напрягался и уходил гулять, чтобы не накричать и не сорваться. Ей тогда становилось совсем страшно и неуютно, и она убегала к себе, во 2-й Вышеславцев переулок.
В квартире 34 – там, где принимал ее доктор Кауфман, – жил Соломон Матвеевич, чудной старик с огромной черной бородой, отец доктора Кауфмана, правоверный иудей. (Она часто видела его во 2-м Вышеславцевом переулке, когда он проходил мимо ее дома в синагогу – поскольку синагога была по соседству, отделенная от их сада лишь старым деревянным забором.) Утром он молился, и это слышали все соседи. Он прикрывался шелковым талесом, распевая свои гимны и просьбы к Богу, стоя на коленях и раскачиваясь.
В доме на Площади Борьбы (несмотря на то, что это был не барак и не казарма) трудно было что-нибудь скрыть – и об этих иудейских молитвах знали все, включая, конечно, и Марью Семеновну. Марья Семеновна, разумеется, знала о вредных привычках старика Кауфмана с этими иудейскими молитвами, и про иконки и лампадки набожных сестер Любимовских, и про многих сестер и нянечек Туберкулезного института, которые также ходили в церковь – либо в храм возле Лазаревского кладбища, либо поближе, к Селезнёвке, либо совсем уж в ближайшую церковку – при больнице, все это поведение, конечно же, новой властью не поощрялось, но проступок был столь мал и ничтожен, что Марья Семеновна лишь записывала его в какие-то одной ей ведомые анналы, тетради и гроссбухи, чтобы, сложив затем все плюсы и минусы, вывести некую общую составляющую.
Старик Кауфман и без своей утренней молитвы и прочего соблюдения норм иудейской религии был жильцом весьма экзотическим.
Его высокий рост, огромная лохматая борода, серебристо-седая с вкраплениями черного, с завитушками и колтунами, с застрявшими крошками и вьющимися отдельными волосами, забиравшимися под пуговицы, с другими волосами, выходящими также из носа и ушей, – его засаленный сюртук, надеваемый по праздничными дням, и пальто с крылаткой, его трость, его ошеломленный вид, когда он переходил площадь перед трамваем в пасхальные дни, наперерез богомольцам, его навязчивый французский язык и неумение вступать в отношения с людьми – все это казалось Светлане Ивановне Зайтаг каким-то карикатурным. При этом он был неким странным связующим элементом между одной частью жильцов дома и второй, он был ни там и ни здесь, он появился в доме в двадцатых годах, но был как бы совсем из прошлого, он был над всеми и не был ни с кем, все возможные неправильности и недостатки жильцов были ничто по сравнению с его неправильностями и недостатками, с его нежеланием жить сегодняшней жизнью. Приглядываясь к старику Кауфману, она поняла, что их всех, таких разных, что-то связывало. Этот дом, этот быт – словом, что-то, какой-то клей.
И постепенно, как она чувствовала, этот клей схватывался все сильнее, постепенно они все становились каким-то общим телом, жильцы этого дома на бывшей Александровской площади, они были разнородным телом, но общим, как если бы был один человек, состоявший из разных, противоположных элементов, например из железа и дерева, и вот этот железно-деревянный человек или, скажем, человек, сделанный из бумаги и кислоты, он постепенно, изумляясь сам себе, постепенно научился бы ходить, говорить, дышать, пускать дым колечками – словом, жить. Так и дом на Площади Борьбы – вместе с Мустафой Обляковым и Марьей Семеновной, Терещенко и доктором Вокачем, Светланой Ивановной и сапожником Васильевым, – он становился все более округлым и замкнутым, становился ульем или муравейником, то есть живым естественным организмом, как бы примиряясь сам с собой, и это было невыразимо странно…
Терещенко обычно засыпал первым, а Светлана Ивановна еще долго не могла заснуть, пытаясь не шевелиться, чтобы не разбудить его, лежала на спине, перебирая в уме разные мысли: мысли были в лучшем случае печальные, а чаще тревожные и неприятные – про Алешеньку, его болезни и его будущее, про то, нужно ли ей выходить замуж (ведь Терещенко отчего-то не предлагал), про несчастного отца и про то, что он уже ничего этого не увидит (и, может быть, хорошо), и вот наконец мысли перемещались в привычную для нее область – она уже не думала, а лежала и представляла весь дом, дом-корабль, он был весь под ней (кроме последнего этажа), и вот она заглядывала в квартиры, понимая, что поступает нехорошо, но не в силах от этого избавиться.
Так вот, этот самый клей: общая жизнь жильцов, их совместный быт и совместный труд по обживанию самих себя, обживанию пространства и времени – все это проступало постепенно, и только, наверное, к концу двадцатых годов стало окончательно ясно, что помимо вопиющих различий между ними есть и общее, что они притерлись друг к другу и стали гораздо более общим телом, чем думали раньше, – как будто жители одной планеты или одного острова.
Это стало ей ясно из самых разных процедур или, скорее, навыков жизни, которые сделались у них совместными, тоже общими, и вошли в привычку – как вошли в привычку дежурства по уборке квартиры или списывание показаний электросчетчика, – ну, например, вошло в привычку у всех (почти без исключения, даже у вечно битой жены сапожника Васильева) покупать молоко, сметану, овощи у разносчиков с Минаевского рынка (они обходили квартиры по очереди, предлагая свой товар, торгуясь за копейки и оглашая двор криками), сама Светлана Ивановна обожала летними утрами вынимать из грязного ящика зеленщика свеклу или картошку или отбирать наощупь бутылку, самую прохладную, со свежим молоком; а другой общей привычкой стали похороны – чем больше становилось в доме людей, тем чаще происходили похороны, причем иногда они бывали горькими и торжественными, ведь люди уходили не только по старости и болезни, так было, когда умерла Люся, жена нэпмана Мееровича, она задушилась шарфом в шкафу, не выдержав мучивших ее болей в голове, доктор Вокач говорил, что ее вовремя не отдали в клинику, но все равно в доме ощущалось горе – Люся была совсем молода, и многие ее знали девочкой; главным образом, похороны ощущались как общее дело из-за присущих им ритуалов – катафалка, черного или красного (красного, если хоронят члена партии), с парой лошадей, украшенных плюмажем (тоже черным), и возницей в засаленном сюртуке и цилиндре. Играет духовой оркестр, выносят гроб, ставят на табуреты, заранее принесенные из дома, выходят заплаканные вдова и дети – все это не просто зрелище или ритуал, а жизнь, которая вдруг очевидно становится общей и острой.
Светлана Ивановна всегда участвовала в прощании.
Ее саму уплотняли по-разному. В зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год (голодную и страшную, надо сказать, зиму) к ней подселяли то служащих государственной аптеки, то целую семью, бежавшую от белогвардейцев (причем в ордере так и было написано, она сама прочитала это несколько раз, пытаясь запомнить диковинную формулировку), – но они быстро съехали, вернувшись в родные места, где уже не было белогвардейцев, или вовсе расставшись с советской Россией, подселяли то рабочего, то служащего, то чекиста…
Один чекист, въехавший в ее бывшие комнаты уже ближе к двадцатому году, был невероятно предупредителен, обещал, что нисколько ее не обеспокоит, выражался буквально как персонаж Чехова или Леонида Андреева – бурно, витиевато, красиво, но в какой-то момент выяснилось, что он выпивает по вечерам и водит гостей – гостями были какие-то довольно дорого одетые женщины, которые оставались на ночь и орали то ли от боли, то ли от удовольствия, Светлане Ивановне это было нестерпимо, и она просила наутро вести себя потише, чекист краснел и страшно извинялся.
Но потом как-то вдруг взял и съехал.
В тридцать первом году к ней подселили семью Каневских… Но до этого произошли важные события в ее жизни.
Это было так – к концу двадцатых годов экономист Терещенко, отец ее ребенка, начал жить как-то заметно лучше.
В доме у них не переводились хорошие вещи – конфеты, дорогая копченая рыба, иностранные папиросы, появилась даже кухарка, готовившая разные пироги и разносолы, сам Терещенко стал одеваться в костюмы и чесучовые пиджаки, покупать ей платья и безделушки, все время хотел поехать на юг, чтобы отдохнуть, – в лице его появилось выражение расслабленного удовольствия и ленивого сомнения, и вдруг она почувствовала себя лишней.
Это продолжалось недолго, вскоре она попросила Мустафу помочь перевезти детскую кроватку и ее чемоданы, дворник взял тележку и перевез, не взяв с нее денег, а она с сыном доехала на извозчике до 2-го Вышеславцева переулка, – Терещенко больше к ней не приходил.
И вот она опять стала жить одна. Верней, не одна, а с Лешенькой.
Время, проведенное ею на Площади Борьбы, в доходном доме, она вспоминала не без горечи, но порой даже с удовольствием – ведь она тогда умела спать!
Там ей спалось действительно хорошо – иногда она приходила к Терещенко и засыпала прямо сидя на стуле. Понимая всю драгоценность этих минут, экономист буквально замирал и боялся дышать, оберегая ее слабое посапывание и мелодичный легкий свист. Он особенно любил ее в эти минуты. Светлана Ивановна обмякала, становилась чуть прозрачнее и невесомее, чем обычно, она подворачивала ступни внутрь во время сна, по ее щеке неправильно и хаотично струились светлые пряди, руки бессильно лежали на коленях, она была прекрасна не потому, что была прекрасна, – как ночью, когда она возлежала на простынях и тихо смеялась, глядя на него, приходящего в себя после соития, – нет, она была прекрасна, потому что ее покидало напряжение, она становилась текучей, как вода, бесформенной, необязательной, и это ему почему-то нравилось.
Она вообще явилась в его жизнь настолько неожиданно, что долго он воспринимал ее как случайность.
А он не очень-то ценил случайности, обладая цепким аналитическим умом, он их не уважал, впрочем, возможно именно случайный характер их связи он (не признаваясь себе) особенно ценил и не хотел с этим ощущением расставаться – он долго не знал, где она живет, вообще кто она, иногда, просыпаясь ночью и глядя на ее худую горячую руку, которой она всегда закрывала голову в глубоком сне, как от удара, он с некоторым трудом вспоминал, как ее зовут.
Но это волшебное ощущение случайности постепенно уступило место другому – закономерности того, что она появилась. В его жизни до нее была неразрешимая проблема – он не знал, чем наполнить время, свободное от вычислений, от построения графиков и написания докладов, он пробовал разное: ходил в ресторанные заведения, важно курил в бильярдной, плавал на речных судах в хорошую погоду, знакомясь с шумными и пышными дамами, которые всегда плавали по три, по четыре, не в силах выбрать какую-то одну, он ездил на Кавказ, чтобы подняться в горы, ходил на лыжах, играл в карты – все было неинтересно. Утомительная тоска не покидала экономиста Терещенко нигде, и всегда хотелось домой, забиться под торшер и читать без разбору все что угодно.
Он боялся поднять себя с дивана и даже пойти на кухню, потому что не понимал, зачем его тело движется – в чем смысл этих утомительных усилий. После того как она появилась, ему все стало легко.
Вероятно, думал он про себя, это потому что она ничего не просит взамен и не говорит с ним о долге.
Словом, когда она засыпала, он не переставал любоваться бессознательным и счастливым выражением ее молодого лица.
Просыпаясь в его квартире, Светлана Ивановна долго лежала, прислушиваясь ко всем звукам и не открывая глаз. Находясь еще внутри сна, она вспоминала, что лежит в его кровати, и всегда расплывалась в улыбке, потом она начинала слышать, как брякает чайник на общей кухне, как трамвай едет по Бахметьевской улице, как собирается на работу экономист Терещенко, она сладко потягивалась, словно выныривая из молока, вставала, накидывала халат и, чуть покачиваясь, шла по коридору…
Вспоминая теперь эти минуты, вот теперь, после того как бог лишил ее сна, она снова и снова задумывалась о том, что означает это его наказание.
В принципе, думала она, невропатолог Вишняк оказался прав – нет, она не лунатик и не ходит по крышам, она не умирает, она такой же человек, как все, только грань между явью и сном стерлась, и оттого она живет в особом, очень особом мире – но зачем? За что?
Может быть, останься она в семнадцатой квартире, с экономистом Терещенко, она бы продолжала спать?
Это было понятное, даже физиологическое объяснение, но она ему не верила; кроме того, она ушла в двадцать девятом году, а спать перестала в тридцатом, и если бы она осталась с Терещенко и даже оформила с ним отношения, то есть стала законной женой, ей пришлось бы пережить его арест, передачи в Бутырке или в другой тюрьме, пережить обыск и допрос, а потом и смерть мужа.
Возможно, тот, кто хотел лишить ее сна, заранее наметил жертву, а потом уже не смог все это переиграть?
Но кто же он был в таком случае?
Другой мыслью, сопровождавшей ее всюду, была мысль о Лешеньке – бог испытывает ее материнские чувства, инстинкты, бог решил проверить ее, и она должна выдержать проверку. Она выдерживала, как умела, – конечно, справляться с домашними делами ей становилось все труднее, и она отдала Лешеньку на пятидневку в интернат, но это ничего – ведь он приходил на субботу и воскресенье, в субботу она могла уйти с работы пораньше и забрать его часов в пять. И у них было целых два вечера!
Конечно, Светлана Ивановна совсем не была похожа на обычную мать – но, в конце концов, как мать-одиночка она вполне имела право на помощь государства в воспитании ребенка и не чувствовала, что ее осуждают товарищи по работе или соседи, нет, просто постепенно она переставала замечать эти контуры обычной дневной жизни и с ужасом ждала наступления полной темноты.
Каждый вечер в десять тридцать (кроме вечера субботы и вечера воскресенья) Светлана Ивановна аккуратно раздевалась, складывала одежду, накидывала ночную рубашку, ставила тапочки возле кровати очень ровно, взбивала подушку, выключала свет и задергивала шторы.
Каждый вечер в эти часы она вспоминала слова невропатолога Вишняка о том, что когда-нибудь заснет неожиданно.
«Может быть, навсегда?» – думала она про себя, внутренне примирив себя с таким исходом (о Лешеньке позаботится советская власть, в этом она была уверена).
Но заснуть никак не получалось.
Подводил слух. Слышно было все.
Она накрывала голову подушкой, завертывала вокруг головы шарф, но это не помогало.
Постепенно этот клей, о котором она много думала, вспоминая дом на Площади Борьбы, который склеивал воедино столь разные судьбы, иссыхал. Умер старик Кауфман со своими еврейскими песнопениями. Умер доктор Вокач. Стали исчезать другие жильцы. Светлана Ивановна ходила ночью по Москве и не понимала, почему ее не задерживает милиция. Кругом светились окна, из домой выводили людей, но почему же ее никто не трогал и никто не замечал?
Возможно, я сама исчезла? – думала она.
Дом в саду
В Москве, во 2-м Вышеславцевом переулке, через забор от синагоги (а точнее, слева от синагоги, если стоять к ней лицом) находился когда-то дом, вполне типичный для Марьиной Рощи, да и вообще для Москвы тех лет. Двухэтажный, деревянный, с открытой галереей по фасаду, солидный и вместительный, с тремя отдельными входами, скорее всего переделанный из старой купеческой дачи в обычное московское жилье; дом с дымоходом и трубой, но и с газовой колонкой, с садом и ледником в саду (ледник угадывался по деревянной рассохшейся дверце на холмике, как бы лежащей на земле и прикрытой упавшими листьями), с тропинками, уводящими в глубь сада, и пышными кустами вдоль высокого забора. Это был дом неказистый и уютный, старый, но не ветхий, милый, но с давно не чищеной крышей, заваленной прелыми листьями… дом, много повидавший и готовый вроде бы ко всему.
Именно здесь, в доме № 5, в тридцатые-сороковые годы жила семья Каневских, в квартире № 1, занимая две просторные комнаты, выданные им когда-то как временное жилье (по жилому ордеру хозупра Наркомлегпрома). Затем эти комнаты стали для них жильем постоянным в силу ряда печальных (или закономерных) семейных обстоятельств. И вот теперь, когда Даня Каневский входил в высокую калитку, вырезанную плотником Василием Матвеевичем в огромных хозяйских воротах еще до Октябрьского переворота, – он всегда вспоминал эти обстоятельства, невольно, краешком, но, конечно, вспоминал. И вот он думал, вспоминая их: а хорошо ли так получилось, что их с Надей идея когда-нибудь потом перебраться в центр, в современный каменный дом на какой-нибудь красивой набережной или на историческом старомосковском бульваре – одним словом, идея перебраться отсюда совсем в другую квартиру – им так и не удалась… и Даня пожимал плечами – а кто же его знает?
Кто знает это?..
Может, и правильно, что он остался на отшибе.
Здесь всем было хорошо – почему же? – из-за сада, наверное, то есть потому, например, что можно было выйти – или выбежать – из дома в сад, затеряться в саду, или покурить в саду, или посидеть на рассохшейся скамейке в саду, развесить мокрое белье на веревке, именно здесь развесить, а не на общей кухне или во дворе-колодце, а может быть, еще потому что нервный город напоминал здесь о себе лишь звоном трамвая и отдаленным шумом Сущёвского вала, – словом, коммунальное житье не казалось здесь, в этом доме, невыносимым, нет, оно было не только выносимо, но и привычно, и Надя была спокойна, что бы ни происходило с ними, и во время войны, и после нее, она всегда смотрела на этот мир из-под высоко поднятых, как бы удивленных бровей приязненно и терпеливо.
Этот дом примирил ее с Москвой – еще тогда, в начале тридцатых, Даня это понял и не торопился смотреть другие квартиры. Ну а потом ему перестали их предлагать.
В квартире № 1 обитали кроме них еще семья рабочих Васильевых, а также одинокая женщина с ребенком Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь.
Светлана Ивановна была женщина странная, не без причуд, но тем она и нравилась Дане. Ходили слухи, что когда-то ее отцу принадлежал весь этот дом, – слухи невозможно было проверить, сама Светлана Ивановна об этом благоразумно умалчивала, но в том, как медленно-медленно она поднималась по короткой лестнице на крыльцо, чтобы пройти темным коридором к двери первой квартиры, как бродила иногда ночью по саду, как подолгу сидела на скамейке в самые темные вечера и курила, – что-то такое было, некоторая особая невысказанность, и Дане иногда хотелось подойти к ней и заговорить, но он не решался.
Отношения их оставались на уровне соседских: соль, спички, счетчик за электричество, дежурство по кухне и местам общего пользования.
С рабочей семьей Васильевых, то есть с высоким и худым токарем-фрезеровщиком Сергеем Ивановичем, с его супругой и двумя детьми у Нади и Дани были отношения вежливо-прохладные, иногда даже напряженные, но в целом нормальные, ну а тут была совсем другая история. Полная вымысла и намеков.
В 1944 году зимой, в конце февраля, на чердаке дома номер пять по 2-му Вышеславцеву переулку поселились белые мыши. Мышей купил Сима Каневский, сын Дани. Они тогда съездили на птичий рынок, вместе с Мишкой Соловьевым, как бы за кроликами – а вместо них купили мышей.
Кроликов, кстати, разводили тогда в частном секторе многие – на мясо, конечно. Например, разводил кроликов во дворе 17-го дома инвалид Марик Сергеев, ну да, он был контужен, бок у него был прострелен, инвалидность первой группы, но он работал на заводе, а тут решил еще и развести кроликов и построил у себя во дворе деревянную клетку с железной сеткой. Марик объяснял окрестным детям терпеливо, что мясо кроликов – оно диетическое и невредное, а едят эти добрые животные именно траву, зимой можно дать им сено, а одного кролика можно жрать целых два дня всей семьей, кроме того, подрощенного можно выгодно продать, ведь голубей в Марьиной Роще всех давно уже съели, собак тоже почти не осталось, их, наверное, едят какие-нибудь инородцы, или они сами убегают из голодных домов; неправда, скупо и твердо сказал Мишка Соловьев, неправда твоя, Марик, у дяди Лёни Аганбекова в голубятне еще пять сизарей живут и два белых, и собак я тоже видел, зачем ты так говоришь, Марик; сосед сплюнул и предложил вместе поехать на «Птичку» за кроликами, чтобы самим все узнать…
Сима в этот момент глубоко задумался.
Отец после возвращения из эвакуации ходил на дежурство, они с добровольной дружиной стояли на крыше с песком и огнетушителями и смотрели в небо, пока не рассветет.
Он уставал, утром надо было на работу, отгул за дежурство на крыше не полагался, а Трехгорка начинала с семи утра, как только он входил в свою конторку, сразу раздавался первый звонок – фабрика стала оборонной, вместо ткани для постельного белья теперь гнали бязь на портянки, госпитальные бинты, на солдатское нательное, ну и так далее, ткань нужна была артиллеристам, танкистам, летчикам, военным инженерам, да всем, Даниил Владимирович раньше не знал, что ткань имеет такое оборонное значение, и мягкая, и грубая, и любая, словом, производство возвращалось в Москву – по всем железным дорогам гнали станки для фабрики, гнали невообразимый вообще комплект оборудования: от технических лампочек до простых стульев, от болтов до промасленных бечевок, – за ту пару недель, что в Москве не было реальной власти, когда возникла паника и начальство сбежало из города – во второй половине октября 1941 года – разворовали тут многое, несмотря на угрозу расстрела, кордоны, патрули… Ну, словом, отец был занят, даже вечерами он говорил по телефону с блокнотом и ручкой в руках, телефон был общий, коридор был общий, а он все стоял и говорил, говорил, иногда выходил фрезеровщик третьего разряда Васильев в трусах и майке и уважительно, но требовательно басил: Даниил Владимирович, ну вы уж, пожалуйста, освободите аппарат-то, тогда отец вздыхал, тихо извинялся и шел к себе в комнаты – и было давно понятно, что никто никаких кроликов тут принимать не намерен, ни сестры, ни мама такого бы не одобрили, отец бы еще врезал подзатыльник, наверное, – но Сима все-таки решил ехать и поехал на птичий рынок вместе с Мишкой Соловьевым. Инвалида Марика они с собой предпочли не брать.
На «Птичке» продавали не только птиц, он об этом догадывался, но увиденное, конечно, его невероятно поразило: храпели лошади, которых держали под уздцы суровые, но слегка растерянные пожилые крестьяне из подмосковных деревень, шипели гуси, совершенно в золотую цену: целый антикварный шкаф можно было обменять за одного гуся, тут продавали из-под полы военную форму, толкали американскую тушенку, запчасти для трофейных машин, электролампочки, гвозди, ну и, конечно, разное-разное – павлинов, индюков, кошек самых причудливых пород, впервые в жизни он увидел тут рыбок, этих странных полумифических существ в стеклянных шарах, наполненных водой, ну и кроликов, хомяков и мышей. (Собак почему-то не продавали вообще, никаких.)