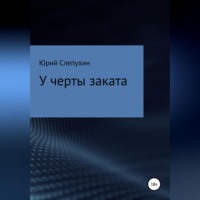Полная версия
Киммерийское лето
– Ну-у, девка, плохи твои дела, – сочувственно говорит баба Катя. – Портфель-то вроде новый был? Светленький такой, импортный, помню, помню… Сколько, говоришь, денег-то тебе надо?
– Тридцать копеек. Точнее, двадцать девять, я просто округляю.
– Это значит два девяносто… – Баба Катя погружается в какие-то сложные подсчеты. – Есть у меня, Верунька, деньги, слышь ты, только за свет нужно заплатить, два месяца уж не плочено… Да ты погоди, сейчас все посчитаем…
Баба Катя кряхтя встает, уходит, потом возвращается с очками, кошельком и квитанционной книжкой.
– Сосед вчерась выписал по счетчику, – говорит она, разворачивая книжку, – не знаю еще, сколько тут… А ты пока погляди-ка, чего там в кошельке-то осталось…
Ника вытряхивает из кошелька две помятые желтые бумажки, металлический юбилейный рубль и еще какую-то мелочь. Всего оказывается три рубля шестьдесят восемь копеек.
– Видишь, как выходит, – говорит баба Катя. – За свет-то нужно рупь семьдесят. Тебе и двух рублей не наберется…
– Да зачем мне столько, – смеется Ника. – Мне нужно тридцать копеек, баба Катя! Вот смотрите, я беру – видите? А это вам.
– Ты ж сказала – два девяносто! – сердится старуха. – Только путаешь, ну тя к лешему…
– Какие два девяносто! Это вы сказали – два девяносто, вечно вы на старые деньги все переводите – увидите вот, обсчитают вас когда-нибудь.
– Ладно, ладно. Только слышь, Верунька, ты в пирожковую-то эту не ходи, нечего себе желудок смолоду портить, мы вот сейчас картошки сварим да поедим, а ты сбегай покаместь заплати за свет, сберкасса-то наша помнишь где?
Ника берет квитанционную книжку, два рубля и бежит в сберкассу. Потом они с бабой Катей обедают – едят картошку, политую пахучим подсолнечным маслом, и пьют из раскаленных эмалированных кружек немного отдающий веником чай. Нике очень хочется поделиться с бабой Катей какими-то своими мыслями, но эти мысли пока не очень ясны ей самой, а баба Катя за последний год стала немного бестолковой.
Странно – вокруг так много взрослых, а поговорить по-настоящему не с кем. Даже с родителями. Даже с мамой! Слишком у этих взрослых все получается ясно и просто, обо всем есть готовое мнение, все разложено по полочкам. Быть троечницей – позор, никакой серьезной любви в школьном возрасте быть не может, человек без высшего образования – вообще не человек. Ну и так далее. Ученье – свет, а Волга впадает в Каспийское море.
– Они мне говорят: в десятом классе уже нужно знать, какую профессию выбрать! – говорит она возмущенно и дует на свою кружку, пытаясь хоть немного остудить край. – А я вот ни малейшего понятия не имею, правда я еще не в десятом… Это еще посмотрим, переведут ли меня, – добавляет она.
– Переведут, никуда не денутся. Чего им с тобой еще год возжаться, шутка ли. А за професие ты не переживай, професие в наше время приобресть всякий может. В инженера пойдешь, нынче что ни девка, то инженер. Конечно, заработок не тот, зато работа чистая, легкая. А еще, глядишь, и за границу куда пошлют, полушалок мне привезешь мохеровый. Вон, у Петуниных Зинка с делегацией ездила, так там…
– Инженер вряд ли из меня получится, – говорит Ника с сомнением. – По математике-то сплошные тройки. Да и неинтересно мне это…
– Ленивая ты, Верунька, ох ленивая.
– Не знаю, баба Катя, – Ника, подумав, пожимает плечами. – Иногда мне кажется, что я могла бы сделать что угодно, если только почувствовать, что это действительно нужно, а не просто «так принято»…
Забыв о своем чае, она задумчиво смотрит в подслеповатое окошко. На дворе уже по-летнему солнечно. В дальнем углу Савельев-старший возится со своей вишневой «Явой», наверное готовится к техосмотру; по расчерченному «классами» асфальту суетливо ковыляют раскормленные, сизые с отливом замоскворецкие голуби. Да, скоро каникулы. А потом десятый класс. А потом? Она пытается представить себе это «потом» – безуспешно, жизнь ведь такая странная штука: в чем-то у всех одинакова, а в чем-то совершенно, абсолютно индивидуальна и неповторима, и именно вот это твое, неповторимое, предназначенное только тебе одной, – этого-то и нельзя ни предвидеть, ни представить, ни угадать; можно лишь предчувствовать, и это предчувствие вдруг – на одну лишь секунду – наполняет ее ощущением огромного, невыразимого, беспредельного счастья. Оно взрывается, как вспышка, короткая и ослепительная, и тут же наступает отрезвление – вспоминается утонувший портфель, предстоящий разговор с мамой и все прочее. Да, попробуй еще доживи до этого блистательного «потом»…
– Я пойду, наверное, – грустно говорит Ника. – Спасибо за обед, баба Катя, – добавляет она совсем уже унылым тоном.
Глава 2
Елена Львовна Ратманова всегда умела находить оптимальные решения проблем, которые другим оказывались не под силу. Работники, обладающие таким умением, обычно считаются незаменимыми, и Елена Львовна давно уже приобрела репутацию незаменимого работника, хотя специального образования не имела и занимала в редакции ведомственной газеты довольно скромную должность заведующей секретариатом. Кроме того, ее уже на второй срок избирали председателем месткома. Здесь она действительно была на своем месте – именно на таком посту от человека требуется терпение, такт, хорошее знание людей и, главное, умение сглаживать острые углы и примирять противоречия.
С тем же терпением и тактом она решала свои семейные проблемы. В частности – и этим, пожалуй, Елена Львовна гордилась больше всего, – ей удалось найти и устойчиво сохранять равновесие между двумя полюсами притяжения, которые больше всего влияют на жизнь современной женщины: семьей и работой. Как бы ни поглощали ее редакционные дела, она никогда не забывала о своем долге матери и хозяйки дома. По мере сил способствовала она и успешной карьере мужа: не то чтобы «проталкивала» его, как это делают иные жены, – у Ивана Афанасьевича у самого хватало деловых качеств, – но… Тут ведь очень большую роль играют всякого рода побочные, казалось бы и незначительные на первый взгляд обстоятельства, а именно по части использования обстоятельств Елена Львовна всегда была великая мастерица.
Со старшей дочерью, которая жила в новосибирском Академгородке, у нее были, в общем, прекрасные отношения, хотя и чуточку холодноватые, без тепла и настоящей близости. Возможно, в этом виноват был характер самой Светы, суховатый и слишком рассудочный, – не случайно ее потянуло на физмат, – а может быть, вина была и ее собственная. Света росла в трудные военные и послевоенные годы, когда жизнь была совсем другой, и, может быть, в чем-то она не проявила достаточной заботы, – думая об этом, Елена Львовна испытывала иногда неясное чувство вины. Впрочем, в том, что старшая дочь выросла рационалисткой, она большой беды не видела.
Куда больше тревог и забот уже сейчас доставляла Вероника. В отличие от старшей сестры, которая с первого класса шла на одних пятерках и в университет попала вне конкурса, девочка училась неважно. Очень неважно. И у нее бывали причуды: она вдруг задумывалась, становилась беспричинно раздражительной, грубила. Правда, уходить без разрешения из дому она еще не осмеливалась, но могла запереться у себя в комнате и целый вечер слушать песни Высоцкого – про тау-китян, про нечисть, про то, как опальный стрелок торговался с королем насчет платы за избавление от чуда-юда. В таких случаях Елена Львовна предпочитала не идти на открытый конфликт и делала вид, что ничего особенного не происходит.
Она утешала себя тем, что пройдет время и дочь перебесится. Такой уж возраст, и у разных натур этот перелом проходит по-разному. Так что, строго говоря, и на это жаловаться не приходилось.
В общем, Елена Львовна могла считать себя счастливым человеком. У нее была прочная семья, положение в обществе, интересная работа, материальная обеспеченность. В пятьдесят лет она выглядела не старше сорока пяти, подтянутая, моложавая, всегда безупречно одетая в точном соответствии с возрастом, Елена Львовна еще пользовалась успехом и знала это. Тем приятнее было ей показываться на людях вместе со своей младшей и уже почти взрослой дочерью.
В этот день, незадолго до конца уроков, «почти взрослая» дочь позвонила ей и каким-то особенно несчастным голосом потребовала немедленного свидания.
– Я звоню из автомата, – сказала она, – тут, на углу, рядом с тобой.
– Почему ты не в школе?
– Ну… вот так получилось. Я поднимусь сейчас и все тебе объясню. Ладно, мама?
– Хорошо, приходи, – сказала обеспокоенная Елена Львовна. Положив трубку, она привела в порядок бумаги на своем столе и встала.
– Наташа, голубчик, мне нужно пообщаться с ребенком, у нее очередное чепе. Если будет что-нибудь срочное, позвоните в буфет, я буду там…
В редакционном буфете в этот час было людно. Елена Львовна не сразу нашла свободный столик в углу и тут же, оглянувшись, увидела дочь и помахала рукой.
Она смотрела, как Ника идет к ней через зал – как всегда, с немного отрешенным видом, чуточку не от мира сего, словно только что проснувшаяся, двигаясь с какой-то неуклюжей грацией, – и ей опять подумалось, что в чем-то она все же совершенно не знает дочери. В частности, для нее загадка: отдает ли девочка себе отчет в своей стремительно расцветающей женственности? Боже мой, еще год назад это был такой гадкий утенок…
– Здравствуй, мамуль. Ты не угостишь меня черным кофе? – непринужденно спросила Ника, опускаясь в изогнутое пластикатовое креслице.
– Потом. Почему ты не в школе, Вероника?
– Понимаешь, я сегодня решила не идти в школу, а просто походить и подумать о своем будущем…
– О чем?
– Ну, о будущем, должна же я что-то для себя решить! Знаешь, мама, я вообще не уверена, что мне стоит доучиваться в десятом классе.
– Великолепная мысль. Чем же ты думаешь заняться?
– Какое-то время я хотела бы пожить просто так. Ну, созерцательной жизнью, понимаешь?
– Милая моя, в наше время созерцательная жизнь называется тунеядством.
– Вовсе я не собираюсь быть тунеядкой, – возразила Ника. – Я бы пошла работать.
Елена Львовна вздохнула и покачала головой.
– Куда? – спросила она. – Кем? Кто тебя возьмет, кому ты нужна? Ты не умеешь печатать на машинке, не знаешь основ делопроизводства…
– Господи, при чем тут делопроизводство или машинка?! Я что, собираюсь работать секретаршей? Мне нужна такая работа, чтобы были заняты только руки и можно было бы работать и думать…
– Час от часу не легче. Ты, значит, собралась на завод?
– Лучше на какую-нибудь фабрику – текстильную, кондитерскую, что-нибудь в этом роде. «Рот-Фронт», например, – это совсем недалеко от школы, и туда можно устроиться заворачивать конфеты. В конце концов…
– В конце концов, – перебила ее Елена Львовна, – я не желаю больше обсуждать подобную дичь. Когда ты начнешь умнеть?
– Но я уже начала, неужели не заметно? Ведь еще год назад я просто не задумывалась над некоторыми вещами, а теперь задумываюсь. Когда человек над чем-то задумывается, это уже хорошо само по себе, разве нет?
– Вероника, – терпеливо сказала Елена Львовна, – задумываться можно над чем угодно, но у человека есть в мозгу какой-то фильтр, который задерживает ненужные мысли. У нормального человека, я хочу сказать.
– А что такое нормальный человек? И что такое ненужные мысли? Кто может определить, нужны они или не нужны?
Елена Львовна опешила.
– То есть как это – кто? – спросила она после паузы. – Уж не ты ли сама собираешься это решать? Я не понимаю, откуда у тебя этот… цинизм, это полнейшее нежелание признавать авторитет старших!
– Ну мама, – с упреком сказала Ника. – С чего ты взяла, что я не признаю твой авторитет? Я просто…
– Довольно, – отрезала Елена Львовна. – Повторяю, я не хочу больше выслушивать эти глупости. В шестнадцать лет люди не философствуют, а учатся. А ты учиться не хочешь, ты просто начинаешь опускаться. Посмотри на себя!
Ника, поняв последние слова буквально, посмотрелась в оконное стекло: рама, открытая внутрь, отразила ее как в зеркале.
– Да, знаешь, что мне сегодня пришло в голову. – Она отвела назад рассыпанные по плечам волосы и собрала их на затылке. – Может быть, лучше как-то так?
– Нет, нет, тебе идут длинные. И не перебивай меня, пожалуйста! Я говорю, посмотри на себя со стороны: взрослая девушка, через год получает аттестат, а ведет себя хуже всякой первоклассницы! Вместо того чтобы идти в школу, таскается по улицам, думает черт знает о чем, – я просто слов не нахожу! Ну хорошо, ты пропустила первый урок. А потом?
– О, я и забыла тебе сказать, – небрежным тоном объявила Ника. – Я ведь потеряла портфель. Так что идти в школу потом было уже просто не с чем. Только ты, пожалуйста, не смотри на меня такими глазами, – портфель упал в воду, я вовсе не виновата. Упал, и все. И поплыл! Не прыгать же было за ним в Москву-реку, согласись сама…
– Вероника, ты просто издеваешься надо мной, – сказала Елена Львовна ледяным голосом. – Ты что, действительно потеряла портфель?
– Да, и ключ тоже.
– Какой ключ?
– От квартиры, он был в портфеле. Я для этого и пришла, чтобы взять твой.
– И тоже потерять?
– Ну, уж теперь-то нет! Если у тебя найдется веревочка, я могу повесить его на шею.
– Вот-вот, – Елена Львовна горько усмехнулась – Я говорю, ты даже не первоклассница. Ты где-то на уровне детского сада, Вероника, это в детском саду малыши ходят с ключами на шее.
– Я спрячу его под платье, и все будет прилично. Ты хотела угостить меня кофе?
– Хорошо, поди принеси, – Елена Львовна протянула дочери кошелек. – Мне двойной с лимоном, без сахара.
– Как ты можешь такую гадость, бр-р-р. А себе я возьму эклер, хорошо?
– Какой еще эклер? Не хватает только, чтобы ты за свое прекрасное поведение получала пирожные!
Ника удалилась с обиженным и меланхоличным видом, надрывая материнское сердце «Может быть, зря я не позволила ей скушать этот несчастный эклер? – подумала Елена Львовна. – Да нет, нужно же как-то воспитывать…»
– Не думай, кстати, что твое наказание ограничится лишением пирожного, – сказала она, когда дочь вернулась, неся две чашечки «эспрессо».
– Дома ты поставишь меня в угол?
– Нет, милая моя, в угол не поставлю. Но если у тебя были запланированы какие-то мероприятия, то теперь можешь их аннулировать. Потому что до конца мая ты из дому не выйдешь. То есть в школу, разумеется, ходить будешь. Но и только!
Она потыкала ложечкой ломтик лимона, поднесла чашку к губам и только после этого посмотрела на дочь. Та сидела с совершенно несчастным видом.
– Мама, послушай…
– Да?
– Мама, ну ты же помнишь… у Андрея два билета в «Современник», на двадцать шестое. Он пригласил меня еще когда, ты же помнишь…
– Я помню, помню. Но я хочу, чтобы и ты помнила, что тебе уже шестнадцать и что в таком возрасте люди должны отвечать за свои поступки. А Андрею ты скажешь, что плохо себя вела и тебя наказали.
Большие темно-серые глаза дочери начали быстро наполняться слезами.
– Только, пожалуйста, без этого, – непреклонно сказала Елена Львовна.
Тут она действительно была непреклонна, хотя минуту назад испытывала раскаяние, не разрешив дочери полакомиться пирожным. Для того чтобы наложить на девочку еще одно, и гораздо более суровое, взыскание, были особые причины. Дружба Вероники с этим Андреем Болховитиновым нравилась Елене Львовне все меньше и меньше, и, хотя ничего серьезного, судя по всему, между ними не намечалось, лучше было заранее принять меры. Будучи матерью передовой и современной, она не собиралась протестовать против того, чтобы дочь бывала в обществе знакомых мальчиков. Но мальчики вообще – это одно, а один определенный, конкретный мальчик – это уже нечто совсем другое, И об этом «другом» Веронике думать пока рано. Слишком рано.
Она допила кофе, порылась в сумке, достала ключ, деньги, книжечку троллейбусных талонов, уложила все это в портмоне и протянула дочери.
– Бери и поезжай домой. Посмотри, есть ли хлеб, – если нет, сходишь в булочную. Да, и возьми еще молока и две бутылки кефира.
– Хорошо, – отозвалась Ника подчеркнуто покорным голосом. – Ничего больше не нужно?
– Ничего. Если вспомню что-нибудь, куплю сама на обратном пути. И чтобы никуда не заходила, слышишь?
– Да, но в школу-то мне зайти придется, то есть не в школу уже, а просто повидать кого-нибудь…
– Для чего?
– Ну… узнать, что задали, и вообще! Понимаешь, по телефону это бесполезно, все равно перепутают, – убеждающе сказала Ника.
– Зайди, только ненадолго, и сразу домой.
– Хорошо, мама…
К школе Ника подъехала с таким расчетом, чтобы уже не нарваться ни на кого из преподавателей, но еще застать тех, кого ей нужно было увидеть. Издалека, через улицу, она оглядела школьный двор, вернее, ту его часть, что была доступна обозрению с противоположного тротуара. Впереди, слева от ворот, был разбит чахлый палисадничек, за ним – обнесенный металлической сеткой корт, в этот час уже пустые и тихие. Впрочем, Ника и не рассчитывала увидеть здесь своих приятелей. Компания их, если и оставалась поболтаться вместе после уроков, предпочитала делать это на пятачке у церкви Всех Скорбящих – хоть и рядом со школой, но все же не так на виду.
Происхождение этого пятачка было неизвестно. То ли место так и оставалось почему-то незастроенным, то ли стоявший тут дом сгорел во время войны от немецкой термитной бомбы, но сейчас здесь образовался крошечный тенистый скверик, ничем не огороженный со стороны тротуара и втиснутый между ротондой храма и торцевой стеной четырехэтажного дома по правую руку, со стороны школы.
«Банда» из девятого «А», в хорошую погоду иногда проводившая здесь час-другой, прежде чем разойтись по домам, удивляла Многих преподавателей своим составом. Классная руководительница Татьяна Викторовна попыталась однажды выяснить у своего сына, чем, собственно, привлекает его дружба с Ренатой Борташевич, одной из самых пустых и легкомысленных девочек в классе, или тем же Игорем Лукиным, чьей заветной мечтой было купить электрогитару и сшить себе красный сюртук с золотыми пуговицами (о чем он во всеуслышание объявил однажды на комсомольском собрании). Но выяснить ей ничего не удалось: Андрей, по обыкновению, отмалчивался, потом пожал своими в косую сажень плечами и пробасил нехотя, что в каждом человеке можно что-то найти, надо, мол, только уметь видеть. Возразить против этого было трудно, но понять подобную дружбу – еще труднее. Поражало преподавателей то, что в этой же компании оказались Петя Аронсон и Катя Саблина – чуть ли не самые способные пятерочники школы, уже участвовавшие в районных и городских математических олимпиадах.
Сейчас эта примерная пара сидела на скамейке плечо к плечу, читала какой-то затрепанный журнал, сблизив головы, и синхронно давилась смехом. Андрей Болховитинов рисовал, развернув на колене альбомчик, который постоянно таскал с собой, а Игорь рядом с ним копался во внутренностях маленького транзисторного приемничка.
– Привет, – сказала Ника, подходя. – Все живы?
– Если это можно назвать жизнью, – отозвался Игорь. – Ты чего это так рано?
– А, не говори. С утра сплошные неприятности…
– Это, старуха, у всех. У меня вот, видишь, транс накрылся.
Андрей рассеянно глянул на Нику, кивнул и снова занялся рисованием. Он то и дело, щурясь, посматривал на верхний ярус колокольни и чиркал в альбоме быстрыми угловатыми движениями, держа карандаш под прямым углом к бумаге. Осмотревшись, Ника увидела и Ренату – та, отойдя к церковной ограде, где было больше солнца, с озабоченным видом примеряла очки с огромными – в блюдечко – круглыми сиренево-голубыми стеклами.
– Ренка, с ума сойти! – ахнула Ника. – Где достала? Ну-ка, покажи…
Она завладела очками, и мир сразу сделался каким-то подводным. Вернувшись к скамейке, где сидели мальчишки, она отвела волосы от щеки и слегка подбоченилась, выставив колено и едва касаясь земли острым носком туфельки.
– Что скажете? Андрей, окинь взглядом артиста, идут мне такие?
– Сила, – одобрил Игорь. – Еще тот кадр: их нравы, или мисс Большая Ордынка.
– Нет, сними, – сказал Андрей, на этот раз оглядев Нику более внимательно. – Очки тебе ничего, только лучше узкие, а это вообще маразм – жабьи глаза какие-то.
– Фэ, – сказала Ника, послушно снимая очки. – Удивительно ты умеешь все опошлить. «Жабьи глаза!» Возьми, Ренка, меня не оценили.
Она присела рядом с Андреем и заглянула в альбом.
– Что это ты рисуешь, колокольню? Она тебе кажется красивой?
– А тебе?
Ника до сих пор как-то не задумывалась над вопросом, красива или некрасива круглая трехъярусная колокольня храма Всех Скорбящих; сейчас она пренебрежительно пожала плечами и заявила, что в Москве есть церкви куда лучше.
– Например? – поинтересовался Андрей.
– Да хотя бы та в Зарядье – как ее, «на Кулишках»? Ну, где Дмитрий Донской был…
– Подходящее сравнение – всего пятьсот лет разницы. Таких эрудитов, как ты, можно показывать на вэ-дэ-эн-ха. А все-таки, чем тебе эта не угодила?
– Пропорции не те, – подумав, сказала Ника.
– А-а, ну ясно, – Андрей понимающе покивал. – Где уж было бедняге Баженову разобраться в пропорциях.
– Это разве Баженов строил?
– Представь себе. Так где ты пропадала все утро?
– Ой, я потом расскажу… Физик про меня не спрашивал?
– Спрашивал.
– А географичка?
– Не знаю, я сидел отключившись.
– А что?
– Да так, – Андрей захлопнул альбом и сунул его в портфель. – На предыдущем уроке схлопотал двойку от собственной родительницы и почему-то расстроился.
– Брось, старик, – сказал Игорь, – если еще из-за двоек расстраиваться…
– Нет, двойка по литературе – это действительно неприятно, – возразила Ника. – Да еще перед самым концом года!
– Он-то сегодня действительно ни фига не знал, – вмешалась Рената, – а вот мне на прошлой неделе влепили совершенно зря, я отвечала минимум на трояк. У математички, видите ли, было плохое настроение – может, они утром с мужем ругались. Так знаешь, до чего обидно, я обревелась, как крокодил! – Она снова нацепила голубые очки и стала разглядывать себя в зеркальце. – Ник, завтра мне обещали принести ресницы – те самые, помнишь, длинные такие. Примерим, я тебе тоже постараюсь достать…
– Не надо мне ничего, – Ника вздохнула. – Я сегодня портфель утопила, какие уж теперь ресницы.
Рената сделала большие глаза.
– Офонареть, – прошептала она испуганно. – Как это – утопила? Где?
– Не все ли равно где! На Кадашевской набережной, у Лаврушинского. Что за дурацкие расспросы – где, как? Очень просто как – взяла и бросила в воду, он и утонул.
– Ну, ты даешь, – восхитился Игорь. – Что это на тебя, горемычную, накатило?
– Надоело все! От одной физики уже дурно делается…
– Ты что, действительно выбросила портфель? – спросил Андрей.
– Да, вот представь себе, взяла и выбросила!
– Ничего, старуха, держи хвост пистолетом, скоро каникулы, – утешил Игорь, продолжая терзать свой транзистор.
Саблина и Аронсон – или Пит Арон, как стали его называть после культпохода на «Большой приз», – в один голос взвыли от прорвавшегося хохота.
– Что это они читают? – спросила Ника у Игоря.
– Да эту бодягу, как ее… про кота Бегемота.
– Почему «бодяга»? Мне, например, понравилось.
– Можно подумать, ты там что-то поняла, – сказал Андрей.
– Можно подумать, ты понял.
– И я не все, а уж про тебя-то и говорить нечего.
– Ну, не знаю, что там вообще такого особенного нужно понимать, – примирительно сказала Ника. – По-моему, это просто хорошая историческая повесть. Я говорю про те места, где Пилат и этот, ну…
– Иисус из Назарета, – усмехнулся Андрей, – если мне не изменяет память.
– Ну да, но ведь там его называют иначе? Эта часть мне понравилась больше, а про Бегемота или про этот театр дурацкий – смешно, конечно, но это уже совсем другое, непонятно даже, зачем он все так перемешал. А тебе понравилось?
– Старик, дай-ка нож, – попросил Игорь. – У тебя там отвертка есть?
Андрей, откинувшись на спинку скамьи, вытащил нож из заднего кармана джинсов.
– Не знаю, – ответил он не сразу. – Я в этой вещи не до конца еще разобрался. Родительница моя считает ее гениальной – вероятно, ей виднее…
– Ой, мальчики, – воскликнула Рената, – что гениально – так это «Щит и меч»! А фильм какой – обалдеть!
Приемник в руках Игоря хрустнул, и из него что-то выпало.
– Вот плешь, – огорченно сказал тот. – Починил, называется… Двадцать рэ кошке под хвост. Ну надо же!
– Кретин ты, – сказал Андрей. – Ты и мои часы так же чинил – не умеешь, а берешься. Чего тебя понесло его разбирать?
– Регулятор тембра барахлил… Эй, Пит!
Пит оглянулся и, оставив журнал Кате Саблиной, встал и подошел к скамье, где сидели остальные.
– А, и дитя-цветок уже здесь, – сказал он, увидев Нику. – Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Где это вас носило?