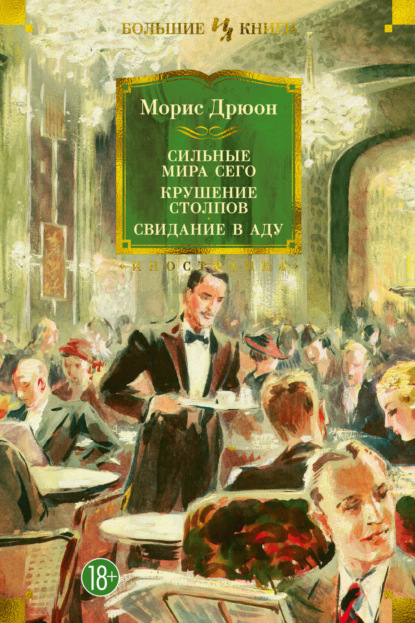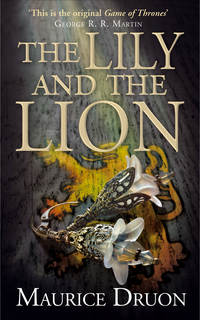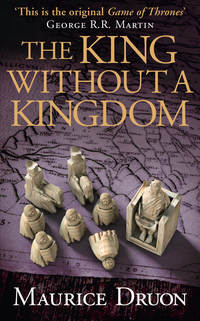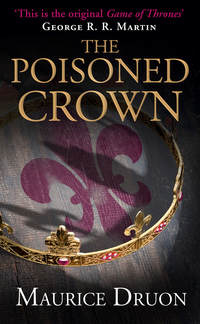Полная версия
Крушение столпов
Он устал – лицо его внезапно осунулось, и у Жаклин сжалось сердце.
Когда доезжачий вместе с дворецким вышли, слепец, чьи черты немного разгладились, спросил:
– А где Жилон?
– Я думаю, месье, – ответил Де Воос, – что он направился прямо в Монпрели, куда, впрочем, и я собираюсь вернуться.
– Ах, какая досада, – бросил маркиз. – Я не люблю, чтобы слуги затевали что-либо одни, без хозяев. Если бы я хоть видел ясно…
– Но я же, естественно, поеду с Лавердюром, дядюшка, – воскликнула Жаклин.
– Оставь, оставь, не говори глупостей. Ты устала.
– Я уже отдохнула, дядюшка, уверяю вас, и вполне могу продолжить охоту.
Она говорила правду. Надежда взять оленя влила в нее новые силы, и Де Воос с удивлением посмотрел на нее.
– Если хотите, у меня есть машина, – продолжил он. – Мне и самому довольно любопытно, чем все это кончится.
Жаклин не стала колебаться или из вежливости отказываться.
– О, это очень любезно с вашей стороны, – сказала она.
А воображение уже несло ее к излучине ручья.
– Так неужели ты туда поедешь? – спросил маркиз.
– Конечно, дядюшка, я же вам сказала!
От счастья лицо слепца разгладилось.
– Ну вот! Все же не обрекают они меня на смерть в одиночестве, – прошептал он.
3
Сквозь решетки, заменявшие в старом грузовичке двери, можно было видеть несколько больших собак, растревоженных и удивленных этим ночным путешествием; большой бежевый «вуазен», который вел Де Воос, ехал следом, и его включенные на полмощности фары зажигали в глазах собак странные золотые блики – словно микенские божества вдруг задвигались в глубинах храма.
Жаклин наконец удалось расшифровать имя владельца машины на небольшой серебряной пластинке, вставленной в медальку с изображением святого Кристофа.
Мадемуазель Сильвена Дюаль,
драматическая актриса.
33. Неаполитанская улица.
Это имя не соотносилось у Жаклин с каким-либо определенным воспоминанием, однако оно было ей знакомо и вызывало скорее неприятное чувство.
Она испытывала к Де Воосу все возраставший интерес, смешанный с недоверием.
Решительно, он был очень хорош собой. Полоска света, исходившего от доски с приборами, лентой обрамляла его подбородок. Жаклин почти бессознательно рассматривала волевой, чеканный профиль, абрис массивной нижней челюсти, – превосходство, уверенность в себе сквозили в каждой черте его лица, в посадке головы, в складках век, даже в самой мышечной ткани.
– У вас чудесная машина, – произнесла она.
– Да… машина одной моей подруги… она одолжила мне ее… – отозвался Де Воос. – А ваш дядюшка, значит, – продолжал он, меняя тему, – всякий раз, как идет охота, надевает соответствующий костюм и садится у камина?
– Да, и он никогда не позволяет себя раздеть, пока команда не вернется и доезжачий не доложит ему обо всем, – ответила Жаклин.
Де Воос на несколько мгновений умолк.
– Великое это счастье – до старости сохранить к чему-то страсть, – сказал он.
– А у вас тоже есть пристрастие, которое вы надеетесь сберечь? – спросила она.
Он не ответил. Не бросая руля, он снял с правой руки толстую перчатку из верблюжьей шерсти – рука оказалась довольно большой, гладкой и длинной, с прямо срезанными, ухоженными ногтями, пожалуй, слишком ухоженными для военного, – и, достав золотой портсигар, протянул его Жаклин. На мгновение взгляды их встретились. Глаза у высокого офицера были большие, рыжеватые, не столько сверкающие, сколько блестящие. Он улыбнулся. И Жаклин почувствовала некоторое смущение.
Она сидела, запахнувшись в широкое, подбитое мехом пальто. Ей было удобно на кожаных подушках сиденья, а Де Воос к тому же галантно накинул ей на колени свой бурнус.
«Почему меня не оставляет это… feeling[3] в отношении его, – подумала Жаклин. – Он любезен, он услужлив, не пользуется тем, что мы одни, и не затевает идиотские ухаживания, хотя многие другие сочли бы это для себя обязательным…»
Может быть, из-за того, как лежала его рука на руле, или из-за толстой золотой цепочки на запястье, или из-за кепи, дерзко надвинутого на лоб, или из-за парада орденов, вероятно, заслуженных, но уж слишком многочисленных, слишком выставленных напоказ (розетки кавалера Почетного легиона и четырех пальмовых ветвей Военного креста было бы вполне достаточно, зачем носить все остальные?), или, может быть, из-за этой слишком роскошной машины, принадлежавшей не ему, у Жаклин возникало впечатление, что он человек не «высокой пробы» – не «вполне порядочный», как говорили в кругу Ла Моннери.
– Вы постоянно живете в Моглеве? – спросил он.
– Нет. Часть времени приходится проводить в Париже – дети там ходят в коллеж, а часть времени – здесь, – ответила Жаклин. – И потом, только в этом году… Только в этом сезоне после смерти мужа я снова стала охотиться.
Как и всякий раз, когда в памяти ее всплывало воспоминание о Франсуа Шудлере, со времени самоубийства которого прошло уже почти шесть лет, или когда кто-то говорил о нем при ней, Жаклин на миг уходила в себя, и брови ее поднимались еще выше.
– Вы понравились бы друг другу, я уверена, – добавила она. И тотчас с неудовольствием подумала, зачем ей понадобилось прибавлять эту фразу, не соответствовавшую в полной мере ее ощущению.
– Жилон мне много говорил о нем как о человеке и в самом деле необыкновенном, – заметил Де Воос.
Жаклин промолчала. Машины выехали на проселочную дорогу, где желтая земля была вся в рытвинах. Глаза собак по-прежнему светились за решеткой грузовика.
– Впрочем, – продолжал он, – уж слишком безрадостным было бы для женщины сидеть в этой громадной казарме целый год одной.
Жаклин смущала и в то же время неудержимо притягивала к Де Воосу та властность и легкость, с какими, казалось, он вторгался в чужую жизнь, вид его словно говорил: «Вот увидите, раз я здесь, все будет хорошо».
Да и Моглев он, оказавшись здесь впервые, фамильярно назвал «громадной казармой», как будто был уже тут своим. Именно так говорил о замке когда-то и Франсуа.
Жаклин подумала, что надо следить за собой в присутствии этого человека и не произносить слов, которые могут быть истолкованы превратно.
«Да и потом, все они так страстно хотят, чтобы я вышла замуж, – размышляла она. – Мать, что ни месяц, устраивает так называемые вечеринки, представляя мне кого-нибудь; свекор хочет выдать меня за Симона Лашома; дядя Урбен вбил было себе в голову, что лучшая кандидатура – милейший Жилон, а теперь просто решил сватать меня за первого встречного!.. Даже слуги, я чувствую, этим озабочены… Неужели всем им мешает, что я остаюсь вдовой!»
– Мы, безусловно, настигнем оленя, – проговорил в эту минуту Де Воос. – Ваш дядя совершенно прав. Олень идет вверх по ручью.
И это он произнес своим уверенным, не терпящим возражения тоном.
Машины доехали до конца дороги, и Лавердюр выпустил собак.
4
Январь в том году выдался на редкость мягкий. Земля раскисла во время недавней оттепели, и небо чернело, словно крыша из сажи.
Лавердюр, шагая в сапогах прямо по воде и высоко подняв в руке зажженный толстый факел из соломы, поднимался по течению ручья. Карл Великий, служивший на псарне подросток, приютский ребенок, которому придумали такое необычное имя, чтобы к нему не пристало какого-нибудь прозвища («Если заслужит, – говорил Лавердюр, – я сам потом назову его Срезанная Ветвь»), полусонный, шел следом, неся факел из соломы и связку запасных пучков. Две самые храбрые собаки пробирались по воде за ними. Четверо других, в том числе и старый Валянсей, бежали по откосу.
Лавердюр без устали, гортанным голосом, понукал собак, отчаянно заставляя их искать след.
– О, гой, о, гой!
«Если только мы возьмем оленя, это, я уверена, станет важным предзнаменованием», – думала Жаклин, сама не понимая, что за смысл она вкладывает в эти слова. Несмотря на мех, ей было зябко, и время от времени она вздрагивала.
Четверть часа старательных поисков не дали никаких результатов. Вот и старый шлюз, о котором Лавердюр говорил маркизу, вырос перед ними, перегораживая русло ручья покрытыми склизким мхом досками, собирая на воде желтую пену и пузыри.
– Но должен же он был все-таки где-то пройти. Голову прямо сломать можно, – ворчал доезжачий.
Внезапно его осенила какая-то мысль, и он крикнул:
– Карл Великий! На-ка, подержи!
Он снял охотничий нож, пояс, кафтан и бросил их псарю.
– Что вы делаете, Лавердюр? – воскликнула Жаклин.
– Пусть госпожа баронесса не беспокоится, – ответил он.
И, встав на колено, склонился почти до самой воды; уцепившись одной рукой за трухлявую балку, а другой по-прежнему сжимая факел, старый доезжачий просунул тело в узкое отверстие шлюза, под его заслон, точно под нож гильотины.
«Но это же невозможно, просто немыслимо», – подумала Жаклин. И почти в то же мгновение Лавердюр буркнул:
– Ах ты, черт тебя раздери! Ну и дела! Вот уж наука! – И, резко выпрямившись, рявкнул: – Валянсей! Давай, давай, мой милый! Улюлю, улюлюлю! Карл Великий! Нечего спать, погоди, я тебя разбужу! А ну, кинь-ка мне этого пса в воду! Вот оно, улюлю-то! Вперед, ребятки!
Коренастый, приземистый старик в черном жилете с золотом, мечущийся над водоворотом в своих вымокших до нитки штанах, с зажатым в кулаке факелом, был счастлив, почти страшен и красив.
Он заметил вдавленные в мох, покрывавший нижнюю часть шлюза, две свежие борозды, оставленные оленьими рогами.
– Ах! Госпожа баронесса! – воскликнул он. – Никогда и в голову не придет, что олень, да тем более такой громадный, пролезет здесь. До чего ж хитер! Я аж ругнулся, пусть мадам меня простит, но, право слово, было отчего! Ату его, ребятки! Давай, красавцы вы мои!
– Браво, Лавердюр! Мы возьмем его! – вскричала Жаклин.
– Все может быть, госпожа баронесса, все может быть! Ату его!
Запах преследуемого, измученного оленя остался в бороздах на доске, ибо Валянсей дважды коротко подал голос. И пять остальных собак полувброд-полувплавь ринулись вслед за ним под заслон.
Лавердюр отошел от воды на откос и надел кафтан. Он схватил длинный шест и принялся бить им по воде, создавая как можно больше шума.
Внезапно у самой излучины, на которую указывал маркиз, все шесть собак залились лаем, и темный силуэт, шумно «плюхнув», скакнул вдоль ручья и выпрыгнул на берег.
– О, гой! О, гой! – завопила Жаклин.
– Я же говорил вам! – воскликнул Де Воос.
Жаклин обратила на него благодарный, полный доверия взгляд, будто это была его заслуга.
И они бросились бежать, подворачивая ноги, спотыкаясь об ивовые пеньки и комья стылой глины.
– С головы заходи, с головы! – кричал Лавердюр, распаляя собак.
Олень, хоть и окоченевший в холодной воде, успел все же немного восстановить силы. Он ускользнул из-под носа у собак, и его легко было снова потерять в темноте.
«Да, то, что мы нашли его и подняли, – уже прекрасно», – подумала Жаклин.
А олень несся прямо вперед, и его силуэт словно парил над землей. Однако вместо того, чтобы нырнуть в подлесок, он со всего маху врезался в дерево.
Послышался глухой удар. На какое-то мгновение олень замер, оглушенный; затем вновь устремился вперед, но на сей раз по кругу, то и дело, точно в припадке безумия, задевая обо что-то рогами, будто атакуя целую армию великанов; наконец он прислонился к дереву, задыхаясь, выставив голову навстречу собакам…
Подбежали люди с факелами. Старый олень гордо стоял, как бы опершись на черноту ночи; его темная шкура слиплась от воды, широкая грудь вздымалась от учащенного дыхания; он поводил громадными, выставленными вперед рогами и временами гневно потряхивал головой.
Шестерка псов, задрав морды, окружала его кольцом; собаки заливались гортанным диким лаем, какой появляется у них только в минуты гона.
– Но почему он натыкается на все деревья, Лавердюр? – спросила Жаклин.
– Ослеп он, госпожа баронесса, – ответил доезжачий, сдергивая шапку. – Да погодите, сейчас сами увидите!
Приблизившись к животному на безопасное расстояние, Лавердюр поводил перед ним факелом. Олень втянул носом дым, но не шевельнулся; его неподвижные стеклянные глаза по-прежнему были широко раскрыты и сверкали красным от пламени огнем.
– Случается так, госпожа баронесса, – сказал Лавердюр, – случается с загнанными оленями. Что-то у них там лопается в голове, и они потом ничего не видят. Этот олень и сам подох бы завтра или послезавтра… Точно, понимаю, странный случай вышел, прямо-таки забавный, – добавил он, догадываясь, о чем подумали разом Жаклин и Де Воос.
Он раздавил ногой огарок факела, достал охотничий нож и почтительно произнес:
– Не думаю, чтобы госпожа баронесса пожелала сама его отколоть…
Жаклин отрицательно помотала головой и взглянула на Де Вооса.
– Если только госпожа баронесса не пожелает оказать честь господину капитану, – после минутного колебания добавил Лавердюр.
Однако с незапамятных времен обычай – никто притом не уважал его больше, чем Лавердюр, – повелевал, чтобы животное убивал хозяин замка или же – в его отсутствие – доезжачий, но никогда не гость.
И все же исключительные обстоятельства этой необыкновенной охоты позволяли нарушить правило, а главное, ясно было, что между Жаклин и Де Воосом протянулась некая нить, о чем сами они пока не догадывались, но что побудило старого доезжачего действовать так, как если бы он желал создать ситуацию, одинаково лестную для обоих.
– Вы не возражаете… – промолвила Жаклин.
– Весьма охотно, – ответил Де Воос, схватив большой, длинный, как штык, нож.
А старый олень, пока шел этот обмен любезностями, чуял приближение смерти.
Де Воос сбросил бурнус на землю, чтобы не сковывал движения. Животное с выставленными вперед рогами было одного с ним роста, но к воодушевлению, какое испытывал Де Воос, примешивалось сознание того, что олень стар и слеп, и офицер вдруг почувствовал, что ему было бы легче убить человека.
– Осторожней, господин капитан! Хоть олень и слепой, у него еще для защиты сил хватает, – предупредил Лавердюр. – Надо зайти сбоку и приставить лезвие вот сюда, к ямке возле плеча. – Большим пальцем он указал нужное место на собственном кафтане. – А после найти мякоть и надавить…
– Да, да, – пробормотал Де Воос.
– А ты, Карл Великий, зажги-ка еще факел да возьми шест, чтобы ударить его по рогам, если понадобится.
Собаки перестали лаять; они тоже выжидали, вздыбив шерсть и сверкая клыками.
Жаклин вспомнила Франсуа – как он, под улюлюканье соскочив с лошади, шел к оленю, совсем как сейчас Де Воос, и ее охватила та же смешанная с гордостью тревога.
Олень, почуяв приближение человека, еще ниже опустил ветвистые рога, резко выдохнул и весь подобрался, будто перед прыжком.
– Сбоку заходите, сбоку, господин капитан! – крикнул Лавердюр, тоже приближаясь к животному.
Раздался страшный вой. Олень выпрямился, подцепив отростками рогов какую-то извивавшуюся массу, и швырнул ее на землю.
– Ах, черт побери, сволочь ты этакая! – вскричал Лавердюр. – Поторопитесь, господин капитан!
На земле, суча ногами, с распоротым животом валялась собака.
Де Воос, кинувшись на оленя, вначале почувствовал под ножом сопротивление кости, переместил острие и, налегая всем корпусом, нанес такой сильный удар, что едва не потерял равновесие – до того легко вошло лезвие по самую рукоятку. Он не ожидал, что у столь могучего животного окажется такая нежная плоть. Старый олень упал на колени, потом, слабо вскрикнув, завалился на правый бок, и кровь хлынула у него изо рта, стекая по языку.
Жаклин жадно глотнула воздух – последние несколько секунд она вообще не дышала.
– Мне очень жаль собаку. Я недостаточно быстро шел, да? – спросил Де Воос, сохраняя полнейшее хладнокровие, и отдал нож доезжачему.
– О нет, господин капитан! Это с кем хочешь может случиться, – ответил как-то слишком поспешно Лавердюр. – Наоборот, решительности господина капитана можно позавидовать.
Он снова стащил с головы шапку. Делал он это бессознательно, лишь только к нему обращались, – будь он на лошади или пешком, была бы рука свободная.
Он вытер нож о шерсть собаки, которая, лежа со вспоротым животом в луже крови, время от времени еще мелко подрагивала, легонько провел ей по спине массивным, набухшим от воды сапогом и произнес:
– Бедняга Артабан, смотри, пришла твоя очередь. Самым храбрым всегда и достается. Но в конце-то концов, лучше он, чем господин капитан, верно ведь?
Только тут он почувствовал, как въедается в кожу ледяная сырость. «Вот так и ревматизм заработаешь, если не еще что похуже, – подумал он. – Ох и разорется сейчас Леонтина, если я вернусь в таком виде». Внезапно настроение у него испортилось, но придраться было не к кому. «Может, если б я сам его отколол или если бы Карл Великий бросил в него шест… Вот… Вот… что значит…»
Старый Валянсей, оскалившись, стал осторожно подбираться к вывалившимся кишкам своего сородича.
– Назад! – крикнул Лавердюр, яростно отбросив пса в сторону. – Не дам я тебе им лакомиться.
Он достал из кармана другой нож, меньшего размера, со стопорным вырезом и тонким лезвием, и, подойдя к туше оленя, вспорол ее одним ударом от ребер до паха. Теплый острый запах дичины заполнил рощу.
В столь поздний час не могло быть и речи о том, чтобы устраивать церемонии, – важно было поскорее вознаградить собак.
– Улюлю, ребятки, улюлю! – крикнул Лавердюр, сопровождая свои слова широким жестом.
Пять псов с взъерошенными загривками кинулись на массу кишок, погрузились в них по самую грудь, клацая зубами и рыча.
Заслышав, как лакомятся другие, Артабан грустно открыл глаза – в них было желание присоединиться к пиру: последним усилием воли он попробовал подползти и тоже полакомиться своей долей добычи, но голова его снова упала на землю, и больше он не шевелился.
Остальные продолжали разгрызать хрящи, оспаривая друг у друга внутренности оленя, полные пахучих трав и секреций, выдирая длинные шелковистые кишки, вгрызаясь клыками в их опаловую, зеленоватую и рубиновую ткань.
Жаклин наблюдала спектакль во всех подробностях со смешанным чувством отвращения и вожделения.
– Это первый олень, которого вы откололи? – спросила она.
– Первый, – ответил Де Воос, улыбаясь.
Ни одна охота не давала еще Жаклин такого ощущения власти, как этот ночной гон и дикарское лакомство при свете соломенных факелов, – ощущение власти не только над тем, что можно купить, – над собаками и людьми, – но и над всем остальным – над небом, над долиной, над лесом, над вольным зверьем, его населяющим.
– Что это я говорил госпоже баронессе? Да, олень-то с четырнадцатью отростками, – констатировал Лавердюр, выражая на свой манер похожее чувство гордости. – Такого в наших краях не часто встретишь. Господин маркиз будет доволен.
За несколько минут собаки растащили, сожрали, проглотили гигантскую массу внутренностей, и громадный олень остался полый, как старый фрегат, сидящий на мели.
В руках маленького псаря угас последний факел.
Наутро, перед отъездом из Монпрели, где он ночевал у майора Жилона, Габриэль Де Воос получил правую ногу оленя с еще свежей мягкой кожей, надрезанной полосками, – ее привез Лавердюр в обычной рабочей одежде. Посылку сопровождала тисненая карточка баронессы Франсуа Шудлер, на обороте которой было несколько слов, набросанных мелким торопливым почерком: «От моего дяди. Вы вполне это заслужили! Приезжайте охотиться, когда захотите».
5
Задвижка засова на воротах уже не входила в скобу; ее заменила цепочка с большим висячим замком, которым по вечерам и запирали ворота. Двор был усеян старыми колесами от тачек, вышедшими из употребления садовыми инструментами, сельской утварью. Конюшня была пуста. Тонкая струйка мочи сочилась из стойла, где еще оставалась одна корова. За провисшей сеткой бродили куры, утопая в собственном помете.
Симон Лашом не приезжал в Мюро, когда умер его отец.
Последний раз он был здесь больше десяти лет назад, да и то проездом, на несколько часов, получив увольнительную в конце войны. Вид родимого дома, который всегда представал в его памяти убогим и презренным, неожиданно вызвал в нем прилив нежности, мимолетной, необъяснимой и глупой.
Все было разъедено, все проржавело, все сгнило от старости и дождей. Ставни слетели с петель, штукатурка большими кусками отстала от стен, обнажив старую дранку; крыши осели, и Симон шагал по осыпавшейся черепице, хрустевшей, точно сахар, у него под ногами.
Мамаша Лашом работала в саду, пригнувшись к земле. Сначала Симон увидел только огромный черный зад старухи.
– Мама, – окликнул он.
Мамаша Лашом обернулась, медленно, с трудом, выпрямилась и посмотрела на сына, шедшего к ней между двумя рядами засохших яблонь.
– Смотри-ка, это ты, – произнесла она, никак иначе не выказывая своего удивления. – Если б ты не сказал «мама», я бы тебя небось и не узнала. Гляди, и облысел уж совсем, и растолстел, и одет как барин.
Симон машинально провел рукой по оголенному лбу, где лишь посередине остался пучок коротких каштановых волос.
Мать и сын не расцеловались. Еще несколько мгновений они изучали друг друга, высматривая, какие изменения произошли в каждом.
Мамаша Лашом двигалась мало. Она являла собой все ту же бесформенную колышущуюся массу. Только правое веко у нее закрылось, толстое, как скорлупа грецкого ореха, и на щеках появились седые волоски, а между волосами на голове, забранными в пучок, широкими розовыми проплешинами светилась кожа.
– Раз уж ты себя побеспокоил, знать, большая у тебя нужда поговорить со мной, – вытерев руки о бока, наконец произнесла она. – Давай зайдем в дом.
Даже в старости она не согнулась и по-прежнему на полголовы возвышалась над сыном. Они шли бок о бок по заросшей травой дорожке, чувствуя себя совсем чужими, и все же было между ними какое-то сходство: у обоих на голове осталось совсем мало волос, у обоих тяжелая походка враскачку, оба несли в себе свои болезни, она – фиброму и водянку, затаившуюся под грязным передником, он – уже заметный животик сорокалетнего, слишком хорошо питающегося человека.
Симон оглядывал землю по обе стороны дорожки, наполовину перекопанную в залежь: первое волнение уже угасло в нем. Старуха шла, все укрепляясь в своем подозрении, не обращая, казалось, внимания ни на что. Перед порогом кухни она сбросила сабо.
В просторной темной комнате на Симона тотчас дохнуло запахом перебродившего вина, прокисшего молока, дыма и грязной воды после мойки посуды – запахом, который сопровождал его в детстве: так пахло от матери, так пахло все – предметы, ткани, продукты, воспоминания. Исчез только едкий запах пота, добавлявшийся раньше, когда был жив отец.
И Симон тотчас перевел взгляд на нишу между очагом и ларем для хлеба, зная, что увидит сейчас самое тягостное из всего, что мог предложить ему отчий дом.
Скорее скорчившись, чем сидя на стареньком, продавленном стульчике, брат Симона дул на крылья примитивной мельницы из двух насаженных крест-накрест на веточку бузины кусков картона.
– Пойди сюда, Луи, пойди поздоровайся, – сказала мамаша Лашом. – Давай не бойся, это Симон.
Существо, которое неуклюже поднялось с места, опираясь на ларь, было в коротких штанах и черном фартуке. Он двигался, как разлаженный автомат, выбрасывая вперед тщедушные ноги и вывернутые руки. Он был выше Симона. Кожа на его лице, на скрюченных кистях рук, на торчащих коленях была всюду холодного цвета зеленоватой бронзы; на яйцевидном лице, обрамленном двумя прядями, выбившимися из-под берета, не было ни единой морщинки. Отвислая губа блестела от слюны. Черные, бархатистые глубокие глаза чудовищно косили.
Идиот пробормотал: «…звуй», втянул слюну и, вернувшись в свой угол, взгромоздился на ларь и свесил ноги.
– Вот видишь, он молодцом. Он сейчас очень смирный, – сказала мамаша Лашом.
Симон взял стул, который оказался до того грязным, что он, по прежней крестьянской привычке, садясь, задрал полы пальто.
– Сколько же ему теперь лет? – спросил он.
– Ох, это трудно сосчитать, – ответила старуха. – Он на три года старше тебя. Выходит, ему сорок четыре.
Идиот, бросив мельницу на пол, взял школьную грифельную доску и принялся, скрипя карандашом, чертить какие-то непонятные знаки.
– Вообще-то, – сказала мамаша Лашом, – он ведь вроде тебя: если бы мог, он бы тоже хорошо учился.
Наступила пауза.
– Выпьешь немного? – снова заговорила она, направляясь к буфету за бутылкой.
Она предлагала ему выпить, точно постороннему, и, точно посторонний, он решил не отказываться от стаканчика обжигающей водки, чтобы не обидеть ее.
– Хороша, – промолвил он.
– Эту как раз и отец твой любил, – подхватила она. – Э-э! За каждым водится грешок. Теперь-то, когда его уже нет, меня это больше не мучает.