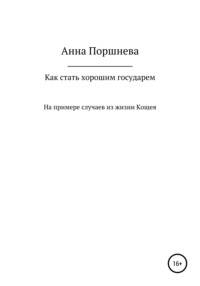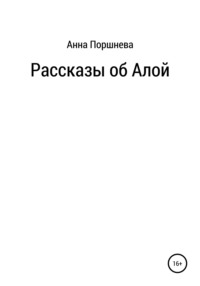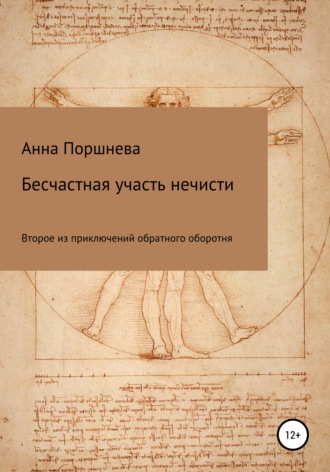 полная версия
полная версияБесчастная участь нечисти
– Сами понимаете, по дороге этой ездили богатые купцы и везли товары, деньги, разные редкости и ценности.
Прокруст приглашал их в гости, поил, кормил, а после говорил: «Есть у меня ложе – мерило гармонии и красоты. Тот человек, который уместится на нем точь-в-точь и есть самый красивый человек в Греции». Пьяный гость немедленно желал проверить, насколько он хорош и укладывался в Прокрустово ложе. И, конечно, был или длинен или короток. И тогда Прокруст отбрасывал любезность и восклицал: «Как смеешь ты своим несовершенством уродовать облик Земли» и с нечеловеческой силой растягивал коротких, а у длинных отсекал ноги. Конечно, купцы после таких пыток умирали, а Прокруст забирал у них товары, деньги и рабов.
А поскольку он был сыном самого Посейдона, бога морей и океанов, никто не осмеливался ему перечить. И даже некоторые думали, что, возможно, ион и вправду обладает мерилом гармонии и вправе мерить по нему людей.
И так было, пока не встал на его пути Тесей. Он был человеком, но не боялся ни богов, ни их детей. А кроме того, был он очень силен, сильнее даже Прокруста. Так что, попав к нему в гости, он не дал обрубить себе ноги, а, напротив, померил самого Прокруста его же меркой и решил, что тот длинен на целую голову. И Тесей отсек разбойнику голову, и дорога из Мегары в Афины стала спокойной.
Но люди не забыли Прокруста и его ложе. И с тех пор, если кто-то пытается загнать другого в узкие рамки своей морали, или знаний, или представлений о мире, про такого человека говорят, что он пытается мерить все Прокрустовым ложем.
Потому что на самом деле люди разнообразны и нельзя судить всех одинаково, и тем более нельзя назначать себя таким судьей. Хотя, конечно, очень хочется. Ведь многим кажется, что они и есть – совершенство.
– Мне так не кажется. – Говорит Василий
– И мне, – кивает Оомия.
– На самом деле в вас много всего заложено. И может быть, в чем-то вы-таки и являетесь совершенством.
– Во мне точно много всего, – улыбается Оомия.
Василий смотрит на нее украдкой. Он с этим согласен.
18. Яркий сервиз
Все-таки с Вороном было хорошо. Вот войдешь ты в его лавочку растревоженный и взволнованный, а он пожмет тебе руку теплой сухой ладонью и проведет в дальнюю комнату. А там уже кипит – всегда он кипит, что ли? – большой прозрачный чайник, и знакомый китайский сервиз, украшенный алыми пионами, и жестяная баночка с душистым чаем, и баночки поменьше – с мятой и чабрецом – добавлять для вкуса и аромата, и горка печенья в одной вазочке, и с десяток шоколадных конфет – в другой. И среди конфет всегда любимые конфеты Ворона – чернослив в шоколаде и любимые конфеты Хэма – грильяж.
Сервиз, из которого они пьют чай, очень нравится Хэму. И конечно, сервиз этот антикварный. «Двадцатые годы прошлого столетия, – говорит хозяин лавки, – ничего особенного. Такие в Китае тогда штамповали тысячами. Аляповат, на мой вкус». Хэм не очень понимает, что такое аляповат и, заметив это, его собеседник добавляет: «Слишком яркий». Но именно эта яркость и нравится Хэму. Два оборотня пьют чай, жуют конфеты и обмениваются последними новостями. И как-то так получается, что событие, так взволновавшее Хэма – исчезновение Лейлы – становится вдруг не таким и пугающим и даже как-будто обыденным.
– Вот в шестидесятые годы был похожий случай. С Синявинских болот внезапно снялись все шишиги и исчезли неизвестно куда. Войну, понимаешь, вытерпели, а тут исчезли – как испарились. Все в смятеньи, за болотными огоньками следить некому, те стали в стаи собираться, поползли слухи, что в Ленинградской области база инопланетных НЛО, среди людей стали бродить самые невообразимые сплетни.
А шишиг потом нашли – они по всему миру разбежались. Заделались моделями и актрисами. Как раз мода была на таких – длинноногих да тощих. Про Твигги слышал? Вот то-то и оно.
– Может, – говорит Хэм, аккуратно наливая в тонкостенный фарфор еще чаю, – может, попробовать мне вызвать заклинание самому? У Вас же есть старинные вещи, времен этого самого хитрого колдуна Джеймса?
– Как ни быть, – кивает Ворон, – но я бы на твоем месте не торопился. Надо еще что-нибудь вызнать про заклинание, а то, боюсь, оно действительно опасно для таких, как мы.
Хэм уходит, довольный и успокоенный, а Ворон, оставшись один, принимается перетирать мягкой замшей и без того сияющее серебро и напевать старинную армянскую мелодию «Журавль».
В это же время в неприлично дорогом московском ресторане ослепительная рыжеволосая женщина, в которой Хэм едва узнал бы свою знакомую ламию, говорит томным голосом:
– Нет, салат я не буду. И горячее тоже. Я, пожалуй, съем только тар-тар и сок из томатов с сельдереем.
Напротив нее сидит представительный мужчина много старше ее и смотрит на женщину обожающим взглядом.
19. Самый черный в мире цвет
– И вот этот хитрый художник объявил, что отныне самый черный в мире цвет может использовать только он. А цвет этот настолько черный, что, если покрасить им объемный предмет, он станет выглядеть плотным и будет подобен собственной тени. Но твои волосы, милая, я не буду рисовать слишком черными. Потому что, хотя они и темные, но очень блестящие. И вот эти блики солнца на них делают твои волосы одновременно черными и светлыми. Это очень красивый контраст. Даже не знаю, смогу ли я его передать, – волнуется мадам Петухова, которая снова взялась за кисть после сорокалетнего перерыва.
Это очень трудно: пальцы, оказывается, стали жесткими и неповоротливыми и не могут твердо держать в руках кисть. Краски теперь совсем не те, какими были, когда маленькая девочка бежала в художественную школу с планшетом подмышкой. Да и планшетом сейчас называют электронный гаджет, а не особую твердую папку для бумаг и карандашей. Но мадам Петухову не испугать сложностями! Она решительно взялась за дело и уже нарисовала натюрморт с нежными ивовыми пушками в глиняной вазе, вид из окна на Обводный канал, портрет Кондратьевны с трехцветной кошкой на руках, карандашную зарисовку уха Василия – потому что мальчик решительно не может посидеть на одном месте дольше трех минут – и много всякой чепухи вроде велосипедистов на аллее парка, облачного неба, сквозь которое пробивается тоненький луч солнца, и домашней традесканции.
А сейчас мадам Петухова рисует Оомию. Японка старательно сидит на кресле в полоборота к окну и улыбается. Василий заглядывает бабушке через плечо и прикидывает, как бы сделать так, чтобы готовый портрет она не унесла с собой, в свою маленькую студию, а оставила ему. Может, попросить на память? Засмеет. Скажет: какая тебе еще память, если я каждый божий день к тебе приезжаю? А портрет Василию жутко нравится. На нем Оомия похожа на принцессу из старинной сказки. Блики на ее волосах, которые мадам Петухова, по правде сказать, нарисовала не очень умело, придают изображенной сходство с персонажами какой-нибудь манги и подчеркивают экзотическую прелесть девочки. Нет, Василий должен заполучить этот портрет во что бы то ни стало!
– Ты так хорошо позируешь, просто молодец. И молодец, что помогаешь ему – кивок в сторону мальчика – по русскому.
– Мне не трудно, – отвечает Оомия, умудряясь при этом почти не шевелить губами.
– Знаешь что? – продолжает мадам Петухова, старательно орудуя кистью, – пожалуй, подарю я этот портрет тебе. Не бог весть что, но от чистого сердца.
Вот тебе и раз! Выпросить портрет у бабушки – одно дело, а просить его у японки – совсем другое. Василий горестно вздыхает. Солнце, между тем, скрывается за облаками и тени в комнате сгущаются. И особенно черной кажется тень, которую отбрасывает головка Оомии, чуть видная из-за спинки кресла.
20. Новый герой
А кстати, раз уж я припомнила в прошлой главе трехцветную кошку, не стоит ли рассказать об этой незаурядной представительнице млекопитающих?
Трехцветная кошка хорошо устроилась. С тех пор, как Кондратьевна спасла ее от живодеров, старушка почувствовала ответственность за хитрое создание, а хитрое создание стало испытывать к старушке покровительственно-доброжелательные эмоции. И как-то так сложилось, что теперь зимой трехцветная кошка поселялась жить у Кондратьевны, питалась на ее хлебах, грелась на ее коленках и играла ее клубками. Но едва лишь почуяв весну, неблагодарное животное сбегало навстречу романтическим приключениям.
За трехцветной кошкой по-прежнему ухаживало множество кавалеров. В прошлом году она отдала явное предпочтение черному пушистому коту, который кормился на заводе «Пищевик» и, уж не знаю, каким ветром его занесло в наш двор на Обводном канале – вероятно, кот любил длительные прогулки среди индустриальных пейзажей. Этому черному коту трехцветная кошка принесла два выводка таких же угольных котят, которые теперь уже разбежались по окрестным дворам и с мамой встречаются крайне редко.
Но в этом году кокетка решила вернуть свое расположение нашему старому знакомцу – матерому уличному коту, которого Кондратьевна прозвала Семеном. Они вместе лежали на люке центрального отопления, вместе грызли колбасные огрызки, которыми их кормила добрая старушка и вместе же пели лирические мартовские песни.
Но сейчас, в середине апреля, Семен снялся с якоря и отбыл в неизвестном направлении, а трехцветная кошка ожидала нового потомства. Среди четырех или пяти котят, угнездившихся в ее животе, один вызывал особое беспокойство. Он не лежал тихо, изредка подрагивая лапкой, как прочие детки, а ворочался во все стороны и причинял трехцветной кошке много беспокойства.
Нашей героине даже пришлось следить за своим питанием, чего прежде она никогда не делала, с жадностью поедая все, что предлагали сердобольные жители двора. Теперь же стало совершенно ясно, что непоседливый котенок становился особенно нервным после сухого корма и довольно успокаивался, когда трехцветной кошке после утомительной охоты удавалось поймать и съесть мышь или воробья.
«Ишь, какой привереда!» – с нежностью думала будущая мать и представляла себе, как этот бойкий котенок будет рваться к ее соскам, отталкивая сестер и братьев и тычась в живот слепой мордочкой, и сердце ее наполнялось гордостью и радостью, как и сердце любой будущей матери.
А добрая Кондратьевна, каждый день выходя во двор с гостинцем для своей любимицы, тоже ожидала от не рожденного еще котенка каких-то необыкновенных подвигов.
«Ты только родись, Семен Семеныч!» – шептала она, поглаживая раздувшийся живот трехцветной кошки. – «А там ты им покажешь, что ты за зверь!»
21. Хэм спешит домой
Погода стояла великолепная! Отличнейшая стояла погода!
Правда, люди так не думали. Люди вжимались в пуховики, ворчали, поскальзываясь, и ругались на неожиданное (хотя и своевременно предсказанное Гидрометеоцентром) похолодание. Но Хэм ведь не был человеком. Где-то в глубине души у него затаились песьи повадки и старая мечта быть могучей алеутской лайкой. Поэтому царившая на улице пурга посреди апреля радовала сердце оборотня. Он даже решил идти сегодня домой с работы пешком. Тем более смена закончилась в семь вечера, и было еще светло.
Хэм шагал по проспекту, подставляя лицо мягким приятным снежинкам, и чуть не урчал от удовольствия. А между тем, в городе было неспокойно. Вот на углу двое мужиков толкают аварийную машину в переулок, подальше от шумного движения.
– Помочь не надо?
– Давай, вставай сюда!
Короткие рукопожатия, и вот уже Хэм налегает плечом – вернее, делает вид, что налегает: ему, с его нечеловеческой силой ничего не стоит одному прокатить даже и грузовик даже и с пяток километров, но он нарочито шумно дышит и упирается ногами в скользкий снег. Вот и дотолкали.
– Ну, ты силен парень!
Выпить пива? Нет, спасибо. Снова два рукопожатия, и Хэм спешит домой.
Странный скрип слева заставляет оборотня повернуть голову. Вот это да! Расшатанная ветром, прямо на стоящую у перехода старушку валится рекламная стойка. Два прыжка, подставленная рука – и вот уже стойка лежит на земле, а ничего не понявшая старушка ругается на Хэма, что он разбегался тут и едва не сбил ее с ног. Ну, извините, бабушка, я тороплюсь. Меня дома ждет красавица-невеста. Старушка понимающе улыбается, а оборотень продолжает свой путь.
Вот и знакомый поворот, вот в трехстах метрах родной дом – невысокий желтый дом, обвитый трубами газоснабжения.
– Помогите! Помогите!
Что это? Набирая скорость, к переходу катится детская коляска, а за ней бежит женщина с отчаянным лицом.
Не просто остановить разогнавшуюся коляску так, чтобы она не опрокинулась, и ребенок не вывалился. Но Хэму сегодня все удается. Мать добегает к коляске и, не в силах ничего сказать, стоит рядом, шумно переводя дыхание. Младенец, до сих пор лежавший тихо, разражается громким ревом. Женщина склоняется над ребенком, позабыв поблагодарить спасителя. Но тот уже далеко – еще несколько шагов, и он скроется в старом обшарпанном подъезде. Третий этаж, знакомая дверь, на пороге Даша:
– Что-то ты сегодня рано.
– Неблагоприятные погодные условия, – говорит Хэм, стаскивая и выбивая от снега куртку. – Смену рано закрыли.
– Ну, где был, что видел? – интересуется девушка.
– Да так, ничего особенного. А что у нас сегодня на ужин?
22. Книга
Арутюн Акопович Никогошьянц, известный узкому кругу друзей и родственников, как Ворон, был человеком мудрым и неспешным. И, как всякий неспешный человек, любил все хорошо обдумать и обмозговать со всех сторон. Ничего не делал второпях и подо все имел свое обоснование.
Семнадцатого апреля семнадцатого же года века двадцать первого, в понедельник, как и в каждый понедельник, его антикварная лавка не работала. Но сам он был на месте уже с восьми утра. Перетирал серебро и фарфор, сметал метелкой едва заметную пыль с каминных часов и бронзовых фигур, натирал воском старинные кресла и бюро. И напевал тихим голосом старинную армянскую мелодию «Журавль». За окном крупными хлопьями валил снег. Странное семнадцатое апреля выдалось в этом году. Едва набухли и приготовились раскрыться почки, едва вылезли из-под земли вездесущие мать-и-мачехи, едва птицы заголосили во всю мощь, как на город обрушилось похолодание. Только ранний свет, уже в полшестого утра озарявший дома и набережные, напоминал, что на улице все-таки стоит весна.
Ворон вышел на улицу, обмел порожек и зачем-то сосчитал окна на фасаде здания. Дом был длинным, и в ряд получалось целых тринадцать окошек. Помножить на четыре этажа – получается пятьдесят два. Эх, когда-то и ему было пятьдесят два года. Славное было время! Ворон вздохнул, вернулся в лавку, снял овчинную длинную безрукавку и принялся перебирать антикварные книги, стоявшие на полке за прилавком. Книги эти были не такими уж ценными – сборник стихов Гейне со слащавыми иллюстрациями конца девятнадцатого века, несколько французских романов в корявом переводе каких-то голодных студентов, да пара учебников восемнадцатого века – математика и биология.
Арутюн Акопович в задумчивости открыл один из них. Со вкладной гравюры, защищенной тончайшей папиросной бумагой, на него смотрел красивый журавль. Ворон задумался.
Да, он был человеком мудрым и неспешным. Но именно такие люди иногда совершают поступки необдуманные и стремительные. Потом сами не могут объяснить, отчего. «Черт его знает, – говорят они, смущенно пожимая плечами и растерянно помаргивая, – словно бес какой в меня вселился. Сам не пойму, как вышло».
Вот и Ворон сам не понял, как так вышло, что он, вперившись взглядом в нарисованного журавля, уже бормотал скороговоркой таинственные стихи.
Черны, как уголья, глаза,
Блестят, как зеркало, власа.
Себя являет при свечах,
Егда двенадцать на часах.
Подобная луне точь-в-точь
Империи заморской дочь.
Быстро закончил он и вздохнул. Ничего не произошло. Снег за окном тем временем кончился, и яркое солнце осветило лавку. Быстрые светлые тени заскользили по полу и стенам. Только в углу за прилавком было темно. Ворон вздохнул и еще раз взглянул на гравюру. Журавля на месте не было. Лишь слегка колыхалась трава. Старик услышал шум крыльев за спиной и удивленно оглянулся – огромная птица ринулась прямо на него, застилая свет широко распахнутыми крыльями. На минуту ему показалось, что острые перья касаются лица. На глаза набежали слезы, опустилась тьма, и все исчезло в густой тени.
23. Кондратьевна вяжет носок
В старости время летит быстро, а утро плетется медленно. Кондратьевна встала рано – почти в пять, едва лучи утреннего солнца (окна в ее квартирке выходят на восток) пробили неплотные занавески и коснулись век старухи. Телевизор включать не стала – глуховата уже, звук включает громко, а соседей будить нечего, с соседями надо жить в дружбе. Пошла в кухоньку, сварила себе гречневой каши на воде, залила гречку подогретым молоком и выхлебала с удовольствием.
Потом почитала, но книжка не шла, хотя книжка была интересная – про голубоглазую красавицу Беренику, подругу храброго пирата Алонзо, и их приключения в Карибском море. Взялась за недовязанный носок. Спицы мелькают споро, клубок на глазах уменьшается, а Кондратьевна думает о жизни.
Думает, что жизни той осталось всего ничего. Думает, что надо мастерство кому-то передавать. Потому как волшебнице никак нельзя свой дар в могилу унести – от того нарушается баланс добра и зла на земле и беды случаются страшные. А кому? Как назло родственников женского пола у Кондратьевны только невестка, жена брата, так стара она уже, да и характер неподходящий. Можно, конечно, Даше – да в Даше своя сила растет, добавь туда Кондратьевна из другого источника – бог его знает, какая смесь получится. Может, и взрывоопасная.
Кондратьевна вздыхает. Есть у нее задумка, конечно, как не быть – без смекалки да без хитрости в наше время не проживешь, будь ты хоть сто раз добрая волшебница.
Между тем за входной дверью слышен какой-то шум. Старуха осторожно выглядывает в глазок, но ничего не видит. Прислушивается – вроде, кошка мяукает. Приоткрывает дверь на цепочке и в образовавшийся проем просачивается трехцветная кошка.
Вид у кошки усталый и встревоженный.
– Да никак, уж собралась рожать! – плещет руками Кондратьевна и тащит из кухни старую корзину, выстланную старым же передником.
Все. Утро, которое плелось медленно, кончилось. Собственно говоря, дня Кондратьевна даже не заметила. Очнулась от хлопот часов в пять вечера, когда на солнечном пятачке в корзине лежало четыре мокрых слепых котят, а замученная мать как раз заканчивала вылизывать пятого. Этот пятый, как и все остальные, неопределенно-серого цвета все-таки отличался от всех остальных. Нос у него был ярко-коричневый, а на каждой лапке красовался аккуратный белый носочек.
«Ишь ты, – подумала Кондратьевна, – какой фон-барон ты у нас вышел, Семен Семеныч!» – и пошла на кухню разогревать вчерашний суп. Не то на поздний обед, не то на ранний ужин.
24. Первые шаги
Вот что так шуметь! Зачем немедленно звонить папе, мадам Петуховой, пышнотелой подруге по работе Карине и еще массе народу? А всем им зачем в тот же вечер «заскакивать на минуточку» с пакетом гостинцев под мышкой и, всплескивая руками, глазеть на Нютку?
Ну, сделал ребенок свои первые шаги, и что тут такого? Миллионы детей ходят себе, как ни в чем не бывало. И он сам, Василий, тоже ходит. Так никто же за это не называет его умницей, лапушкой и замечательной девочкой! Еще и спрашивают: «А Хэму с Дашей ты уже рассказал?». Тоже мне новости!
Василий Петухов был преисполнен праведного гнева. Не то, чтобы он ревновал маму к сестре или завидовал Нютке. Наоборот, Нютку он любил и день ото дня привязывался к ней все сильней. И ему тоже было забавно наблюдать, как она ковыляет на толстых ножках, покачиваясь и раскрыв от напряжения рот. Нютка милая, это точно. Но – думал про себя Василий – небось, когда я сделал первые шаги, никто из этого невероятного события не делал. И так мальчик сидел, надувшись, в своей комнате, делая вид, что учит неправильные глаголы и грустил. Но тут пришла мадам Петухова, и все изменилось.
Во-первых, мадам Петухова пришла не просто так, а разодетая. Она, оказывается, днем ездила со своим отставным моряком на пробный запуск фонтанов в Петергоф. Поэтому вместо обычной темной юбки, кофты и пальто в обтяжку, на ней были какие-то необыкновенно широкие брюки в голубую и серую клетку, водолазка и толстое пончо с индейскими узорами, которое ей привез из Мексики сын, отец Василия, и которое прежде просто лежало сложенным в шкафу. Во всей этой необычной одежде бабушка выглядела немножко чужой и какой-то иностранной. «Ах! Снег блестит, и фонтаны рассыпаются точно бриллианты!» – восхищалась она необычным зрелищем.
Во-вторых, мадам Петухова принесла готовый портрет Оомии. «Вот, – сказала она, передавая Василию тщательно упакованный багет, – отдашь ей. И смотри, не просто сунь в руки, а скажи что-нибудь приятное. Например, что она очень хорошо позировала. А она действительно хорошо позировала». Василий взял пакет и собрался было спрятаться обратно в свою комнату, как вдруг бабушка сказала:
– А что я еще принесла! – И достала старую кассету. – Это твои первые шаги, Василий. Папа их тогда снял, а я кассету приберегла. – И тут же все засуетились, полезли с табуретки на антресоли за старым видаком, долго искали, как его подключить, нашли, наконец, нужный разъем в маленьком телевизоре на кухне, подключили, вставили кассету и сели смотреть. На экране пухлощекий малыш в памперсе, малыш с такими знакомыми чертами лица, ковылял по ковру, покачиваясь и открыв от напряжения рот. «Это я!» – подумал Василий. «А это мама!» – подумал он, увидев необыкновенно молодую маму. Он оглянулся, ища глазами маму сегодняшнюю, и увидел, что она утирает слезы. А рядом сидел папа и около носа его тоже что-то предательски поблескивало.
«Все-таки хорошо жить!» – подумал Василий. И, похоже, что вся семья синхронно подумала тоже самое. Ну, может быть, кроме Нютки. Нютка сидела на ковре, разглядывала свои большие пальцы и рассуждала, как скоро она сможет выковырять из кассеты эту интересную блестящую пленочку, и хорошо ли жуется эта пленочка, и какой она длины, и еще много подобных шкодных мыслей бродило в голове у Нютки, сделавшей сегодня свои первые шаги.
Примерно в это же время необыкновенно красивая женщина с рыжими волосами, в которой Хэм с трудом признал бы Лейлу, лежала на утреннем пляже на одном из отдаленных островов, потягивала из бокала что-то пенное, пахнувшее экзотическими фруктами, и совсем не думала ни о далеком холодном Питере, ни о таинственном заклинании «Бесчастная участь нечисти».
25. О, женщины!
О, женщины! Ах, женщины! Эх, женщины!
Ох, женщины, ну почему вы так редко прямо говорите мужчинам, чего от них хотите и прибегаете к малопонятным намекам и иносказаниям? Вот Даша – прекрасная умная девушка, но и она почему-то стесняется рассказать Хэму, что знает про его опасные поиски. То ей кажется, что он обидится на то, что она лезет в его дела. То она опасается разрушить их дружбу с Василием. То в ее голове начинают бродить какие-то уж совсем дикие мысли о том, что вот он схватит куртку и уйдет навсегда.
Но жить так невыносимо! И вот с утра в воскресенье, когда у Хэма и у Даши совпали выходные, она потихоньку начинает приближаться – как ей кажется – к неприятной теме. Сначала она заговаривает о мистическом Петербурге. О том, как много тайн скрыто в этом городе, сколько в нем жило всяческих масонов и иллюминатов и какое таинственное наследие они оставили. Потом, неизвестно почему, ее бросает в сторону Распутина. Рассказав все, что знает о крепком старце, Даша вспоминает про странную архитектуру некоторых зданий и – может быть, потому, что это близко к ее профессии – принимается рассуждать про особую розу ветров и характер гранитных отложений, которые слабым радиоактивным излучением могли повлиять на психопатические способности жителей города на Неве. Хэм кивает, поддакивает и сомневается: то ли любимая намекает на то, что хочет поехать на занимательную экскурсию «Тайны Петербурга», то ли на увеселительный пикник на Финском заливе, то ли на фотографию в старинном стиле, которую делает один модный художник на Кирочной.
И вот только отчаявшаяся Даша решает кинуться в омут головой и заявляет:
– А вот жил тут еще известный мистик Джеймс Брюс, так вот он, говорят – как раздается звонок в дверь.