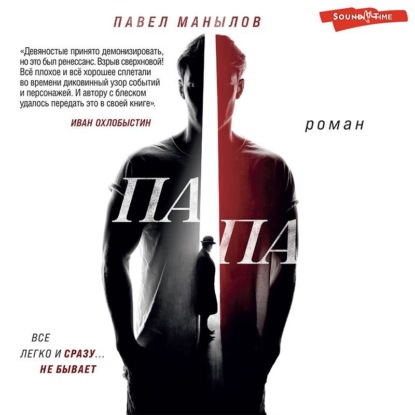Полная версия
Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
– Вот и славно, что навестили! Мы еще вчера вас, признаться, поджидали. Садитесь, дорогой. – Он указал ему на свободное кресло и, обращаясь к гостям, добавил: – Вот вы, господа, на поезде ко мне прибыли, а изволите ли знать, кто рельсы под вами прокладывал и сию дорогу железную строил? Батюшка Саввы Ивановича, моего теперешнего доброго соседа. Желаю здравствовать им двоим и продолжать начатое с таким успехом великое дело.
Все дружно подняли наполненные бокалы, а у кого в бокале было пусто, поспешно налили себе до краев вина.
– За вас!
– За ваши благие начинания!
– Успеха в делах!
Мамонтов с благодарностью поклонился, тоже слегка пригубил, но не мог не внести печальную поправку в столь лестные для него пожелания:
– Батюшка Иван Федорович, к скорби моей, недавно скончался.
Все задвигали креслами, выражая готовность встать, но Савва Иванович убедительным жестом усадил всех обратно.
– Ах, что вы говорите! Какая утрата для всех, кто его знал и о нем слышал! Царство ему небесное! – Николай Петрович хотел перекреститься, но по рассеянности своей не донес правую руку до левого плеча, вздохнул и посетовал: – Всем нам когда-нибудь умирать – кому раньше, кому позже. Все на небесах будем.
Этюд девятый
Бесы спасутся
После этих слов балагурить и налегать на разносолы было уже несколько неуместно. Гости смутились, призадумались, вытерли губы, и разговор приобрел иное направление – отвлеченное и философическое, чему они сами немало удивились.
– А что там, на небесах, хотел бы я знать? – спросил военный в расстегнутом кителе и турецкой феске набекрень, которую он надел с явной целью всех позабавить и забыл снять, хотя на нее уже никто не обращал внимания.
– Для кого-то райские кущи с гуриями, а для иных ад кромешный, – подсказали ему то, что еще немного отдавало недавними смешками и балагурством.
– А когда вы в Крымскую кампанию под пулями, не сгибаясь, стояли, то об этом разве не думали? – спросил Николай Петрович, пресекая насмешки напоминанием о ратных доблестях военного и желая дать ему повод самому ответить на свой вопрос.
– О небесах-то? Не думал. Не до того было под пулями-то…
Военный почувствовал себя неловко оттого, что поставил себя в неравное положение со штатскими, вообще не нюхавшими пороха и потому не способными оценить всю степень грозившей ему опасности. – Это я так, к слову. Извините…
Но штатские есть штатские: его извинения позволили всем почувствовать свое превосходство.
– Раз вам было не до того, то вот мы и объясняем: для одних рай, а для других – кромешный ад.
В разговор вмешался помещик, заслуживший репутацию здешнего философа и стремившийся ее поддерживать круглыми очками и умным видом:
– Но гурии, положим, для мусульман, а вечные муки пошла мода теперь отрицать. Некоторые считают, что и бесы спасутся. Апокатастасис, господа.
Все возмущенно зашумели.
– Ересь.
– Церковь считает это ересью.
– Позвольте, какая же ересь, если один из столпов – сам Григорий Нисский признавал?..
– Ну, это его личное мнение. Церковь не обязана, знаете ли, считаться…
– А вы, Савва Иванович… вы, человек дела, как полагаете? – Николай Петрович не столько интересовался его мнением, сколько заботился о том, чтобы голос дорогого гостя не потерялся среди прочих голосов.
– Полагаю, что каждому по заслугам. Кто ради чего старался – отечеству служил или мошну набивал… – Савва Иванович не был готов к такому разговору и опасался, что, как всегда в подобных случаях, самые искренние его высказывания будут встречены с наибольшим непониманием, враждебностью и неприязнью.
Так оно и оказалось.
– Вам легко говорить, голубчик, с вашими-то миллионами…
– Ну, о мошне-то каждому не грех позаботиться. Особенно если детей целый выводок…
– Выводок, батенька, у гусей…
– Не только, дорогой мой, не только…
– Имея такой капитал, можно и на нужды отечества отстегнуть маленько…
– Господа, господа, прошу вас не забываться… – Николай Петрович старался следить за тем, чтобы в его доме избегали таких непристойных слов, как миллионы и капитал, и чтобы сотрапезниками не было сказано ничего неприятного для гостя.
– Не забываться? – с возмущением отозвался помещик, надоевший присутствующим тем, что имел привычку вечно приставать ко всем со своими бедами и несчастьями. – Да уж как тут забудешься, если семью разоряют и имение – родное гнездо – с молотка пускают за долги.
– Кто же это вас разорил?
– Головин!
– Это какой же Головин?
– А тот самый…
– Тот, что лес по дешевке скупает?
– Именно он. Он! Ваш любезный Головин! – горячился помещик. Он испытывал чувство враждебности к Мамонтову, поскольку Савву Ивановича всячески пытались уберечь от обид, а его самого при этом несправедливо обижали. – Если бесы спасутся, то и он спасется? Сколько кровушки из нас выпил! Кровосос!
– Ну хватит, хватит о Головине! Он всем тут уже надоел. – Князь имел основания опасаться, что имя Головина неким косвенным образом свяжут с его собственным именем.
Так оно и произошло: Николаю Петровичу тотчас припомнили его недавнюю неудачу:
– Надоел – не надоел. А вы ведь тоже, князь, от него пострадали. Дубовую рощу-то не удалось спасти – ту самую, где ваш сын так любил уединяться.
– Ну, не удалось… Признаю. Что ж теперь… – Хозяин дома вздохнул и недовольно нахмурился.
– Спасена роща, – произнес Мамонтов, не называя себя спасителем, чтобы сказанное не восприняли как упоминание о его заслугах. – Не извольте беспокоиться. С Головиным все улажено.
– Ах, вот как? – Князь, за неимением способа иначе выразить свою благодарность, растроганно пожал руку гостю, и в его глазах блеснули счастливые слезы. – Господа, я вас ненадолго покину. Я должен обрадовать этой новостью моего сына. А то Сергей очень страдал, да и Евгений тоже…
Этюд десятый
И вочеловечшася
Князь вернулся не то чтобы вскоре после своего ухода, но так, чтобы не возникала видимость, будто он поступил невежливо, надолго покинув гостей. Лицо его сияло, и ему хотелось сразу же сообщить всем о том, что было этому причиной.
– Если бы вы видели, господа, как обрадовался Сергей, услышав о том, что его любимая роща спасена. Он был просто счастлив. Счастлив, как ребенок.
– Так он и есть ребенок, – возразил кто-то, но князь сделал рукою жест, словно бы понижая на полтона звучащую мелодию.
– Несмотря на возраст – нет… По развитию, по уму, господа, не ребенок. Тем не менее порывисто бросился меня целовать и благодарить, и мне стоило немалого труда объяснить ему, что спасение рощи – не моя заслуга. – Князь намеренно не смотрел в сторону Мамонтова, тем самым усиливая впечатление, что он обращается именно к нему и у него есть нечто большее, нежели обычный взгляд, чтобы выразить всю свою признательность.
Савва Иванович в свою очередь улыбнулся, не глядя на князя и относя свою улыбку именно к нему.
– Браво, браво! – гости зааплодировали, как свидетели столь искренних взаимных чувств, не нуждающихся во взглядах.
– И вы знаете, что он читал, когда я к нему вошел? Я хорошенько не разглядел названия на обложке, но по виду определил, что это творения отцов церкви и, кажется даже, тот самый Григорий Нисский, о котором здесь упоминали. В его-то годы – такие книги. Ведь Сергею еще лишь восемь лет…
– Действительно, развит явно не по годам!
– Вундеркинд!
– Ну, вундеркинды… С годами это проходит. А я надеюсь, что Сергей разовьется и, возможно, станет философом. Конечно, ручаться нельзя, но нельзя и отрицать, что у него блестящие задатки. У нас в роду еще такого не было. Трубецкие, как вам известно, проявили себя на разных поприщах, но философа среди них не встречалось.
– Дай-то Бог!
– Не знаю, не знаю. Хватит нам Чаадаева.
– В Европе таким, как Чаадаев, гордились бы…
– Дай Бог! – дружно поддержали гости. – Правда, есть опасность увлечься ныне столь модным позитивизмом, удариться в базаровщину.
– Будем надеяться, что этого не случится. – Тут только князь посмотрел на Мамонтова, словно он, спасший от вырубки рощу, мог поручиться, что и другие несчастья обойдут семью Трубецких стороной. – Во всяком случае, сейчас Сергей пытается размышлять о Троице и высказывает, на мой взгляд, весьма глубокие мысли.
– Какие же? – оживились гости, каждый из которых в свое время пытался размышлять о том же, но с разным успехом, а иные так и вовсе безуспешно.
– «Сказал Господь Господу моему: “Сиди одесную меня”. В этой строке псалма, на его взгляд, уже угадывается Троица, поскольку псалмопевец Давид называет Господом своего сына – Мессию.
– Какое тонкое чутье у вашего Сергея!
– Или, к примеру, он ссылается на евангельский эпизод, где ученики просят Иисуса: «Покажи нам Отца», Он же отвечает: «Кто видел Меня, тот видел и Отца». Сергей убежден, что здесь тоже присутствует Троица, как и в одном-единственном слове из Символа Веры: «И вочеловечшася».
– Поразительно!
– Для мальчика – необыкновенно.
– В детстве, господа, нас иногда посещают мысли, на какие зрелый ум уже не способен. Я знаю по себе. В детстве мне казалось, что я помню, кем я был до рождения.
– В детстве каждый из нас – Ориген Александрийский.
– Поэтому детьми мы инстинктивно боимся темноты, как боялись ее первобытные люди.
Князь подхватил последнюю реплику, словно она напомнила ему о чем-то способном заинтересовать всех.
– Между прочим, Сергей Тимофеевич Аксаков, который до старости оставался ребенком, имел обыкновение зимой вставать очень рано и ждать, когда развиднеется в окнах. А до этого не принимался ни за какие дела. Об этом он сам мне рассказывал.
Мамонтов был рад услышать что-то об Аксаковых и надеялся, что разговор на этом не прервется, но кто-то из гостей сказал:
– Однако мы засиделись. Пожалуй, пора и честь знать.
– Дома-то нас заждались…
– Наверное, думают, что мы теперь поселились у князя…
Гости стали подниматься с кресел.
– Господа, куда вы торопитесь? Хотя бы не все сразу… – Князь пытался их остановить, но движение было всеобщим, и он лишь едва успевал пожимать на прощание руки и заключать в объятья самых дорогих гостей, в том числе и Савву Ивановича, коего он спросил без всякой надежды: – Может, вы еще немного побудете?
Мамонтову хотелось остаться, но он постеснялся в этом признаться и невольно подчинился общему движению, хотя и осознавал, что дома наверняка будет об этом жалеть.
– Благодарю. В следующий раз.
– Я слышал, вы поете… конечно, бывали в Италии. Ах, Италия! – воскликнул Николай Петрович, обращаясь уже не столько к Мамонтову, сколько к следующему гостю, с которым предстояло проститься.
Этюд одиннадцатый
Избранники Леля
О том, как его приняли у Трубецких, Савва Иванович сначала, конечно же, рассказал жене. Вернее, начал было рассказывать, чему я участливо внимал, стоя в дверях и дожидаясь возможности о чем-то доложить или спросить – сейчас уж точно не помню. Поэтому от меня не укрылось, что начал он свой рассказ (как это случается между супругами, и не только молодыми) с намерением показать себя в ее глазах молодцом, заручиться поддержкой, одобрением и даже больше того – заставить польстить его самолюбию, похвалить за находчивость и светскую ловкость. Но Елизавета Григорьевна была чем-то занята, что-то ее отвлекало, и она слушала мужа не слишком внимательно. Рассеянно кивала, невпопад переспрашивала и в конце концов, извинившись, куда-то спешно ушла по хозяйственным надобностям.
Савва Иванович до конца так и не выговорился. Чтобы у него не оставалось досадного чувства неудовлетворения, которое могло обернуться обидой на жену, он выбрал в слушатели меня. Выбрал, как бы желая кому-то показать: вот вы не желаете меня даже дослушать – что ж, у меня найдется слушатель. Савва Иванович продолжил свой рассказ и – словно бы в назидание (и в отместку) покинувшей его жене – поведал мне обо всем так обстоятельно и с такими подробностями, что мне стало казаться, будто я присутствовал на именинах князя среди прочих гостей.
Я, конечно, был благодарен, постарался не остаться в долгу. Приличия ради посетовав на свою неосведомленность в богословских вопросах, я тем не менее с одобрением отозвался о том, что разговор у князя вращался вокруг православия, нераздельной и неслиянной Троицы, и даже совершал рискованные виражи, затрагивая такие темы, как апокатастасис, то есть слияние всего сущего с Богом, и предсуществование душ.
Затрагивал и таким образом – позволил я себе оптимистичный вывод – мог свидетельствовать о благочестивом настрое всех собравшихся.
На это Мамонтов мне тотчас возразил, и довольно резко, с особым нетерпением, как впоследствии на моей памяти возражал душевнобольной Врубель всем несогласным с его мнением (кстати, гениальным и жутковатым портретом Мамонтова Врубель во многом выразил самого себя):
– Не всех, не всех, Михаил Иванович! Не обобщайте!
– Кто же исключение?
– А вот я-то и исключение! Да-с! – Мамонтов сопроводил свои слова пародийным и язвительным реверансом. – Я! Я, ваш покорный слуга!
– Разве вы не православный?
– Православный. – Он всем своим видом показывал, что за этим успокаивающим меня признанием последует совсем другое.
– Так что же?.. Или я чего-то не понимаю?
– Хотите начистоту? – Мамонтов дерзко посмотрел мне в глаза.
– Право, не знаю, хочу ли. Но уж говорите, раз начали. – Характер нашего разговора позволял мне взять этот не совсем почтительный тон.
– Ну, извольте. Начистоту так начистоту. Как вам известно, я был воспитан в купеческой, православной семье. Я исправно посещаю храм, соблюдаю посты по мере возможности, кладу поклоны перед иконами, выполняю все полагающиеся обряды, а главное – жертвую на нужды церкви. О, как я охотно жертвую, и немалые суммы, словно желаю откупиться, за что-то заранее испросить прощение. Прощение или, может, прещение? Испросить прещение на свою голову! Ха-ха! А, Михаил Иванович?! Как вам такая подтасовка? При этом замечу, что жена у меня глубоко верующая, православная до мозга костей, по всему своему поведению истинная христианка. Иконы на ночь завешивает, когда в постель со мной ложится. Уж вы простите за такую подробность, но что-то я разошелся. Николин день прошел – сегодня все можно. Казалось бы, что и мне мешает так же истово верить? – Савва Иванович окинул меня оценивающим взглядом, прежде чем подвергнуть жестокому испытанию. – Ну, держитесь, Михаил Иванович. Сейчас я вам открою тайну мадридского двора – самое сокровенное, что во мне есть. Нет, не пугайтесь: я не заключил сделку с дьяволом, как один итальянский скрипач, хотя так же страстно люблю искусство. Но по натуре, по тончайшим фибрам души я – язычник. Самый настоящий язычник! Идолопоклонник! Однако тсс: только б не услышала жена. – Он приложил палец к губам и понизил голос. – Будь я греком, я бы античным богам служил, чтил бы Зевса, поклонялся Венере. Но я русский, и поэтому мне ближе всего наш славянский… нет, не Ярила, не Сварог какой-нибудь, а наш Лель. Он своей дудочкой, своей свирелью заворожил меня так, что я готов следовать за ним повсюду, поскольку в этом рабском служении ему – для меня высшая свобода. Я не поклоны класть, не посты соблюдать хочу, а наслаждаться искусством, художествами всякими, той же дудочкой, черт возьми. Вот и черта помянул ненароком, прости господи. – Он перекрестился. – Но самое главное – черт это или не черт – подавай мне любви. Я в юности был ходок. Ходок, Михаил Иванович, и по самым скверным борделям. Плоть моя бушевала. Для того и женился, чтобы остыть и остепениться. Но Лель со своей проклятой дудкой томит меня, чарует, не дает мне покоя. До поры я себя сдерживаю, но что будет дальше, не знаю. И за себя не ручаюсь. Позовет меня Лель – брошу все и уйду волочиться за какой-нибудь юбкой. Так-то, Михаил Иванович. Вот я вам и открылся. Что скажете?
Я смущенно промолчал – предпочел не высказываться. Савва Иванович же еще долго рассуждал, расхаживая по комнате, о своем Леле, покровителе искусств и любви, о причудливой смеси язычества и христианства в каждой русской душе, о таких, как он, избранниках славянской музы, а затем снова спросил:
– Ну, что же вы на все это скажете?
– А одно скажу. Храни вас Бог, – только и вымолвил я, желая поскорее закончить этот странный, неприятный и мучительный для меня разговор.
– Бог-то Бог, но какой? Впрочем, лишь бы не наваждение бесовское. – Он снова перекрестился, но, осеняя себя крестом в третий раз, не довел руки до правого плеча – задержал руку и повторил: – Лишь бы не наваждение, хотя не зря сказано, что и бесы спасутся. Ну и мы тогда вместе с бесами. А, Михаил Иванович?
Я, потупившись, промолчал. А Савва Иванович как-то особенно ясно и просветленно взглянул на меня исподлобья и произнес:
– Простите меня за дурацкую откровенность. И забудьте все, что я тут наговорил.
И, выйдя за дверь, стал искать глазами жену; не найдя же ее поблизости, нетерпеливо позвал (прорычал):
– Лиза!
Этюд двенадцатый
Два зверя
Впоследствии – а мы прожили вместе долгий срок, до той самой поры, когда из-за проказника Леля семья Мамонтова разделилась и Абрамцево осталось за Елизаветой Григорьевной, Савва Иванович же поселился в Москве… – так вот, впоследствии он не раз снаряжал меня в Ахтырку к Трубецким – с гостинцами и подарками. Одаривал он их преимущественно книгами и нотами, что у Трубецких считалось знаком хорошего тона, поэтому такие подарки охотно принимали.
После того как Трубецкие Ахтырку продали, я бывал у них в Москве. Иногда же Савва Иванович посылал меня в Калугу – напомнить о себе и о прежней дружбе, пригласить на домашний спектакль и прочее, прочее. Посылал с корзинками персиков или клубники из моей (нашей) оранжереи. Разумеется, меня сразу назад не отпускали, усаживали за столик под липами, где имели обыкновение теплыми летними вечерами пить чай, отгоняя назойливых комаров дымом из самоварной трубы (и привлекая не менее назойливых ос вареньем в хрустальной вазочке).
Поэтому я и имел возможность наблюдать за жизнью их большого семейства, разного рода событиями, переменами, взрослением сыновей Сергея и Евгения. Я был свидетелем того, как мальчиков отдали в гимназию, они покинули старое гнездо и в Ахтырке стали бывать лишь на каникулах, да и то не всегда. Затем их и вовсе увезли в Калугу, куда по службе перевели Николая Петровича.
Ахтырку же, как мною сказано, в тысяча восемьсот семьдесят девятом году продали…
Братья были не единственными детьми в большой семье и даже более того – отнюдь не единственными. Видя постоянное мелькание передо мной и детворы, и взрослых барышень с молодыми людьми, я пытался подсчитать, загибая пальцы, – сколько же их, и всякий раз сбивался со счета, пока наконец не взмолился: «Николай Петрович, батюшка, простите великодушно, но сколько же у вас детей?!» И он со снисходительной усмешкой, не лишенной самодовольства счастливого отца, назвал цифру: «Двенадцать, мой дорогой. От первого и от второго брака – ровно двенадцать».
Разные они были, эти дети, барышни и молодые люди, – смешливые, шумливые, проказливые или, наоборот, серьезные. Они кричали, галдели, тихонько вышивали или сидели с книгой, но Сергей был среди них особенный. Он и с книгой сидел как-то по-своему, в общих играх почти не участвовал и дружил только с младшим братом Евгением. Да и мало сказать – дружил, поскольку я наблюдал меж братьями страстную влюбленность друг в друга при несомненном, признаваемом старшинстве Сергея, который был для Евгения непререкаемым авторитетом.
Вместе со всеми они лишь ездили в монастыри, находившиеся неподалеку от Ахтырки, – Лавру и Хотьковскую обитель, и так же, как у всех детей, у них висел над кроватью образ святого Сергия.
На моих глазах и Евгений подрастал, мужал, вытягивался, из подростка превращался в юношу, но все так же любил уединение и выходил к чаю, неохотно оставляя книги, – лишь на пятый раз после того, как его позвали. В семье стало привычным веселым обычаем, почти ритуалом: сначала позвать его матери, затем – отцу, а затем дружно, хором, со смехом – всем остальным. Я тоже присоединялся к этому хору и смеялся вместе со всеми, поскольку стал у Трубецких своим человеком – посланником Гермесом, как они меня нарекли.
Так уж у них было заведено: чуть что – вспоминать античную древность и всем примеривать греческие маски. Что ж, Гермес так Гермес: я не возражал, лишь бы угодить их молодости, веселости и беспечному эгоизму. Не возражал, хотя про себя и подумывал, что Гермес-то – помимо прочих его достоинств – проводник душ в подземный Аид, и мне менее всего хотелось быть таким Гермесом…
Однако случалось, что смех надолго умолкал и всеобщая веселость сменялась совсем другим настроением. Помню, как все со скорбными лицами повторяли, что у Сергея и его брата Евгения – опасный кризис. Они увлеклись идеями материалистов, позитивистов и безбожников: Дарвина, Герберта Спенсера, Томаса Бокля, Людвига Бюхнера и их русских продолжателей – Белинского, Добролюбова, Писарева. «А это бог знает к чему приведет!» – ужасались все, не зная, как помочь, уберечь, спасти, вразумить, наставить на путь истинный.
Однако спасать и не пришлось, и излечили братьев не вразумления и наставления близких, а – музыка. Они услышали в Москве Девятую симфонию Бетховена под управлением Антона Рубинштейна, и ее призыв «К радости!» не просто стал для них откровением, но открыл им Бога. Где? В келье? В монастыре? Нет, в концертном зале, и не под чтение Псалтыри, а под взлеты дирижерской палочки, открыл Бога Живаго, Которому, по словам Евгения, «до дна все светло». Тогда же родилась общая для обоих мысль о том, что сердце человеческое есть око, которым познается откровение Духа.
Что ж, и так бывает, и остается только дивиться несказанной тайне Господней. И я старик уж, голову инеем выбелило, а все дивлюсь, обмираю от близости тайны, стоит лишь задуматься, как Господь нас ведет, и каждого своим Путем (Евгений Николаевич Трубецкой в будущем так и назовет свое издательство – «Путь»). Словом, кому дудочка Леля, кому оркестр и хор Бетховена, и пойди попробуй разгадать, где язычество, где христианство (в Бетховене, по словам знающих людей, тоже было всего намешано), а где истинно прекрасная музыка…
Также помню, как за чаем, выбирая из плетеной корзинки клубнику покраснее, все со значительными лицами шептались, что Евгений выпускает свою первую книгу, написанную на основе диссертации (что-то о рабстве в Древней Греции). Книга уже печатается в типографии, и он вскоре будет вручать ее всем с дарственными надписями. Каждого занимало, что он ему напишет, и каждый старался угадать, но никому не удавалось – все попадали впросак со своими натужными стараниями. Надпись все равно оказывалась не та, что они думали, а та, что никто и не думал не гадал, а вот вышло в самую точку.
Мне автор тоже подарил свою книгу и тоже надписал: пожелал мне благорастворения воздухов и обилия плодов земных. Все правильно. Для садовника ничего лучше и не изобрести. Я поблагодарил, унес книгу, прижимая ее к груди, а дома поставил на полку: шрифт для меня мелковат, да и о рабах древнегреческих я все забыл, чему в гимназии когда-то учили.
Впрочем, иногда, признаться, с полки достаю, открываю и кое-что прочитываю. Не рабы для меня важны, а автор – Евгений Николаевич, и в самом мелком шрифте я распознаю таинственную завязь – завязь будущего плода, коим он осчастливит нашу русскую словесность и философию. Вернее, так: словесность-философию, поскольку философия у нас всегда словесность.
Хотя не знаю, к счастью ли такие его строки, попавшиеся мне однажды, когда я, коротая дни в Абрамцеве (вместе с Елизаветой Григорьевной, лишившейся мужа), перелистывал старые журналы из библиотеки Мамонтовых: «При первом внешнем потрясении Россия может оказаться колоссом на глиняных ногах. Класс восстанет против класса, племя против племени, окраины против центра. Первый зверь проснется с новою, нездешней силою и превратит Россию в ад» (из статьи «Два зверя», тысяча девятьсот седьмой год).
Прочитав это, я вздрогнул и перекрестился: не дай Бог, чтобы такое сбылось. Впрочем, строки, похоже, пророческие, а это значит, что Бог как раз и даст – попустит за наши-то грехи («Мне отмщение, и Аз воздам»), и все предсказанное неминуемо осуществится. Слишком красиво живем – посеребрили свой век, искусство возвели в религию. И счастье лишь в том, что жить в эту пору прекрасную – пору торжества зверя – многим уже не придется.
Мне-то, старому, пишущему эти записки, – наверняка не придется. Я и так уж зажился. Многих проводил в последний путь, постоял с поникшей головой у отверстой могилы и теперь жду Гермеса – провожатого для своей собственной души.
Папка третья