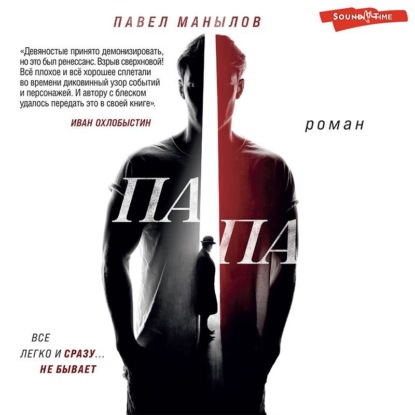Полная версия
Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
Так уж устроен человек: все, что он от себя гонит, его потом и манит, приваживает. Хотя шум шуму рознь, и одна суета раздражает, а другая ублажает, особенно если рядом хлопочут по хозяйству невестки, ведут умные застольные разговоры сыновья, галдят, носятся как угорелые внуки – топают по чистому полу босыми ножками, сверкают розовыми пятками.
Поэтому все Мамонтовы всегда были в Кирееве желанными гостями, и Савва Иванович с Елизаветой Григорьевной наезжали не так уж часто, но – наезжали. И жили не то чтобы очень подолгу, но – жили.
Старик Елизавету Григорьевну полюбил еще тогда, как впервые увидел и они с Саввой здесь, в Кирееве, сыграли свадьбу. Полюбил навсегда – за девичью красу, строгий нрав, глубокую (не показную) набожность, извечное желание помочь ближнему, рассудительность и сурьезность, как называл он душевное свойство, как раз и отсутствовавшее у ее мужа: тому бы вечно шутить, комиковать, актерствовать.
Во внуках же – Сереже и Дрюше (Андрюше) – старик и вовсе души не чаял. Стоило Сереже к нему забежать – и потом весь рот спелой клубникой вымазан. И Елизавета Григорьевна никогда не скажет, что нельзя перебивать аппетит, клубнику надо мыть кипятком или что-то в этом роде, а лишь улыбнется, поблагодарит и сама спелую ягодку (только что сорванную, прямо с грядки) выберет и со вкусом отведает.
В Кирееве не скучали, поскольку каждому находилось дело. А после выполненного дела и забава всласть. В лесу собирали еловые шишки для самовара, а то и гриб попадется знатный, на крепкой ножке, шляпка полуистлевшим листиком прикрыта – красавец! Рядом же – целая семейка таких же, с Мамонтовыми схожих хотя бы тем, что подобрались от мала до велика, одни во весь рост выперли, другие, малюсенькие, едва из земли выглядывают – всех их сразу в корзину. Вот и лапша к обеду, и такой грибной дух от нее, что язык проглотишь.
Вечерами по-семейному чаевничали: Иван Федорович в центре, на почетном месте, глава купеческого рода, патриарх, а рядом сыновья, невестки, внуки. Чай серебряными ложечками помешивали: зачерпнут, в ложечке подержат, чтобы остудить, и обратно в чашку перельют тоненькой струйкой. При этом сахарку подкладывали, вареньями-печеньями себя баловали и потчевали.
После чаю, пока не стемнело, – прогулки, променады всякие. Иван Федорович, сам не гуляка, называл эти прогулки охотой на комаров и всем предлагал средство, чтобы охотники не особо страдали от комариных укусов. Если зарядят дожди, раскладывали пасьянсы, играли в лото, пели под гитару, украшенную алым бантом, как невеста к венцу.
Савва Иванович, средний и самый неуемный сын, тот и вовсе превратил пустую ригу в театр и поставил спектакль по Островскому – «Грех да беда». Иван Федорович, услышав такое название, чуть не поперхнулся, поскольку привык считать увлечение сына именно бедой и грехом, от которого с юности старался его отваживать.
Но на этот раз отсидел зрителем в зале и отсмотрел всю пиесу. Ни разу не зевнул, не заскрипел стулом, не крякнул от досады. После же за утренним чаем похвалил, хотя не шибко, а то Савва, падкий до актерства, глядишь, так увлечется, что весь аж взопреет, глаза шальные, как в юные годы бывало, и о делах напрочь забудет.
Делами же он уже потихоньку ворочал, и Иван Федорович, испытав его на крутой подъем, как справного конька, все больше и больше сына нагружал, приохочивал, приучал его к купеческому ремеслу. Чтобы спасти от греха, от Москвы с ее театрами и богемным закулисьем, а заодно от фармазонства и вольномыслия, коего Савва наглотался в разных студенческих кружках (по этому поводу было получено анонимное письмо), послал его в Баку.
Городишко старый, с кривыми улочками, мечетями, минаретами, гортанными базарами, плоскими крышами, на которых ужинали, а в душные ночи спали. Там Мамонтов-старший владел нефтяными промыслами и торговыми факториями. И Савва исправно отсиживал в конторе, постигал великую науку под названием Бумажная Волокита. Словно бусинки на четках, перебирал он цифры, разбирался в счетах, ведомостях, всякой торговой бухгалтерии и мечтал лишь о том, чтобы отец наконец сжалился и забрал его домой.
Об этом он молил Ивана Федоровича в письмах, но тот не спешил с отцовским благословением на возвращение в Москву (для кого Москва, а для кого – Вавилон). Перебирание бусинок продолжалось, но к этому добавились частые прогулки по вечернему, остывающему от зноя Баку, изучение местных нравов и юношеская истома от созерцания гибкого стана и зазывных (из-под паранджи) очей здешних зулеек. Это скрашивало жизнь, наполняло ее если не разнообразием, то надеждой на то, что ему еще улыбнется счастье, сквозящее, как косточка в мякоти винограда.
По торговым делам довелось ему и в Персии побывать и даже вести груженный тюками караван из семидесяти верблюдов. С ним был верный телохранитель с кинжалом и в высокой косматой шапке – Савва для простоты звал его Ала-Верды. Путь пролегал из Шахруда в Мешхед: выжженная солнцем степь, сухие колючки, поросшие низким кустарником горы, словно горбы верблюдов, узкие, холодные теснины. Миновали небольшие города, похожие на различные фигуры, сложенные из городков: Мейамей – Аббасабад – Мезанан – Себзевар – Нишапур. Ночевали в караван-сараях, а однажды пришлось заночевать в горном духане с застоявшейся сладкой вонью, на земляном полу…
В Мешхеде не обошлось без приключений: Савва чуть не лишился всего товара, поверив на слово лукавым персам. По молодости попался на удочку мошенникам. Но не оробел, не раскис, лица не потерял и показал этим персиякам, что русские так просто не сдаются и за себя постоять умеют…
Словом, заручился нужной поддержкой и сполна получил деньги за товар…
Наконец кончилась эта пытка, и отец забрал его домой – с самыми лестными отзывами и отличными рекомендациями. Выдержал! И выдержал с достоинством!..
В Москве на Ильинке торговал ламбардским шелком. И замоскворецкие купчихи, а то и благородные матроны, советуясь с ним, словно с искушенным знатоком дамских капризов, выбирали отрезы на платья, чепчики, прозрачные как воздух шарфики, накидки и платки.
Отец прямо ни во что не вмешивался, но исподволь советовал, направлял, сводил Савву с нужными людьми, подсказывал и… как не порадеть родному человечку… устраивал его в те места, где он набирался опыта и сноровки.
В гимназии-то Савва успехами не блистал, первым учеником не был, науки и языки ему не особо давались. Латынь и вовсе брал измором, засыпал над учебником, но так и не освоил: оказалась не по зубам. И вот теперь под началом Ивана Федоровича нагонял упущенное, наверстывал, набирался опыта и сноровки.
Но в воздухе уже витало, маячило, зловеще посверкивало предвестие беды. Иван Федорович стал чаще задумываться, но не так, как думал он о делах, прикидывал, подсчитывал, а иначе – отрешенно и безучастно смотрел в одну точку. И не слышал, когда к нему обращались. Его старались растормошить, отвлечь, развеселить, и он сам охотно поддавался на такие попытки. Приказывал себе, как солдату, быть этаким бравым молодцом: ать-два-три-четыре. Так он бодрился; не вставая с кресла, маршировал под взглядами родных и близких, чтобы раззадорить – если не себя, то хотя бы их.
Восьмого августа тысяча восемьсот шестьдесят девятого года, вернувшись из Москвы, Иван Федорович взял на руки Дрюшу и повез кататься, совершать смотр парадным войскам – стройным рядам молодых, недавно посаженных сосенок и елок. Смотром остался доволен, раскраснелся, повеселел. Вечером, после самовара, когда стемнело и выплыла из-за облаков матовая луна, устроил для внуков фейерверк и сам больше всех радовался взлетающим в небо гроздьям разноцветных огней. А на следующий день слег – с воспалением брюшины, как определили врачи. Десять дней промаялся и умер.
Похоронить решили в Алексеевском монастыре, как и сам он того хотел. Место выбрали загодя, и могилу вырыли быстро, поскольку земля была теплая, рыхлая, смоченная дождями. Опустили гроб, бросили по горсти земли, постояли молча, утирая слезы, и пошли поминать – просить для умершего Царства Небесного: честным и упорным трудом заслужил. И для семьи, и для отечества постарался. И купечества русского не посрамил.
Позаботился Иван Федорович и о завещании, скрупулезно отписал, что кому следует. Киреево отошло не Савве, который хоть и лечился в Италии (а больше не лечился, а учился – оперному пению), но все же здоровьем был крепок, да и мог себя обеспечить, поскольку прочно стоял на ногах. Что ему Киреево – он себе с десяток таких имений купит. А вот Федор, старший сын Ивана Федоровича, в честь своего деда названный, не из таких – болящий, и не телесно, а душевно: затмения на него находят, не владеет собой, с нервами не в порядке.
Да и не работник – в отличие от Саввы. Птица пфуфырь (есть такая) ему на темечко села и дырку проклевала. Потому и ветер в голове: сам себя не прокормит. Вот Киреево и отписано ему (другой же сын, Анатолий, женился на певичке, отцу на глаза и вовсе не показывался). Савве же завещан особо ценный пакет – контрольный пакет акций Троицкой железной дороги. Завещан, чтобы деньгу наживал, капитал отцовский множил и теперь сам своего конька гнал в гору – рельсы по Руси прокладывал и поезда пускал.
Так-то, православные.
Этюд третий
По русскому замаху
В воскресенье, двадцать второго марта, утренним поездом, едва огромным малиновым шаром всплыло над горизонтом солнце, Мамонтовы помолились на дорожку и с Ярославского вокзала отправились. В Абрамцево – покупать землицу и имение. Вернее, сначала до Тучкова, а оттуда на санях, по холмам и перекатам до аксаковского гнезда – благословенного Абрамцева.
Именно таким – благословенным – показалось оно им, когда впервые увидели усадьбу вдали на пригорке. А кто благословлял, тут и вопроса нет: конечно же, Сергий Радонежский, небесный покровитель этих мест, святой Андрей Рублев, писавший «Троицу» для Троицкого собора Лавры, и в Бозе почивший Иван Федорович Мамонтов, тянувший железку от Москвы до Сергиева Посада.
С Николаем Семеновичем Кукиным встретились уже на вокзале: так ему было сподручнее и удобнее. Хотя и приглашали его заехать на Садово-Спасскую, в подаренный молодоженам Иваном Федоровичем двухэтажный дом с каменным низом и деревянным верхом, просторный, поместительный – из тех, где вольно живется и легко дышится.
Но удобнее так удобнее – неволить никто не стал. Встретились под часами, показывавшими, что до отхода поезда еще пятнадцать минут, можно полюбоваться стоящей под парами чудовищной махиной паровоза, купить газету и без суеты, не торопясь дойти до своего вагона.
В вагоне путешественники заняли свои места. Савва Иванович переложил из саквояжа в карман револьвер. Хотя револьвер и оттягивал карман, он захватил его с собой, чтобы в дороге обороняться от медведей и разбойников, – захватил как бывалый путешественник, побывавший там, где без револьвера пропадешь и откуда живым не вернешься.
Вернее, путешественников, собственно, было двое: Савва Иванович, одетый в дорожный костюм, привезенный некогда из Италии (там и познакомились с будущей женой), и Елизавета Григорьевна. Она была в высоких, туго зашнурованных ботинках: главное – не набрать снегу (снег-то еще глубок) и не промочить ноги.
Они и уселись рядом на лавку – путешествующая семейная пара. Напротив же них – попутчик, Николай Семенович, щуплый, с выпирающим кадыком, изрядно рябоват, подслеповат, но – не Акакий Акакиевич, а господин весьма почтенный, прихвативший театральный бинокль, чтобы виды осматривать, и томик Аксакова, дабы сравнивать описанное в нем с натурою – речкой Ворей, прудами, парком, полянами и лужайками.
Вагон постепенно заполнялся и, казалось, под тяжестью прибывавшего людского потока немного оседал, осаживался, покачивался. Савве Ивановичу почудилось, будто среди незнакомых лиц мелькнуло одно явно знакомое и при этом, словно во сне, странно не совпадавшее с лицами тех, кого он знал, – лицо умершего отца. Отец! И сердце зашлось, застучало мелко и дробно, а затем мерно и тяжко забухало обложенным ватой молотом.
С ним последнее время не то чтобы часто, но так бывало: он в случайных прохожих угадывал отцовских двойников. И лишь дивился, как они непохожи и в то же время навязчиво похожи на Ивана Федоровича – и бритым лицом, и большим, слегка растянутым ртом, и немного оттопыренными ушами, и всей своей не столько купеческой выправкой, сколько осанкой петербургского сенатора или английского лорда.
А через минуту завороженного созерцания двойники исчезали, а вместо них обычные прохожие проплывали мимо, спешили по своим делам. «Уж не призрак ли меня преследует, как у Шекспира? – иногда спрашивал себя Савва Иванович, всегда подыскивавший к случаю примеры из литературы, и, человек просвещенный, чуждый суеверий, отмахивался от своих подозрений: – Впрочем, пустое. Театр!»
Вот и сейчас снова мелькнул двойник, и Савва Иванович, едва унялось сердце, подумал, что когда-то и Иван Федорович мог ехать в этом вагоне, один или с попутчиками, и, может, сидел на том же самом месте, слушал, как стучат колеса, и так же смотрел в окно. И почувствовал, что сам он, отцовский наследник, сник под тяжестью внезапной нутряной – купеческой – тоски. Сник, опустил плечи и даже этак просел – что твой наполненный пассажирами вагон. Запрокинул голову, свесил руки и откинулся на сиденье, изучая потолок вагона и глубокомысленно удивляясь тому, что он тоже с норовом и в зависимости от поворота головы меняет угол наклона.
Говорить не хотелось – так всю дорогу молчком и просидел, лишь барабаня пальцами по стеклу и что-то буркая, помыкивая в ответ на вопросы.
Лишь перед самым выходом заставил себя взбодриться, выманил, как лису из норы, из уголков рта улыбку, повеселел. Заверил взглядом жену, что с ним все в порядке, а то уж Елизавета Григорьевна с беспокойством на него поглядывала. Потер ладонями колени, подмигнул попутчику Кукину: мол, мы себя еще покажем. Почему-то вспомнил Италию, куда впервые отправил его отец, картинные галереи, мастерские художников, оперные студии, и подумал, что и здесь, в Абрамцеве, при желании – по русскому-то замаху – можно учудить и затеять ту же Италию.
Этюд четвертый
Отцы на небесах сговорились
В Москве весна лишь угадывалась, здесь же, хотя и было чуть похолоднее, весною все дышало, на солнцепеках растепливалось, млело и таяло. Ручьи пробивались сквозь осевший снег, ворковали, сопели, причавкивали и сверкали до рези в глазах. Воря еще не вскрылась, но изнутри напирала, местами подламывала лед, обещала, что вскоре двинется.
Сани поскрипывали, местами царапали полозьями протаявшую землю, стреляли камушками. Вон и усадебный дом на пригорке. Все трое ахнули, как увидели, и замерли, зачарованные, словно читанную в далеком детстве сказку вспомнили – сказку о лесных избушках и боярских теремах.
– И не низок, не высок, из трубы идет дымок, – с удовольствием произнес Савва Иванович, угадав общее настроение, и добавил, что кажется ему, будто летят над лесом, машут белыми крыльями гуси-лебеди, Иван-царевич везет на Сером Волке Елену Прекрасную и прочее, прочее в том же сказочном, абрамцевском духе.
– Вечно ты, Савва, что-нибудь этакое скажешь… – Елизавета Григорьевна не возразила, но осторожно выразила свое всегдашнее опасение: как бы гуси-лебеди собственного воображения не подхватили мужа и не унесли в неведомые дали.
– …что-нибудь этакое ввернешь. – Николай Семенович рассмеялся тихим, дробным смешком, поскольку очень был доволен сказанным и сам ввернул бы, если б вовремя нашелся и не дал Савве Ивановичу его опередить.
– Надо хорошенько осмотреть дом, во все углы заглянуть, поторговаться, с ценой не прогадать. – Елизавета Григорьевна показывала, что ее гуси-лебеди – это собственные неотступные (не отмахнешься) заботы.
– Проза, милая, проза. А мы с Николаем Семеновичем поэты. – Савва Иванович снова, как и в поезде, подмигнул попутчику, довольный, что польстил ему, назвав поэтом, и заранее заручился его поддержкой при решении, покупать дом или не покупать.
Конечно, покупать. Хотя вслух он этого не сказал и не очень-то кстати продекламировал:
– Поэт, не дорожи любовию народной.
Елизавета Григорьевна поставила себя на место тех, кого по заслугам не ценят и чьей любовию, по-видимому, не слишком дорожат.
– Вы поэты, вам-то хорошо, а мне приходится быть дотошной и придирчивой купчихой.
– А ты и есть купчиха, – хохотнул Савва Иванович и, извиняясь за несдержанность, с любовью посмотрел на жену – посмотрел так, как на купчих редко смотрят. – Из Сапожниковых тебя взял, а уж те купчины известные…
– Ну уж кто купчины, так это вы, Мамонтовы. На винных откупах когда-то барыши сколачивали.
Елизавета Григорьевна отвернулась: она не то чтобы обиделась (давно привыкла к шутливым перепалкам с мужем), но продолжала думать о своем – о том, что казалось ей сейчас важным (об осмотре дома и цене, какую за него попросят).
Разогнавшиеся лошадки внесли их розвальни в ворота, и перед главным домом ямщик круто остановил, подняв полозьями веер снега наполовину с песком и со льдом. Опустил поводья: теперь, господа хорошие, сами разбирайтесь. Они подождали, не выглянет ли кто, не выбежит ли навстречу гостям. Какой там выбежит: былых бегунов-то, видать, уж нету. Ефим Максимович, старик-управляющий, наскоро набрасывая зипун, припадая на отсиженную ногу, заковылял к саням.
– Усадьбу смотреть. Покупатели, – доложился Савва Иванович, и жена его немного поправила:
– Еще не решили, но, может быть, купим.
– Что ж, пожалуйте. Просим, просим… Гостям всегда рады. Уж я вас проведу, все вам покажу-расскажу. Будете довольны.
– Хозяйка-то давно здесь не живет?
– Софья Сергевна? Давненько. Бывает сердешная только наездами, живет же постоянно в Москве. А как решила продать, и вовсе глаз не кажет, словно совестится.
– Что так?
– Родное гнездо. Воспоминания. Продавать-то жалко. Да и Сергей Тимофеевич ей здесь вечно снится по ночам, а то и днем явится как призрак. Кажется, будто он с удочкой на берегу, как сидел когда-то, так и сидит, словно из воздуха сотканный… Вот она и бояться за себя стала – не рехнулась ли трошки умом.
Савва Иванович не стал говорить, что и у него свои – похожие – призраки. Только сделал умозаключение касательно будущей сделки:
– Видно, наши с Софьей Сергеевной отцы там, на небесах, уже сговорились, купчую оформили и печать у Господа Бога поставили.
– Савва… – Укоризна в глазах Елизаветы Григорьевны выражала невысказанное пожелание, чтобы муж поменьше вольтерьянствовал и шутил с такими предметами.
– Молчу, молчу. – Савва Иванович покорно склонял голову с видом завзятого болтуна, наговорившего уже так много, что после этого не грех и помолчать.
Этюд пятый
Водной стихии повелительница
Дом осматривали долго, и чем дольше, тем дотошнее и придирчивее, словно из опыта знали, что сначала бросаются в глаза (ослепляют) достоинства, а затем потихоньку обнаруживаются и скрытые недостатки. Дом, конечно, старый, построен давно, но суть не в этом: главное было определить, отстоял ли свое, жилец или не жилец. На Руси умели так строить, что иные старики крепче новых.
Вот и этот дом, похоже, из таких крепышей: половицы хоть и поскрипывают, но не прогибаются, паркет не вскороблен: вызвать полотера – и заблестит как новый. Савва Иванович поводил ладонью по стенам, словно оглаживая, кое-где постучал кулаком, ухом приник, прислушался: звук не гулкий, провалов, полостей не угадывается. Попробовали кое-где отогнуть угол отсыревших немного обоев, слегка отодрать обшивку: не подточил ли древесный червь бревна, не тронула ли их гнильца, не покрыла ль вредоносная плесень? Нет, все предусмотрели, каждое бревнышко с любовью подобрано, строили на совесть, на века.
Во всяком случае, на их, мамонтовский, век хватит.
Управляющий Ефим Максимович исправно водил по всему дому, отпирал перед ними замки на дверях, показывал комнаты, кладовки, потаенные уголки и сам смотрел во все глаза, словно после долгого томления под замком они казались ему диковинками. Перед бывшей комнатой Гоголя на втором этаже он даже немного слукавствовал, позволил себе чуток поозоровать (почувствовал, что Савва Иванович сам озорник отменный). Предупредительно постучал в дверь и спросил: «Николай Васильевич, позволите к вам? Можно?» И замер, чутко улавливая ухом, какой ответ донесется из-за двери.
Гости переглянулись: что это – заведенный обычай или разыгранный ради них шутливый спектакль? Управляющий же выдержал свою роль до конца и, получив ответ, слышный только ему, удовлетворенно кивнул и распахнул перед гостями дверь: пожалуйте к Николаю Васильевичу.
И так это все было естественно и правдоподобно, что гости испытали такую благоговейную робость (почти оторопь), словно и впрямь навстречу мог выйти из затененной глубины комнаты сам Николай Васильевич Гоголь, протягивая им обе руки и предлагая сесть на оставшуюся с тех времен мебель – диванчик, кресла и стулья.
«Вот и еще один призрак», – подумал Савва Иванович, вновь удивляясь тому, что воскресшее прошлое словно бы обретает плоть, посылает им свои таинственные знаки.
После показа дома гостей поили чаем с конфетами, пряниками, вишневой наливкой и вареньем. Ради них распечатали банку малинового, целебного, помогающего от простуды. Хотя никто из них, слава богу, не болел, но целебную силу можно накапливать и впрок, с запасом на будущее, как обмолвился Савва Иванович и почему-то вспомнил мать: не поберегла себя, доверилась обманчивому раннему теплу, слишком легко оделась, гуляя по саду, захворала и умерла от той самой простуды, обернувшейся воспалением легких.
И кто знает, кому еще суждено от нее умереть в семействе Мамонтовых. Так что варенье оказалось кстати: может, впрок и вылечит, кого-то и убережет накопленная им целебная сила.
Подали к чаю и пироги: жена Ефима Максимовича с утра напекла, словно ждала гостей и заранее готовилась их принять. А возможно, и не ждала – для себя старалась. Впрочем, для себя стараются иначе. Разломив один из пирожков, Савва Иванович про себя подумал: а хозяюшка-то скуповата, теста не пожалела, а начинки маловато положила. Голубю поклевать и то не хватит. Но ничего не сказал. Даже виду не показал, что чем-то недоволен. Хотя и не похвалил пироги и, едва одолев один, за другим уже не потянулся.
Хозяйка между тем выводила их на полезный разговор.
– Что ж, надумали брать усадьбу-то али как? – спросила она, пользуясь тем, что господа у нее в гостях, чаевничают за накрытым ею столом, поэтому она может позволить себе задавать подобные вопросы.
Савва Иванович встретился глазами с женой, чтобы ответить заодно, и ответ, угаданный ими по едва шевельнувшимся губам друг дружки, был:
– Надумали. Решили брать.
– Вот это правильно. Одобряю, – вмешался Николай Семенович Кукин, чтобы и его мнение было учтено: не зря же он пятьдесят семь верст сюда отмахал из Москвы.
– Тогда с усадьбой-то и нас берите, – сказала хозяйка, играя голосом, чтобы в случае чего (вдруг гостям не понравится) выдать все за шутку, хотя говорила явно с дальними намерениями, всерьез.
– Это как же вас брать прикажете? Оптом или в розницу? – Савва Иванович поддержал было игру, прицениваясь к предложенному товару, хотя быстро понял, что с ним не шутят.
– А так, что на работу нанимайте и жалование кладите. – По той решительности, с которой это было произнесено, словно угадывалось: зря мы, что ли, вас тут принимаем, чаями угощаем и пирогами потчуем? Будьте любезны и вы нам чем-то угодить и потрафить.
Савва Иванович отодвинул от себя чашку. И Елизавета Григорьевна тоже опустила глаза: не любили Мамонтовы, когда так наседают. Николай Семенович и тот произнес:
– Однако…
Из этого следовало, что хозяева слишком много себе позволили и проявили к гостям некоего рода непочтительность.
Ефим Максимович не сразу сообразил, в чем причина наступившей паузы, неприятной и неловкой для всех присутствующих.
– Замолчи ты, глупая! – с опозданием накинулся он на жену, устыдившись за нее перед гостями. – Не слушайте вы ее. Несусветное городит. Язык как помело…
– Нет, почему же? – Савва Иванович помешивал ложкой чай, хотя он давно остыл. – Пожалуй, предложение как раз и интересное. Обдумаем и вам доложим.
– Еще чайку не желаете? – спохватилась хозяйка, чувствуя вину перед гостями.
– Благодарствую…
– Спасибо за чаек, – подхватил Кукин в знак поддержки своих, но все-таки не удержался и напоследок взял из вазочки чужую конфету.
После этих слов стало ясно, что чаепитие закончилось на несколько холодной, даже слегка неприязненной ноте и гостям пора встать и откланяться.
– Не слушайте вы! Она у меня молодая, дуреха еще! Много о себе понимает! – Ефим Максимович воспринял ранний уход гостей как невысказанную ими обиду.
Хозяйка, сознавая, что она под конец сама все напортила, в эту минуту вытерпела бы упрек от кого угодно, но только не от старика мужа.