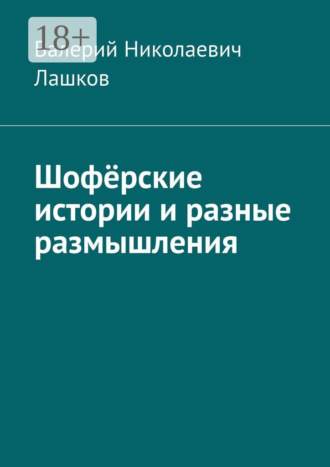
Полная версия
Шофёрские истории и разные размышления
Так что – кадры, овладевшие техникой, решают далеко не всё.
По отношению к ситуации в России конце последнего десятилетия двадцатого века и начала века двадцать первого можно провести сравнение с Войной. Воюющий народ к середине сорок третьего года выдвинул на командные должности среднего звена множество умных, отважных (в том числе при коммуникации с начальством) ребят. Вместе с ними и преодолел из последних сил лютого врага. Надеемся и в двадцать первом веке он (народ) выдвинет порядочных руководителей, и также «вынесет всё и хорошую, ясную грудью дорогу проложит себе…».
И так работа на ЗИЛе была спокойной, без особых историй, одна правда была. Отправили меня сравнительно далеко в Лодейное Поле, это ближайшая железнодорожная станция от Вытегры, до неё – старинный петровский всегда, кроме морозов, разбитый Архангельский тракт (мой дом на нём).
Мужики иногда смеются: японская дорога – то-яма, то-канава, но чаще – злобствуют. В 1985 году 13 марта скончался мой папа Николай Иванович Лашков, на похороны я добирался тяжело (билетов не было даже по смертной телеграмме – два дня после смерти Черненко), от Лодейного – в два часа ночи удалось попасть на попутную шаланду. Была оттепель, слякоть, тракт размыт, весь в ямах, в шаланде трясёт неимоверно. Я водителям – «Гнать надо партийное начальство за эти дороги», они мне – «НЕТ!». Я – «Почему?» – «Другие будут не лучше, их всех расстреливать надо». Такие вот были настроения в народе в начале перестройки, но начиная с нулевых об этом стали забывать, жизнь в Союзе приукрашивать.
Да, об этом рейсе. Погрузили мне паровой котёл длиной больше кузова и диаметром больше метра. Закрепили плохо, какой у меня опыт! На тракте не только ямы, но еще и дорога почти горная – девятинская возвышенность.
На одном из поворотов крепление котла оборвало, ЗИЛ оказался в канаве. Дружное шофёрское сообщество встречных и попутных помогло выкарабкаться.
Летом машину мою отправили на целину по существовавшей тогда разнарядке, меня – в отпуск, перед армией. Однако через неделю ко мне приходит завгар и просит выйти на работу. На моё удивление – на какую машину? Ответ – «На «ласточку». Я ахнул! «Ласточка» – списанная ЗИС-5, давно ржавевшая у забора, не пригодная к езде. Оказывается, по словам завгара её привели в порядок для подвозки дров на «Сампо». При эксплуатации оказалось, что у неё заменили мотор, покрасили и ничего не делали с рулевым, и тормозами. Я с ней помучился, были и истории.
Однажды, везу полный кузов дров, в кабине и на дровах грузчицы, крепкие молодые бабы (для меня тогда – довольно старые!). При въезде на крутую горку «ласточка» на второй передаче не вытягивает, переключаюсь на первую (двойной выжим: первый выжим рычаг на нейтралку, перегазовка, второй выжим – включение передачи; все операции надо делать за доли секунды, иначе покатишься с горки). На этот раз – резкий стоп, бабы с кузова едва не слетели. Диагноз ясен – включились две передачи одновременно, у меня это в первый раз, но старики об этом рассказывали. Машина висит на крутой горке, боюсь как бы полуоси не лопнули или редуктор моста не оборвало! Женщины (бабами их больше называть не буду) сообразительные – быстро подкладывают чурбаки под скаты. Снимаю полик (благо у ЗИС-5 это несколько реек, легкосъёмный), открываю крышку коробки и пытаюсь монтировкой вытолкнуть из зацепления шестерню второй передачи, но не тут-то было – силы не хватает. Дамы бегут за ломом в ближайшие избы, ломом выбиваю шестерню, машина с треском сдаёт на чурбаки.
Через несколько рейсов с тем же экипажем попадаем в очередную критическую ситуацию. Рейсы – вдоль лесовозной узкоколейки, ехать через переезд – некоторый крюк. Спрямляю, переезжая линию в неположенном месте с низкой насыпью. Через несколько рейсов после пробуксовок на насыпи, гружёным сел на рельсы, рельс между коробкой и мотором, машина ни туда, ни сюда, караул!. Место – недалеко от поворота узкоколейки (от «кривой» по железнодорожному), тормозной путь у паровоза со сцепами около километра. После блиц – совещания с красавицами они быстро находят толстую жердь, через чурбак подвешивают передний мост – задним ходом выбираюсь из ловушки.
Еще одна история на ЗИС-5, диковатая и смешная. Для подъезда к поленнице дров на погрузку бульдозер проделал мне проезд – проехал задним ходом через кусты с опущенным ножом. На погрузку я подъехал нормально, а при выезде вдруг снизу что-то поднимает полик кабины (он же легкосъёмный!) и поликом ноги мои прижимает к приборному щитку (теперь его называют – «торпеда»). До сцепления не достать, мотор машину тащит пуще прежнего, еле дотянулся до замка зажигания. Дамский коллектив насилу помог выбраться из кабины.
О белоручейских женщинах, бригаде грузчиц – в русском языке и слова то такого нет, но вот подиж-ты – жизнь заставляет. Весьма симпатичные даже в ватных штанах и телогрейках (фуфайках по местному), крепкие, резкие на слово и дело, справедливые, самостоятельные (последнее – оценка человека в наших местах считается как самый блестящий комплимент). «Коня на скаку остановят…», но как хорошо сказал поэт «они бы хотели иначе – надеть драгоценный наряд, а кони всё скачут и скачут, а избы горят и горят».
Да, «…доля ты русская, долюшка женская…», вспоминаю маму. Родилась она в Ундозере (западное прионежье, Олонецкая губерния), в 1912 году, хорошо помнила НЭП как счастливое время. Пережила голодовку тридцатых, первый муж погиб в сорок первом, в войну работала на оборонку. Работа, даже по понятиям мужиков-вальщиков – лютая. Задача – с напарницей добыть берёзовую древесину, пригодную для авиафанеры и ружейной болванки. На общей делянке бригады вальщиков и сучкорубов (тоже в большинстве женщины и подростки) зимой снежные завалы кое-как, но разгребают, костёр большой разводят для согрева, а этой паре приходится туго. По пояс, а то и выше в непролазном снегу, при лютом морозе или ледяном дожде, искать на взгляд подходящую берёзу, валить её, разделывать, затем приезжать за бревном с лошадью и волокушами, грузить и трелевать брёвна в посёлок к узкоколейке. Иногда спиленное дерево оказывалось нестандартным, так как было требование по прямострунности и количеству сучьев на погонный метр. Как мама вспоминала, тогда садились на бревно и ревели. Надо ведь норму выполнить! Напарницей у мамы была Прасковья Гудкова – бабушка Сашеньки Гудкова, молодого морского офицера, старшего лейтенанта, погибшего на «Курске». Такая вот связь времён.
В жестокую зиму сорок четвёртого с мамой произошел удивительный случай, трудно поверить, но мама врать не умела. Для трелёвки у неё был трофейный конь по кличке «Сержант», рослый, красно-белый, очень красивый и умный конь (я предполагаю – «сталинградец», под Сталинградом взяли пятьдесят тысяч коней). При очередной трелёвке в сильный мороз мама упала в обморок, так конь взял её зубами за воротник фуфайки и притащил в посёлок. Так вот, конь, выращенный баварским бюргером, спас мою маму. У мамы к коням и коровам благоговейное отношение; в голодовки тридцатых и сороковых только корова и спасала русскую семью от голодной смерти. Даже мотоцикл ИЖ-Юк, на котором мы с Сашей возили маму на сенокос, она называла «Серко», как коня в юности.
Ещё о женщинах в тылу. Вспоминаю рассказ Лены, диспетчера УЖД, даже в годах очень симпатичной, в войну она работала машинистом на паровозе «кукушке», как их часто звали, (хотел сказать – «машинисткой»), в войну и на УЖД работяги – все женщины – помощники, кочегары, сцепщики, ремонтники дороги и паровозов. Уход за путями не блеск, паровоз болтает. Рассказ Лены, для меня тогда, тёти Лены: «Любка, кочегар, кричит: „Ленка, блядь, не гони, тендер, вишь, как болтается“, а тащим много, пять сцепов набрали, с уклона тормоза не держат, да и если не разгонишься на подъём не выскочить. (тормоза только на паровозе, в лучшем случае, ручник на одном из „зайчиков“, но это очень опасно для сцепщика). Ну и кувыркнулись, тендер в одну сторону, машина в другую. Сидим, ревём и бога молим, что сцепы нас не раздавили – первый тоже опрокинулся. Теперь всю ночь ебаться с подъёмом паровоза, да ещё хуёв от Стёпкина наслушаемся». Стёпкин – начальник УЖД, одноногий, ногу потерял на фронте, поругивал девок с любовью и уважением к ним. Никогда не сдавался на требования органов о наказании, допустивших аварию, даже оборонную пайку не снимал.
Поднимали паровоз тоже с женской паровозной бригадой. Насколько я помню, технология такая. Крепили к верхней точке паровоза трос и пропускали трос через блок, прилепленный к дереву, недалеко от путей. Паровоз-тягач, сдавая назад рывками ставил машину и тендер на колёса, при помощи домкратов под колёса подкладывали рельсы, сшивали их с магистралью и паровоз вытаскивал собрата на магистраль.
Сцепы таскали из посёлка Северный («лесопункт»), там мама в войну работала, папа был «техноруком», электромехаником по существу, в этом посёлке я и родился. В качестве населённых пунктов Вытегорского района он не числился, по паспорту моё место рождения – деревня Белый ручей давно объединившаяся с посёлком Депо, а нынче и с селом Девятины (агломерат 8 на 3 км, на берегу Волго-Балта). От Северного до Депо около двух десятков километров, в настоящее время посёлок исчез.
В суровую зиму сорок четвёртого в Северный привезли под конвоем несколько сотен чеченцев, для местных – «чечены», как у Михаила Юрьевича. Все молодые, рослые, чернобородые (видимо, боевики). Жили в жуткие морозы в бараках. Работать в лесу, куда их гоняли конвоиры, отказывались, сидели в бурках вокруг костра, ни с кем не разговаривали ни в лесу, ни в посёлке. Даже дров для отопления бараков не пилили, в печь толкали жердь. Как, бабы говорили: «Они тоснут!» – именно так. К весне около половины умерли. В Северном было чеченское кладбище, я помню, а где оно сей час – не найти.
После чеченов прислали семьи фольксдойче из-под Одессы, эти хорошо работали, холостые переженились с нашими. В пятом классе белоручейской средней школы у нас было половина немцев. Во времена освоения целины им разрешили уехать на север Казахстана. Большинство уехали – привычка к степи, остались семейные с русскими жёнами.
Вернусь к коллективу грузчиц. В шестидесятые, слава богу, не голодали, у всех женщин были хорошие дети и, насколько я понимал, крепкие семьи. Об их отношениях с мужчинами я совершенно не знал, да и не интересовался, был видный, крупный мальчик, телёночек. Они ко мне очень хорошо относились, мне кажется, даже гордились мной.
Раз упомянул об гендерных отношениях (слово в русском языке приживётся – короткое, а суть отражает), приведу описание характерной сцены. Бригада грузит пакеты с прессованной корой, тяжело очень, все злые. К одной из них приходит муж с просьбой известной – на маленькую. Надя, красивая, хорошо сложенная, спортсменка-лыжница, очень сильно загорела под июльским солнце – мулатка, да и только. Стоит в чистеньком комбинезоне: «Витька, подойди», далее следует хорошо поставленный прямой удар в лоб, неудовлетворённый Виктор удаляется с печалью.
Мужики пили сильно, как говорится – «до смерти работаем, до полусмерти пьём», но драк не помню. В гараже многие ездили пьяными, но аварий не было, помню, над водителем ЗИСа-автокрана посмеивались – «Если Костя с дамбы едет на первой, значит, ему придётся помогать вылезать из кабины».
Иначе – вспомним Александра Сергеевича «… прямо в грязь с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьян…», только вместо коня ЗИС-150. Кстати, пушкинское определение степени опьянения широко употреблялось в местном народе. Сейчас в посёлке пьют гораздо меньше, как и в России в целом – употребление спиртного в РФ за последнее десятилетие уменьшилось вдвое.
По этому поводу имеется некоторое размышление, основанное на личном опыте и наблюдении за ближайшим окружением (в основном, в студенчестве). На первых курсах выпивали довольно часто. Частота зависела от двух факторов: от необходимости сдачи зачета, экзамена, лабораторной, контрольной (с похмелья – проблемы) и финансового обеспечения. На четвёртом курсе напряженность учёбы резко снизилась, с финансами тоже стало легче (стройотряды), кроме того, два года подряд по два месяца у нас была технологическая практика на весьма сложном технологическом процессе, в котором была технологическая операция перекристаллизации из этилового спирта конечного, очень дорогого продукта сложного органического синтеза. Продукт принимала военная приемка, спирт был самой высокой степени очистки в тридцатилитровых флягах под пломбой приёмки. На операцию перекристаллизации требовалось сорок литров.
Оставшиеся двадцать литров использовать процессе на следующий день запрещалось – нет пломбы), поэтому их утилизировали желающие аппаратчики-студенты, а мастера (молоденькие женщины) не препятствовали, уходили из мастерской синтеза. Выносили в портфеле по пять литров, в общаге комната была уставлена литровыми бутылками из-под польского ацетона.
Однако мы, несуны, сильно не пили. Видимо срабатывал инстинкт самосохранения, думается, что так и в обществе. Однако, снабжали «шилом» студентов двух этажей седьмого корпуса студгородка на Новоизмайловском. Химики остроумно называют спирт «шило», видимо помня поговорку: «Шило в мешке, а вино в кишке – не утаишь».
Моё отношение в выпивке и к трезвенникам несколько отличается от общепринятого, особенно насаждаемого в начале перестройки и возродившегося в десятые годы, т.е. огульное осуждение выпивки, презрение к выпившим, доходящее до существенного смягчения наказания их убийцам.
Для себя я замечал некоторое прояснение ума в состоянии лёгкого опьянения, и потрясающее улучшение сообразительности через 3—7 дней трезвости после перепоя. Думал что это свойство моей психики. Однако, в нулевые прочитал в «Новом мире» в воспоминаниях Гладкова цитату из дневника Александра Трифоновича Твардовского.
«Можно подумать, что если бы я не пил, то сделал бы ещё больше и лучше во много раз, но я знаю, что это не так, и тут уже ничего не попишешь. Сложился такой ужасный ритм приливов и отливов, когда вслед за беспамятством, бездельем и пустоутробием, «вождением медведя» (т.е. запоями)1 и вслед за мучительным «переходным периодом» наступал всегда большой душевный подъём, упоение трезвостью, ясностью, возродившейся силой. Только с годами «переход» становился всё труднее и труднее.
Ни одной строки я не написал во хмелю, читать (печатные книги) случалось (иногда и рукописи, но не править!)»
(Дневник Твардовского,16.12.68)Имеются некоторые исторические загадки-догадки по отношению человечества к выпивке.
Фактически признан в палеоантропологии факт освоения человеком в Африке зерновых культур (в первую очередь ячменя) для получения хмельных напитков. Белковую пищу человеку в Африке добыть довольно просто. Эволюция или творец приспособили человека к способности к продолжительному бегу на жаре (особенности голеностопного сустава, вертикальность, безволосость). Так мужчины загоняли копытных (бесчисленны стада антилоп гну и в настоящее время), а женщины раздобыли ячмень, окультурили его, и научились варить пиво. При содействии этого напитка из нескольких подвидов Homo erectus, существовавших несколько сотен тысяч лет выделился Homo sapiens. Эта популяция буквально вспыхнула и покорила планету за мгновение геологического времени на мой взгляд это заслуга ячменного напитка..
Правящие элиты древности запрещали простонародью варение пива, яркий пример – ацтеки: кукурузу (маис – продукт для производства пива) простому народу возделывать запрещалось под страхом смерти, кушали картофель и томаты.
Египетская элита также держала монополию на пиво, со строителями пирамид расплачивались пивом ежедневно.
Как правило, правители пользовались возможностью доступа к спиртному как дополнением к государственному насилию. Попытки ограничения доступа вплоть до введения «сухого закона» для исправления нравов к хорошему не приводили: в США разгул бандитизма, в царской России пролетарская революция, при Горбачёве окончательно сформировалось презрительное отношение к власти, как следствие – развал Союза.
В десятые годы наметилось резкое снижение потребления спиртного, наступает «внутренний сухой закон», на мой взгляд, положительного эффекта для души общества при этом ждать не стоит: в Беслане действовали трезвенники!
Было упомянуто о тенденции снисходительности правоохранительных органов к убийцам людей, находящихся под градусом. Хотя и тяжело вспоминать об таком случае, но расскажу.
Еду на «девятке» по дороге Нижний – Саранск, в салоне на заднем сиденье, две девочки и учительница, на тридцатом километре обгоняю рейсовый автобус Нижний-Кужутки. Движется он странно – то вдруг выедет на обочину, то резко вернётся на дорогу, обогнал с опаской, взглянул – салон пуст, водитель болтает с одним пассажиром, потому и мотается по дороге.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Курсив мой.

