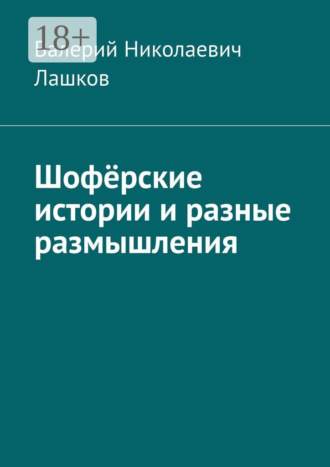
Полная версия
Шофёрские истории и разные размышления

Шофёрские истории и разные размышления
Валерий Николаевич Лашков
…долго он заснуть не мог в волненьи разных размышлений.
…трудом он должен был себе доставить
и независимость и честь;
Александр Сергеевич Пушкин.Медный всадник.
© Валерий Николаевич Лашков, 2021
ISBN 978-5-0053-8474-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Права мы получали в школе после одиннадцатого класса. Одиннадцатилетка была внедрена в СССР в ходе хрущёвских реформ. После восьмого класса четыре дня мы учились, а два работали автослесарями в гараже лесовозов (после теоретической подготовки в первом полугодии девятого класса).
Надо сказать, Хрущёва и реформы времени его правления принято во втором десятилетии двадцать первого века ругать нещадно. Это совершенно несправедливо.
В отношении одиннадцатилетки хрущёвской по сравнению с нынешней: тогда год прибавили за счёт старших классов, в нынешней – младших. Тогда в школе давали специальность и практику работы, ныне – ноль. При этом следует учесть юношескую психологию восприятия практических знаний и навыков – они накрепко остаются на всю жизнь.
Надо сказать и о других важнейших решениях правительства с уважением:
• Жильё
• Отмена сельхозналога (30%)
• Паспорта колхозникам (хотя и с оговорками – по справке председателя колхоза)
• Утрата страха быть «забранным»
К «целине» я также отношусь положительно – в солдатах я там хлеб возил, но об этом позже.
Ужасны, разумеется, карибский кризис и атомная бомбардировка собственной страны (тоцкие ученья и сто пятьдесят! воздушных! ядерных взрывов в семипалатинской степи за два года – 62 и 63).
Долгие годы принято было считать, что эти достоинства и ошибки принадлежат Никите Сергеевичу Хрущеву. Однако в последние десятилетия появился такой огромный объём сведений по этим вопросам, что человеку разумному есть над чем поразмышлять. Особенно имея в памяти многое из того о чем идут споры. Для любого человека принимаются за истину мысли и оценки событий, в том случае, если они близки к собственным оценкам и размышлениям. Эти оценки, разумеется, тоже приходят из анализа более ранней информации, полученной из совершенно разных источников, скажем, для меня – от интеллигента директора школы – шестидесятника, восхищавшегося Александром Исаевичем, до моего малограмотного дедушки, попавшего в немецкий плен в августе 14-го в Восточной Пруссии, и пробывшего в Германии шесть лет.
По некоторым суждениям, Хрущев – троцкист. Возвращаюсь к в вбитым нам в голову определениям, пытаюсь разворошить вбитую информацию. Помогают размышления, изложенные в книгах двух противоположных по подходам к истории России мыслителям, Егора Гайдара и Вадима Кожинова. Подходы Гайдара, в том числе их изменение, от конца восьмидесятых до его ухода, я знаю неплохо, начиная с публикаций в журнале «Коммунист» и до последней его книги. В нулевые на него и его команду дохлых кошек не вешает только ленивый. Понятие «либерал» для основной массы населения стало ругательным. Многие забыли, некоторые не знают, некоторые знать не хотят, что в начале 90-х в условиях катастрофического положения в экономике незалежной России её экономические и политические лидеры, уважаемые и умные академики и премьеры, Абалкин, Силаев и т.п., выхода из кризиса не видели и вынуждены были поставить у руля развалившейся машины управления молодёжь, экономических либералов. Когда у Егора Ельцин спросил: «Ты знаешь, что делать?», то получил неожиданный утвердительный ответ, заключавшийся в необходимости отпуска цен. «Но откуда возьмутся товары», «Не знаю, но мировая практика показывает, что они будут». Гайдар приезжал в Саров, я был на его лекции, на утверждение: «Торгаши будут до предела повышать цены», был ответ: «Мы будем печатать деньги, тоже понимая, что есть предел». И этой команде удалось не дать денежной системе свалиться в гиперинфляцию, хотя супер-, была, но проскочили! Машина со скрипом, тяжёлым рулевым управлением, слабыми тормозами, но поехала, и «… куда ты скачешь гордый конь, и где опустишь ты копыта?». Тут же появились желающие порулить. Конечно же, это была знакомая всем «прослойка»: директорский корпус, «орсовские», московские управленцы, как правило, из бывших профсоюзных и комсомольских деятелей. Основа, разумеется – директора (это условно, там и министры, начальники главков и т.п., как правило – производственники). Народ битый, дело своё знающий, но в новых экономических условиях – туповатый, хотя и во многом интересный. Яркий пример – Виктор Степанович. Другой вид прослойки, вернее, слой, скорее, рой, это личности, кружащиеся вокруг президента. Их происхождение – высшие партийные структуры, «органы» и ряд талантливых проходимцев (милиция и армия в сторонке, как правило).
Вернёмся к теме троцкизм. Хрущев, Гайдар, Кожинов. Кожинов и Гайдар в своих работах по истории России 20-го века рассматривают переломные для России во всех смыслах 30-е годы. Егор с экономических позиций, Вадим с позиций государственника («…куда ты скачешь…?»). Кожинов не видит альтернативы в направлении движения грозного катка Революции, Гайдар один из немногих, считающих, что у исторических событий всегда имеется альтернатива. К середине 30-х в структуре российского общества произошли существенные перемены по сравнению с двадцатыми и началом 30-х годов. В результате индустриализации появились две прослойки (это слово ближе к существу дела, чем класс). Во-первых, это весьма увеличенная по численности масса наёмных работников (наниматель – абсолютистское, предельно жестокое государство). Назвать их по марксисткой терминологии рабочим классом – натяжка, поскольку они мало отличались от крепостных петровских рабочих, были не способны к какой-либо организации, по быту и психике они крестьяне, но время и деятельность в массовом производстве довольно быстро преобразовывали эту массу, появлялись признаки сплочённости. Во-вторых, появился директорский корпус. Можно дать грубую количественную оценку этих прослоек. За несколько лет капиталисты поставили в СССР около десяти тысяч заводов. Привезли комплекты заводов от оборудования, строительных конструкций, до последней заклёпки и даже цемента. Кроме того организовали проектирование строительства, планирование поставок и затрат, американцами были созданы мощные проектно-планирующие организации. Сотрудники этих организаций, в основном американцы, воспитывали русских проектировщиков и плановиков. При каждом крупном заводе были созданы конструкторские бюро, в которых буржуазные специалисты воспитывали русских конструкторов и инженеров, так как большинство русских специалистов покинули Родину или были убиты уже после гражданской войны. Троцкий в теории предусматривал эти массовые убийства «буржуазных специалистов» (заодно и хозяйственных мужиков) и не без основания, зная их способность к организованности, а для предстоящей индустриализации специалистов предполагалось набрать у буржуев (благо у них избыток), они пролетариев и научат. Так и сделали. Эти события не противоречили марксистко-ленинским подходам, для которых мощное государство обеспечивало цели мирового коммунистического движения, т.е. достижение мировой революции и, в конечном счёте, переход к коммунистическому обществу. Основным идеологом этой политики после Ильича был Троцкий. Противоречия его с ленинской гвардией были тактического плана.
Небольшое отступление политически-экономического характера. О таком огромном количестве, построенных буржуями заводов, до сих пор сведения просачиваются с большим трудом. С давних лет говорят о трудовом подвиге советского народа, создавшем за несколько лет могучую индустрию. Слов нет, труд тяжек и огромен: котлованы, шахты, лесосеки, дороги, каналы, монтаж, сооружение зданий. Однако в стоимости сооружения такого количества промышленных предприятий стоимость этого труда составляет не более 20%. Чем государство заплатило буржуям за это богатство до сих пор нет ответа. Даже мудрец Гайдар в своём капитальном труде по экономической истории России, испещрённом таблицами, графиками и ссылками на западных экономистов, обошел этот вопрос. По любым оценкам стоимость такого количества заводов превышала ресурсы российской экономики в сотни раз.
По моему мнению можно объяснить щедрость буржуинов довольно просто, хотя в обширных дискуссиях по экономической истории СССР таких подходов не встретишь.
В конце 20-х годов на западе тяжелый кризис перепроизводства, предприятия закрываются, у рабочих нет средств к существованию. У покупателей нет денег (привыкли вкладывать деньги в ценные бумаги, потерявшие ценность мгновенно), которые должны прийти в промышленность, поэтому у промышленности нет возможности дать людям возможность заработать деньги – очень простое короткое замыкание.
Максимум кризиса в США. Американское буржуинское государство с трудом, но разомкнуло цепь: Многие, если не все, машиностроительные предприятия получили заказы на оборудование для СССР. Оплата в счёт государственного долга. Наличные деньги печатают также в счёт долга, но их уже тогда в Штатах крутится мало, в основном безналичка, вот банкиры и переписываются между предприятиями и государством. Производство и потребление закрутилось, машина поехала. Совпадение это или нет, но у американских капиталистов были и другие интересы в пользу индустриализации России. Это по предсказаниям вождя мирового пролетариата – империалистические интересы. Для американских и британских капиталистов было бы гибельно объединение России и Германии любым способом: поглощает ли Германия Россию войной, или образуется союз этих стран мирным путём.
Итак, к середине 30-х годов, марксисты-ленинцы реализовали план создания мощного милитаризованного государства, как инструмента да воплощения идеи мировой революции.
Однако следствием индустриализации было создание могильщика идеологизированного государства – в первую очередь директорского корпуса.
К концу 30-х годов правящей экономической элите (управленческо-директорскому корпусу) стало ясно, что в условиях мирного времени управлять промышленной громадой командными методами почти невозможно. Директорский корпус к марксизму относился скептически и даже презрительно, к парторгам и комиссарам как к болтунам. К низовому звену управленцев, особенно на селе (типа Давыдова и Размётнова) это относилось в меньшей степени, но они погоду не делали. Назрело противоречие между государственниками и революционерами. В результате почти все истинные марксисты (ленинская гвардия) были объявлены троцкистами и убиты, на всякий случай пришлось уничтожить командный состав Красной Армии, находящийся под влиянием идеологии, как религии (в большинстве – назначенцы Троцкого).
Но, как уже упоминалось, правящие марксисты были уничтожены «почти». Верхушка оставалась у власти, хотя фактически признала верховенство российской государственности над идеологией. В течение двух лет были пересмотрены подходы к истории России, бывшие «царские сатрапы» стали национальными героями, а командармы генералами. Тем не менее, над верховными правителями нависла смертельная опасность, была видна половинчатось мер по отказу от принятой идеологии, на местах руководство и простые люди боялись слово сказать против марксизма и советской власти (наказание по 58-й до расстрела). Однако директорский корпус набирал силу. На 18-й партконференции (1940 г.) с отчетным докладом выступал Маленков, как представитель промышленной прослойки.
Находящихся у власти большевиков могла спасти только война. Гитлер подарил им это народное бедствие. Каким образом после войны у власти оказался троцкист, противопоставивший Россию всему миру, это очередной зигзаг истории, который, конечно же, обусловлен объективными факторами, а не исключено и субъективными. Объективные факторы: страна в разрухе, народ голодает, субъективные: промышленной прослойке (как и народу – лишь бы выжить!) не до политических разборок, кроме проблем с восстановлением промышленности, возникла угроза атомной бомбёжки, надо с нуля строить атомную и ракетную промышленность, а власть на местах (обкомы, райкомы) оказалась, в основном, у тыловиков, энкавэдешников и политработников, беспрекословно подчиняющихся центру, отважных фронтовиков у власти было мало. Изощрённый политик Джугашвили, превратившийся из большевика в государственника, пытался своими методами изменить курс – не удалось. Маленков и Берия также пытались это сделать, но марксисту-ленинцу, пламенному коммунисту, троцкисту Хрущёву удалось их устранить при мощной поддержке партийной верхушки (секретари обкомов), НКВД и верхнего командования армии (для них, как уже упоминалось, идеология равна религии, которая по их мнению приводит к сплочению солдатской массы).
Однако намеченные Маленковым и Берия мероприятия по усилению государственности и некоторому облегчению доли народной, хрущёвскому правительству пришлось проводить в жизнь, они обозначены в начале размышлений, хотя идеологическое враньё осталось – «коммунизм к 1980 году».
Приостанавливаю субъективные размышления о судьбах России, всё-таки на первом месте у меня шофёрские истории, к ним возвращаюсь.
Практику вождения на ГАЗ-51 вёл слегка тронутый на голову школьный инструктор. Он выбирал самые неблагоприятные условия для езды, ночь, слякоть, гололедица. Некоторые из девчонок выбирали для специализации не шитьё, как большинство, а технику. Помню, на одном из трудных участков Архангельского тракта (спуск с ледяной горки на мост и довольно крутой подъём с моста), маленькая, но отчаянная девушка Аня Пантелеева, побоялась взять разгон с горки и не переключилась вовремя перед подъёмом, в результате – стресс: на горке не сумела переключиться с высшей передачи на низшую (двойной выжим с перегазовкой), газик на середине скользкой горки на тормозах ползёт вниз, на мост! Но выучились, сдали экзамены на автослесаря в гараже и на права в ГАИ.
После школы в гараже Белоручейского леспромхоза мне дали ЗИЛ-164 после «капиталки» – хорошая машина мне, ещё восемнадцатилетнему, повезло. В дальние рейсы ездил редко, основная работа – подвозка дров на резервную паровую электростанцию «Сампо» (получена по репарации из Финляндии, как множество щитовых домов посёлка, большинство из них стоят до сих пор), а также разные работы по хозяйству: продукты из склада в магазины и от баржи на склад (например, возили водку от баржи несколькими машинами, в мой ЗИЛ входило 120 ящиков; весёлые рейсы, но веселье реализуется после последнего рейса – на возлияния ограничений у орсовских нет – списывают на бой очень много, в основном в свою пользу). Меня в питие мужики ограничивали: их по домам развозить надо.
Шофёру работать в те суровые зимы было непросто. Представлю моё типичное рабочее утро. На работу иду по гудку – паровуха «Сампо» зовёт. Одежда – валенки, ватные штаны, свитер, ватник, шапка-ушанка, шубные рукавицы. Ходу до гаража полчаса, мороз 30—40. Об антифризе и подогревателях говорить нечего, воду сливали. От «Сампо» был кипяток, но этого для заводки машины мало. По прибытии в гараж зажигаю три факела (ветошь в солярке), один под поддон мотора, второй под коллектор с карбюратором, третий под коробку. Факела горят пока хожу за кипятком, заливаю кипяток в радиатор и проливаю при открытых краниках. Выжимаю сцепление, фиксирую педаль припасённой палкой, несколько раз прокручиваю мотор «кривым стартёром». Не было принято хранить аккумуляторы в тёплом помещении (как в армии), поэтому на стартёр ни какой надежды, в лучшем случае – помощь при заводке вдвоём. Но заводили! Весной однажды – не могу тронуться, колёса примёрзли. Решил – рывком, в результате срезал болты редуктора заднего моста. Так вот и трудились шофёрики в леспромхозе.
Очень трудно приходилось лесовозникам. Та же морока с заводкой, причём вставали очень рано, чтобы успеть сделать два рейса. Рейсы очень трудные и опасные. Несколько десятков километров с возом длинномерных хлыстов выше кабины (более 15 кубометров, больше 15 метров длиной на прицепе-роспуске). Везут воз на пределе тяги мотора, на подъёмах МАЗы едва вытягивают на первой, при этом водители стараются разогнаться с горки перед подъёмом, на очень крутых уклонах тормоза еле держат, в оттепель риск огромный: юз, при сваливании в канаву надо успеть выскочить, иначе хлысты задавят тебя в кабине. Слава богу, меня сия чаша миновала, но брату Саше досталось сполна. К лесовозникам уважение у меня огромное, как к героям.
Брат работал на лесовозе уже в семидесятые годы. От сложной лебёдочной технологии отказались, но труд вальщиков и лесовозников не стал легче. В 70-е работали на валочных машинах советского производства: монстры на гусеничном ходу, стёкла кабины выбивались падающими сучьями в первые недели, грохочущий дизель рядом, как правило, со снятым капотом – для сугреву. Целые божий день по пням, валёжнику, ямам, болотинам – тело и душу выматывает.
В последние десятилетия появились канадские машины и шведские пилы, работать стало полегче, но и нормы подняли!
Появились добротные машины-лесовозы на базе МАЗ-500, полноприводные, с мощным дизелем классической схемы. Работа, в основном, по зимникам, вырубаются недорубы 30-60-х годов, зимники по болотам, но имеются и весьма опасные подъёмы и уклоны.
Режим работы: на машине работает бригада из четырёх водителей, вахтовым методом, т.е. на делянке в бытовке один водитель спит, второй за рулём, в течение суток меняются. Двое водителей – сутки дома. Водители – как правило, молодежь, для заработка машины рвут. Машина с завода в таком режиме разваливается через год-два. Брат мой водитель добросовестный, постарше основной братии, свою бригаду держал в руках, за машиной следили (вовремя ТО, перетяжки, не «рвать!»). Машина в его бригаде выдержала более четырёх лет, а леса бригада вывозила (я не поверил!) в 4—5 раз больше среднего – за счет отсутствия серьёзных ремонтов. Брату и его бригаде леспромхоз выделил по ВАЗ-2105.
Условия покупки машины в начале 90-х «конторские» придумали интересные: в Финляндию продают лес, но оплата нашими вазовскими машинами на территории Финляндии. С таможней и визами – «договорённость». Так мужики сгоняли к финнам и получили машины. Какие-то деньги за машины вычитали из зарплаты. Кстати, по словам местных жителей, в Финляндию жителей нашей местности (Карелия, Заонежье, Ленинградская, Архангельская, Коми) пускают без виз.
К слову о вахтовом методе. Однажды в Крыму разговорился я с буровым мастером, нефтяником с Уренгоя, проживающим в Куйбышеве. Было много слухов об их баснословных заработках. Парень сильный, симпатичный, семейный, двое детей. На прямой, не очень приличный, вопрос о заработке ответил – 700р. По тем временам (80-е) – очень солидно.
Обрисовал условия труда – примерно как у белоручейских лесовозников, только: заполярный круг, живём в железных бочках, почти непрерывно пурга и жуткий мороз, а летом гнус; работаем 2 недели и 2—3 дня на дорогу к семье. «Уже терплю на пределе, вынесу может быть года два». Да! «…трудно свой хлеб добывал человек…», как царский, так и советский. Но вспомним Александра Сергеевича с размышлениями Евгения «и всё же есть счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка!». В СССР таких счастливцев было более чем достаточно, особенно в столице нашей Родины. В начале 90-х векторы презрения низов (ниже – водителей шаланды) к власть предержащим и стремления «счастливчиков» к сладкому западному существованию совпали и Союз рухнул; «… распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину (КПСС), другим по мужику…».
Отступил, но продолжу.
Посёлок леспромхоза (пос. Депо) по понятиям севера довольно большой с населением более трёх тысяч. Неплохо обустроен: хорошо оборудованная средняя школа, больница, добротный клуб. И в настоящее время посёлок и люди в нём живут неплохо: леспромхоз построил и оборудовал новые больницу, школу, плавательный бассейн, спортивный комплекс, и даже церковь. Могут сказать – за счёт леса, так нет.
В районе до перестройки было около десятка леспромхозов В новых условиях большинство развалилось или нищенствуют, а «белоручейка» живёт неплохо. Всё дело в руководстве, леспромхоз всегда был на хорошем счету в лесной промышленности Союза, осваивал все новые технологии, держал «социалку», вёл взвешенную кадровую политику. Хотя мужики часто поругивают «конторских», но это руководству только на пользу. Надо отметить, что и при советской власти начальства рабочие не боялись, когда надо, критика была весьма резкой, зачастую с матерком.
В перестроечные годы и лихие девяностые руководство (по народной терминологии «конторские») выкручивалось как могло.
Приведу примеры. В Союзе леспромхозам было категорически запрещено заниматься переработкой древесины (в частности, распиловкой), а тем более реализацией, при нарушении могли и посадить. Но даже тогда находили обход. На узкоколейке аварии не редкость. Как правило, кувыркаются сцепы «зайчиков». При этом лес списывают как аварийный, а что хлыстам – то сделается. Купили, точнее «достали», списанную пилораму, привели её в порядок и начали давать товарную продукцию. Но в то время принцип «товар-деньги-товар» не работал, как уже упоминалось, за его реализацию можно было и срок схлопотать (пока ещё!).
Помогал бартер, за него (уже!) могли только снять с работы, но это уже не пугало. Технологию бартера знаю по словам брата. Он летом работал на дальних рейсах на шаланде или трейлере, для него даже был специальный КАМАЗ с усиленным мотором (ярославским МАЗовским дизелем, ставили на ЯМЗ, кабину КАМАЗа пришлось поднять).
Доски он вез в Ригу на мебельную фабрику, взамен – мебель; мебель – в Киев на завод пищевого оборудования. Таким образом, построили колбасный цех, сыроварню и, на радость мужикам, маленький пивной заводик. Эти производства часто спасали при отсутствии у предприятия денег на зарплату. Мужики были не против получать пиво, бабы – сметану, колбасу и сыр. Снабжение производств молоком и мясом и, говорили, даже ячменём, обеспечивало подсобное хозяйство. Построили собственные коровники, у соседних колхозов брали в аренду (конечно, за мизер и мзду) сенокосы, на сенокос нанимали рабочих, разумеется, из колхозников, но за достойную, по мнению последних, плату. Сейчас, конечно это ушло в прошлое, смысла нет, деньги давай и всё будет. Правда, сметану (для своих) делают, такой не купишь.
К началу нулевых леспромхоз закупил финское деревообрабатывающее оборудование, сушилки, построил мини ТЭЦ, работающую на отходах (даже опилки и сучья принимает). Пиломатериалы изготавливает по европейским стандартам, торгует с Европой напрямую: чудеса – у конторы леспромхоза стоят в очередь фуры с номерами западноевропейских стран.
Мужики как всегда матерят «конторских»: зарабатывают как вальщики, а дело знают плохо – построили нерентабельную ТЭЦ (сетевая энергия не дорога).
Отступление моё с размышлениями является обоснованием простого и древнего как мир суждения: кадры решают всё. На первый взгляд на вопрос – откуда берутся такие кадры? – нет ответа. Но поразмышлять на эту тему полезно, разумеется, с целью поиска ответа. На мой взгляд, на примере, Белоручейского леспромхоза можно разглядеть некоторые закономерности формирования стабильно работающего коллектива.
Это:
– Существование некоторого задела сплоченности, наличие хотя бы начальных признаков «души» коллектива, это в данном случае обусловлено исключительно тяжелыми условиями труда
– Наличие обычаев, традиций общения, обмена мнениями работников как по горизонтали (между собой на делянке, в цехе, конторе), так и по вертикали (вальщик – бригадир, и т.д., даже вальщик – директор), что в «белоручейке» всегда было нормой
– Положительное восприятие традиций поколением, вливающимся в существующую структуру
Размышления относительно условий труда. Казалось бы переход от двуручной пилы и «лучковки» к электропиле облегчил труд лесоруба.
Электропила К-5 отличное изделие наших конструкторов, уверен – лучшее в мире: корпус из легкого алюминий-магниевого сплава, выключатель на стойке высотой полметра, размеры и масса мощного электромотора минимизированы за счёт повышения частоты трёхфазного тока в восемь раз. Однако как посмотреть. За К-5 надо тащить на себе бухту кабеля и это зимой в снегу по пояс, часто под ледяным дождём. Мой одноклассник Иван Иванович Семёнов после армии работал вальщиком. Я как-то встречал его с работы во время своих зимних каникул – он, раздеваясь, снимал валенки, ватные штаны и телогрейку как скафандр, была оттепель с ледяным дождём, всё обледеневшее.
При переходе на бензопилы не стало кабелей, но пила «дружба» в 3 раза тяжелей К-5, при этом – мощный грохот мотора и вибрация, а для обеспечения среднего заработка пилу не выпускают из рук весь день с получасовым перерывом на обед из «голодаевки», ведь нормы регулярно повышают, «конторские» стараются. Это и есть эксплуатация человека государством. Человек против эксплуатирующего его другого человека побороться может, против нашего государства это невозможно.

