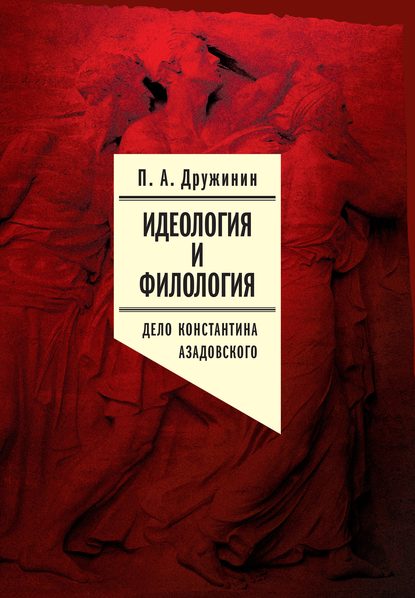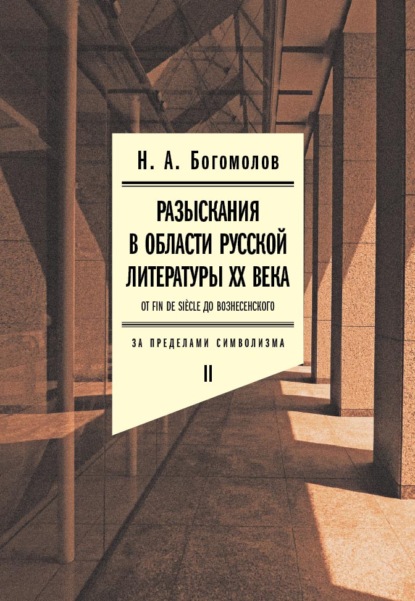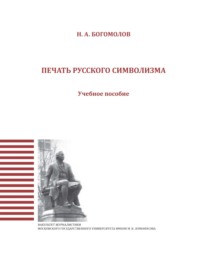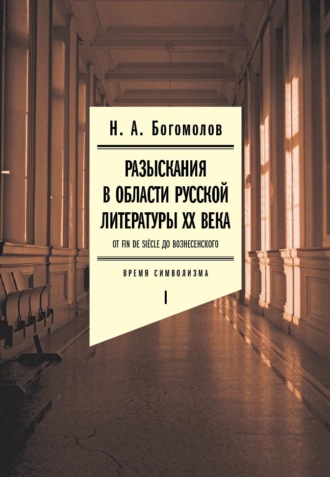
Полная версия
Разыскания в области русской литературы ХХ века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 1: Время символизма
Я как будто выздоровела. Боюсь себя сглазить. Видела Бакста, которого достаточно ругала и который внезапно умчался в Берлин. Совершенно неожиданно приехал к нам Боря Бугаев378. Вы, кажется, его средне любите? Скажите Ауслендеру, что насчет безграмотности это не я утверждаю, да и бездарности я не утверждаю, отнюдь! А точно: мне эта вещь показалась очень старой, очень обыкновенной, стиля же нет вовсе. Уму А-ра верю по вашей рекомендации – и только. Ну, простите, Валичка, ежели я опять что-ниб<удь> не так написала, но я была оч<ень> искренна, а «обмен мнениями» тем и дорог. Пишу вам с удовольствием, ибо многое выясняю кстати и себе из того, что мне скоро придется писать и о чем часто думаю. Считаю, что если выражаюсь для вас непонятно, – значит, скверно выражаюсь. Учусь.
Посылаю вам много нежностей и прощаюсь – с надеждой на ответ.
Ваша Зин. Г.24Суббота утром.Париж.Валичка, милый мой, ну что это, что вы «взаправду» обиделись? Просто не ожидала и стыжусь. Особенно дико, что в П<е>т<е>рб<урге> вы не обижались на Д.С., а здесь, когда он был смиренно добродушен, в сущности, да и не мог быть иным (у нас иные условия житейские, которых вы не увидали) – здесь вы обиделись на «хозяина (?) дома»!!
Я, ей-Богу, все-таки не верю, хотя Дима и уверяет, что вы «серьезно».
Приходите к нам завтра вечером, в воскресенье. Приходите часов в 9, чтобы не мучаться с извощиками потом.
И будьте вы проще, милый Валичка. Вы же чувствуете, что у меня есть настоящий кусочек чего-то очень хорошего к вам; – в моей душе – к вам. Может быть, на всем свете такого именно (по качеству, не по количеству) ни у кого больше к вам и нет, и надо это ценить, как я ценю сама.
Итак, до завтра.
Ваша Зин. Г.P.S. Баксту скажите (он еще остается?), чтобы он непременно как-нибудь зашел ко мне днем, часа в 4, 5. Спросите его, в какие дни он свободен. Скажите, что жену его379 я ругать не буду, ибо никакого к тому основания не имею (в глаза ее никогда не видала), а его – непременно буду, всячески, и не могу иначе. Честно предупреждаю; чтоб если боится, то и не приходил бы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ – В.Ф. НУВЕЛЮ114 Января 1901.Дорогой Вальтер Федорович, думаю, что мы все уже не то что не должны, а просто не можем, если бы и хотели, покинуть Философова. Именно со вчерашнего дня он не только Вам, но и нам стал как родной, и чем больше он отталкивает нас, тем сильнее мы его любим, даже не жалеем, а именно любим. Но я почувствовал вчера, что Вы его любите особенно, потому что лучше всех нас знаете. Ежели кто может его спасти, то именно Вы, и он весь на Вашей ответственности. Мало того, мне кажется, что и он Вас любит, хотя сам этого пока не знает, но непременно когда-нибудь узнает. Вас, впрочем, трудно узнать, это я на себе испытал. Но Философов для этого достаточно внутренне тонок и чуток, несмотря на всю свою внешнюю (притворную иногда и даже неискусно притворную) грубость и глухоту.
Итак, вопроса быть не может – уйти ли Вам? Я почти уверен, что без Вас никогда не придет к нам Философов. Вы неизбежный путь его к нам. И мы все уже настолько любим его, что без него нельзя нам быть. И зрителем мы его допустить не можем. Какой он «оглашенный»! Какие мы «священники»! Или ничего нет, или мы все равны, и даже не равны, а самые последние (поздние) должны оказаться самыми первыми380. Это не «смирение», – а логика, математика.
Вот насчет Гиппиуса381 и Бакста есть сомнения: если Философов уйдет, то почти наверное навсегда, ибо он действительно, как Вы сказали, «стар», и действительно страшно за него.
А Гиппиус, пожалуй, слишком молод и у него жесткость и кислота неспелых плодов, – просто ему, может быть, надо полежать. Если он уйдет, то почти наверное вернется, и тогда будет зрелый. Но, конечно, лучше бы и он не уходил, особенно теперь, для Философова. Бакст уже религиозный человек, как все евреи. Думаю, что он никогда окончательно не будет наш, но он может быть долгое время очень полезен и дорог нам, даже стоя около нас, почти против нас. Но не мешает ли он Философову? Как бы их примирить.
Знаете ли, – несмотря на почти невыносимую аскетическую мучительность вчерашнего вечера, он все-таки оставил во мне глубокое и сладостное чувство. Все чудится мне, что кто-то при дверях, на пороге другой комнаты действительно стоял и хотел войти382. И теперь от нас зависит, чтобы Он вошел.
А «искушения» даже вовсе не было, думаю, что в этом смысле искушения и никогда не будет, по крайней мере, для меня. Тут помогает мне мое сознание и некоторое знание: из-за чего же Нитче погиб так жалко, так стыдно: второй раз на этом сойти с ума нельзя! Думаю, что «приживальщик» с «хвостом, как у датской собаки»383 измышляет для нас какие-нибудь более хитрые искушения.
Чувствую себя совсем больным от вчерашнего, но очень бодрым и надеюсь, что приду сегодня к Розанову384.
Верю, что не надо говорить, – что Вы сами чувствуете, что мы, я и З.Н., любим Вас.
Д. Мережковский.А что делать с Перцовым385? Не виноваты ли мы перед ним? И если так, то как бы это исправить? Он мне, право, даже и мил, как родной!
24 Июня1901 Луга (Варш. ж.д.)Дача Пешкова № 1.Дорогой Вальтер Федорович, умирает или уже умер Л.Толстой386. В моей статье есть выражения, которые можно употребить о живом, но не о мертвом. Ввиду этого, пожалуйста, пришлите мне еще раз корректуру следующего, т.е. Июльского номера387. Я исключу то, чтó теперь не подходит. Это необходимо до такой степени, что лучше задержать номер или даже снова отпечатать статью, чем пускать ее в таком виде. Полагаю, что с этим согласятся и Дягилев, и Философов. Если надо, телеграфируйте им.
Слышал о смерти Вашего брата388 и глубоко Вам сочувствовал
Сердечно Ваш
Д. Мережковский.37.8.<1902>Дорогой Вальтер Федорович,
очень прошу Вас во имя общего дела доставить мне тот № Мира Искусства, где помещена моя статья «Целомудрие и Сладострастие» (об Ипполите Еврипида389), а также адрес художника Нестерова390. Простите за беспокойство, очень нужно. Пошлите и то, и другое в Лугу, имение Заклинье. Нестерову мы хотим заказать обложку журнала391.
Сердечно Ваш
Д.Мережковский.Год устанавливается по содержанию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 В.Ф. НУВЕЛЬ – Д.В. ФИЛОСОФОВУ1Дорогой Дима,
Что же это такое? Неужели снова недоразумение? В четверг я прождал Вас с 10 ч. до 1 ч. на выставке392, согласно посланному мной накануне письму, но Вы не явились! При этом ни слова объяснения от Тебя! Был ли Ты без меня? Если нет, то не хочешь ли встретиться завтра в воскресенье в 10 ч. в Русском отделе? Если да, то дай знать телеграммой. Если нет, то приходи во всяком случае днем, иначе Ты уже не застанешь нашей выставки, ибо она закрывается завтра.
Я нарочно не хочу Тебя на свою Conférence, ибо считаю ее хламом. Преступно сдался на упрашивания товарищей.
Целую Тебя. Твой Нувель.
Дмитрию Сергеевичу передай, что M-me Bord рада его видеть каждый вечер с 8 ч. 90, Avenue Niel.
Суббота, 10 / XI 1906.
222 / Х 1907.Дорогой Дима,
Вчера я собрался к Пирожкову393 (после того, что 1 ½ недели прождал ответа на мое письмо). Выяснить однако там ничего не удалось. Не ругай меня за бестолковость. Так, на расстоянии, невозможно решать за других. – Будь любезен, выработай сам план издания и почти – бюджет. Я, напр<имер>, не знаю Ваших намерений: хотите ли Вы, чтобы это было сугубо роскошное издание (цена 10 р. приблизительно) или Вы хотите лишь «более изящное» издание (цена 3–5 р.). Из этого же придется исходить. В первом случае нужны: особый шрифт, малое количество экземпляров, дорогая бумага. Во втором можно ограничиться лишь вставлением в прежний набор (это мечта Пирожкова) – иллюстраций. Теперь отосительно их самих. Что предпочел бы Д.С. – род документов для потомков (т.е. главные типы и костюмы, проекты декораций) или же настоящие иллюстрации без мысли о сценических условиях. – Покамест я еще не заказал, меня394 и то и другое соблазняет, но, раз избрав путь, будет трудно его менять. Решайте Вы за меня. – Решите также количество иллюстраций и характер их. Хотите Вы, например, «Buchschmuck»395, тогда следовало бы каждую «картину» начинать заставкой и кончать концовкой, следовало б<ы> сделать фронтиспис и какие-нибудь украшения в буквах над оглавлением и проч. Или предпочитаете Вы иллюстрации – в виде виньеток в менее значительных местах и в виде целых листов насупротив главнейших мест? Последние можно б<ы> сделать и в несколько красок. Я б<ы> даже просил мне дать советы о гонораре. Можно запросить 35 р. за виньетку и 100 р. за Vollbild396 (оригинальные мои) или это дорого? Лучше б<ы> всего Тебе выработать приблизительную смету. И сделай ее автократно, пришли мне ее готовой, дабы не тратить время на переговоры. Если же я найду чтó неладное, то извещу Тебя, и тогда поторгуемся. Нужно исходить из чего-либо готового. –
Когда же Вы возвращаетесь? Вы очень нужны нам – мне в особенности. Без Ваших коррективов я рискую сделаться однобоким, т.к. не выхожу из братии Кости, Валички, Аргутона, Кузьмина <так!> и проч.397 398 Не знаю, однако, получите ли Вы здесь что-либо. Правда, для меня закрыты целые (быть может, самые важные) сферы нашей жизни, а Вы как раз найдете к ним доступ. Но как будто и от этих сфер смердит тухлятиной. Нужно что-то совсем другое, но это другое так далеко и невероятно, что и мечтать о нем неловко. Русская действительность никогда еще не была такой плоской, уютной, коварной, циничной, безмысленной и загадочной, нежели теперь. Если б<ы> Вам удалось приглядеться к вещам ближе (это еще не значит вернее – где истина?), то Вас поразили бы самые несуразные не то мерзкие, не то милые сюрпризы. Для эстетического отношения есть во всяком случае материал, и я «смакую», как еще никогда. Не презирайте меня за это – черта эта в общем механизме и лишенная значения.
Целую.
Ваш В. Нувель.<Приписка к дате:> Какое-то ноября по-французски. – Увы, это все отсюда бесконечно далеко. И в Salon d’automne оттого не поехал. Где нам!
319 окт<ября> / 1 ноября 07399Мой милый Дима,
Мне хочется сегодня сказать тебе несколько слов. Мы давно не писали друг другу. Но за это время я часто и с любовью думал о тебе.
Неожиданная смерть Лидии Дмитриевны Ивановой поразила и взволновала меня. Стало как-то жутко, страшно и за себя, и за других, близких. И вот я хочу сказать тебе, что, несмотря на внешнее отдаление и на многое, разделяющее нас, – ты мне близок и дорог как прежде, и что память о прошедшем будет для меня всегда драгоценна.
Не отвечай мне, если не почувствуешь искренней потребности.
Просто мне хотелось, чтоб ты знал, что я не забыл тебя.
Любящий тебя
Валя.410 / 23. I. 1908.Дорогой Дима,
Твое письмо о смерти И.И. Щукина потрясло меня400. Что же это за загадки? Что привело его к самоубийству? Слышал я, что в этом году как раз кончился его многолетний роман. Кто кого бросил? Бакст уверяет, что она, как всякая француженка, должна быть похожа на пьявку: насосавшись, отпадает. – Если это так, то можно понять его душевную пустоту (хотя дама она была довольно несносная и не очень аппетитная). Но странно было уже то, что год назад он продал всю свою художественную библиотеку Голубеву401. Видимо, он начинал сбиваться, терять почву. Да и отношение его к коллекции за последнее время было странное: он перестал в нее «верить»402. Несмотря на то, что «принято было» его не любить, у меня сохранилось после этого моего пребывания в Париже скорее приятное воспоминание. Он очень изменился сравнительно с прежним. Но эта перемена и повела его к смерти. Во всяком случае, трагический конец этот сообщает ему теперь ореол. «Не всякий» отравится. И если следует считать самоубийство малодушием по сравнению с тяжелым подвигом вынести сознательно свою жизнь до конца, то с другой стороны самоубийство – акт глубокого героизма и красоты в сравнении с тусклым прозябанием и унизительным закрыванием глаз. И.И. вырос теперь для меня в неожиданную высоту, и я думаю, Ты это чувствуешь тоже. Я думаю тоже, что Тебе не только совестно перед ним, но и жаль того, что не оценил человека, быть может, достойного. И себе и Вам даю на будущее время совет: будем внимательнее и шире. Возможность заложена во всяком и всякий может дать, нужно только уметь спросить.
Дорогой, у меня совсем не клеится с иллюстрациями для «Павла». Не лежит душа да и времени нет. Все же почти все набросано, а 3 доведены до конца. Ими я недоволен. Теперь же узнал, от «Шиповника»403, что у Вас идут переговоры с ним. С другой стороны, от Пирожкова ни звука, он меня не торопит, а я нуждаюсь в подстегивании. Выясни этот вопрос.
Как отнеслись французы к Вашей книге404? Завелись ли вокруг нее какие-нибудь новые отношения? Я ее теперь читаю. Когда прочту до конца, то, если захочешь, выскажусь. Я вообще не считаю себя (и всякого друг<ого>) вправе лезть со своим мнением. Таковое бывает иногда слишком некстати.
Целую Тебя. Жду Твоей статьи в «Руне»405, но боюсь, что издали Ты совсем не разобрался в том, что тут делается. Пиши.
Любящий Тебя
В.Нувель.ЦЕНЗУРА, АВТОЦЕНЗУРА И РЕДАКТУРА: ЗИНАИДА ГИППИУС В «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСКАХ»
11 июня 1931 года в парижском литературно-философском обществе Мережковских «Зеленая лампа» прошло заседание, посвященное не сразу понятному вопросу: «У кого мы в рабстве? (О духовном состоянии эмиграции)»406. Вступительное слово делал Георгий Иванов, и он практически с самого начала своей речи заговорил о цензуре и автоцензуре. Точнее, в обратной последовательности: «Сама собой установилась и забирает все большие права строжайшая самоцензура, направленная неумолимо на все, что выбивается из-под формулы “писатель пописывает, читатель почитывает” <…> Кто же установил эту цензуру? В том-то и ужас, что “никто” – сама собой установилась»407.
Отвечая ему, Зинаида Гиппиус формулировала вопрос резче и гораздо более внятно: «Иванов увидел факт: писатели находятся под чьей-то цензурной лапой. Как? Здесь? При такой свободе – и вдруг цензура, да еще хуже, чем Николаевская? Странное явление! Иванов стал смотреть вниз: от читателя, что ли, цензура? Нет, не от читателя»408. И ответ на него тоже был гораздо более резким: «Реальное положение зарубежной литературы таково: вся пресса, говоря серьезно, сводится к двум газетам и одному журналу. <…> Литература, зарубежные писатели – свободны как никто. Откуда-то цензура? <…> от них, от владельцев и редакторов нашей скудной зарубежной прессы»409.
Нетрудно понять, что здесь имеются в виду две газеты – «Последние новости» и «Возрождение», и журнал «Современные записки», единственные, которые выходили регулярно, в центре русской диаспоры, имели стабильно значительный тираж и, что важно не в последнюю очередь, могли платить не грошовые гонорары. Гиппиус имела все основания судить о том, что́ эти издания представляли собой, поскольку так или иначе сотрудничала с ними со всеми. Но ни с одним из них ее отношения не были идеальными.
Однако, чтобы с основательностью делать какие бы то ни было заключения на этот счет, необходимо взглянуть вообще на проблему взаимоотношений Мережковских с современной им периодикой.
На протяжении долгого времени Мережковские искали печатный орган, где могли бы чувствовать себя свободно, но все время оказывались на втором плане. В «Северном вестнике», где их довольно продолжительное время привечали, у руля твердо стояли А. Волынский и формальный редактор журнала Л. Гуревич. «Мир искусства» был все-таки журналом в первую очередь художественным, да и С. Дягилев вовсе не склонен был передоверять руководство другим людям. «Новый путь» оказался под двойной цензурой, церковной и светской, поэтому приходилось сдерживать не только свое перо, но и перья других авторов. Планы на редакторство в 1908–1909 гг. также или не реализовались, или обернулись слишком кратковременными эпизодами. «Голос жизни» (1914–1915) получился весьма мимолетным. То же относится и к эмигрантскому периоду: небольшие журналы, вроде «Нового корабля», долго не могли продержаться на поверхности, а большие (как «Современные записки»410 или «Числа») вовсе не спешили отдать Мережковским лидерство. Думается, на деле это было вызвано вовсе не злоумышлениями редакций. По складу своего характера и творческих способностей ни Гиппиус, ни тем более Мережковский, не были способны к сколько-нибудь продолжительной и упорной журнальной (не говоря уже о газетной) работе. Оказался способен Д.В. Философов, но это по-настоящему обнаружилось только в варшавских русских изданиях, где он стоял у руля.
Обратим внимание, что единственный журнал, где они были движущей силой, продержавшийся сравнительно долгое время и относившийся к категории классических толстых журналов, – это «Новый путь» (1903–1904), да и то последние номера уже выпускались новой редакцией. А ведь там редактором были Философов и опытный журналист П.П. Перцов, а в повседневной работе им помогало много добровольцев. Все же остальные издания выдерживали совсем краткое время. И даже заведование литературным отделом «Русской мысли» оказалось им не по плечу.
Если в первые несколько лет после бегства из Совдепии Мережковские, как кажется, не очень выбирали, где именно печататься411, то с 1923 г. они сосредоточиваются на публикациях в изданиях хотя бы относительно демократической направленности: парижские газеты «Последние новости» и «Звено», берлинские «Дни», варшавская «За свободу!». В «Последних новостях» Гиппиус начала систематически печататься с июля 1922 и продолжала до мая 1927 г., но потом последовал интервал до августа 1931, т.е. больше четырех лет. И с марта 1936 г. сотрудничество с ними затухает вновь. Против позиции «Возрождения» на первых порах она решительно протестует, однако после ухода из газеты П.Б. Струве с декабря 1927 г. Мережковские переходят в эту консервативную газету, существующую под довольно аморфным руководством разных людей, из которых им приходится иметь дело чаще всего с С.К. Маковским и Ю.Ф. Семеновым. Мережковский так и будет печатать свои уже нечастые публицистические статьи преимущественно в «Возрождении», а Гиппиус расстанется с ним в 1929 г. и вернется в «Последние новости», в двухгодичном промежутке печатаясь еще в «Сегодня» и «За свободу!». На этом фоне их сотрудничество с СЗ кажется почти что безоблачным.
Гиппиус впервые напечаталась в журнале в № 10 за 1922 год, а последний – в предпоследней книге журнала в 1939 году. Мережковский впервые появился в № 15, а в последний раз – в книге 58. Но если присмотреться внимательнее, то окажется, что все было далеко не так просто. Гиппиус-поэту в сотрудничестве не отказывали вообще практически никогда, стихи она могла печатать, сколько хотела (другое дело, что публиковала их далеко не всегда). А вот литературную критику и публицистику – с большим разбором и с большими перерывами. Большие и серьезные ее статьи, появившиеся в СЗ, – две «Литературные записи» (1924, № 18 и 19), «Оправдание свободы» (1924, № 22), «Меч и крест» (1926, № 27). Вот фактически и все. Единственная небольшая статья более позднего времени – «Авантюрный роман» (1931, № 46) – была лишена какой бы то ни было литературной или общественной злободневности. Остальное – воспоминания, рецензии, некрологи. Литературные произведения Мережковского не встречали препятствий к напечатанию, наоборот – редакция высоко ценила его сотрудничество, но публицистика вообще не печаталась в журнале, за исключением единственной статьи – к столетию восстания декабристов.
Причину этого М.В. Вишняк усматривал в одном, но главном обстоятельстве: «Мережковский и Мережковская-Гиппиус не довольствовались своими литературными и поэтическими достижениями. Они претендовали на большее: на водительство, литературно-художественное, религиозно-философское, общественно-политическое»412. Более чем понятно, что такой претензии редакция журнала не хотела и не могла принять. Особенно неприемлемой для СЗ была, конечно, позиция Мережковского. Она достаточно хорошо известна413, поэтому приведем лишь одну затерянную в газетах эпохи цитату: «Вы говорите, о политике нельзя? Но о русской литературе трудно говорить вне политики… Кто-то нашел, что для спасения России нужно соединиться с большевиками… Нет, не о спасении одной России надо думать. Помните у Блока: “Мировой пожар раздуем”?.. Кто знает, быть может, страдания России нужны для спасения человечества… Голос Мережковского крепнет, звучит пророчески. Впалые глаза загораются странным блеском, всматриваются куда-то в глубину, в царства Антихриста… Много позже, на улице вспоминается: “Спасение мира другие народы кончат, Россия начнет”»414. Политика, в разных ее преломлениях, была для него чрезвычайно важна, однако ее направление явно входило в противоречие с устремлениями СЗ. Но дело, кажется, было даже еще сложнее, и это вполне вырисовывается из переписки Гиппиус с редакторами СЗ415, которая сохранилась далеко не полностью, но все же насчитывает порядка 200 писем и в значительной своей части касается именно редакционных вопросов, в том числе цензуры, самоцензуры и редактуры. Наши размышления отталкиваются именно от этой переписки416.
Воспоминания Гиппиус «Маленький Анин домик», напечатанные в 17 книге журнала и бывшие ее первой не стихотворной публикацией там, никаких видимых последствий не вызвали. Но уже следующая публикация, подписанная Антоном Крайним, – «Литературная запись. Полет в Европу», спровоцировала невероятный скандал и принесла немало неприятностей издателям. Они были вынуждены отвечать и на замечания П.Н. Милюкова417, на гневное письмо С.С. Юшкевича, появившиеся в «Последних новостях»418, и на письмо своего активного сотрудника Ф.А. Степуна, которое он отправил в редакцию журнала419, и иметь в виду позицию «Воли России»420, а также критиков статьи, опубликовавших свои письма в варшавской «За свободу!»421, и т.д. Даже М.В. Вишняк, внешне солидаризовавшийся с позицией Гиппиус422, в частном письме к ней, написанном 26 января 1924 г., очень решительно упрекал ее в несправедливости и предвзятости многих характеристик. Конечно, голоса протеста были не единственными: многие с удовольствием поддержали хотя бы часть обвинений, выдвинутых в этой статье. Но для журнала статья была в общем невыгодной: поднявшийся шум вовсе не способствовал укреплению репутации его как объективного, взвешенного органа как в политике, так и в литературе.
В какой-то степени такое развитие событий стало неожиданностью для редакции. 25 декабря 1923 г. Фондаминский писал Гиппиус почти что с восторгом: «Несмотря на то, что ты всех наших сотрудников сильно обижаешь, статью твою почти не тронули – только выпустили несколько строк об уголовных деяниях Горького (не под стиль журналу). Да и то просили меня заступиться, если ты рассердишься. Я ужасно радуюсь, что ты будешь вести свою “Литературную запись” и что первая статья редакции так понравилась» (Т. 3. С. 225).
Однако Гиппиус, судя по всему, даже такое вмешательство сочла цензурным, о чем и написала Фондаминскому в ответном письме, которое нам неизвестно, но ответ на которое вполне раскрывает суть дела: «Ты сердишься на цензуру. Насколько я знаю, цензура заключалась в том, что тебя просили выкинуть несколько строк и смягчить несколько отзывов о 2–3 наших сотрудниках. Если это цензура, то что же такое редакция? И как же ты могла быть годы цензором, издавая свой журнал?423 И как можно издавать журнал, не приводя весь материал в к[акое]-то хотя бы очень расплывчатое единство?» (Т. 3. С. 231; письмо от 11 января 1924).
Именно исходя из этой общей позиции Фондаминский защищал Гиппиус в письме к П.Н. Милюкову, отстаивая обвинение в адрес Горького в поддержке изъятия материальных, а не только духовных ценностей424, Вишняк и Гиппиус написали письма в «Последние новости», где объясняли позицию журнала и свою собственную, и так далее. Но урок на будущее был редакторами усвоен.
Когда Гиппиус собралась писать продолжение «Литературной записи» с подзаголовком «О молодых и средних», уже в самом первом письме Фондаминский предложил ей «честный договор», состоявший в следующем: «Будем вести дело непосредственно друг с другом. От тебя не требуется “аполитичности”, но ты сама знаешь, какую “политику” мы можем вытерпеть, какую нет. О темах будем сговариваться мы с тобой. Рукопись ты будешь присылать мне. Ты сама понимаешь, что более “либерального” редактора ты не найдешь. Если я тебя попрошу ч[то]-н[ибудь] устранить, ты мне поверишь, что этого мы “вместить”425 не можем. <…> Если ты почувствуешь, что тебе тесно, ты “Запись” прекратишь. Но, ради Бога, не надо “контрабанды” и “обхода цензора” – между нами этого не должно быть. Потому очень тебя прошу сообщить мне, о чем ты будешь писать (я думаю<,> о “Коне Вороном”426) и, если тема подходящая, принимайся теперь же за писание, чтобы успеть прислать мне рукопись» (Т. 3. С. 248).