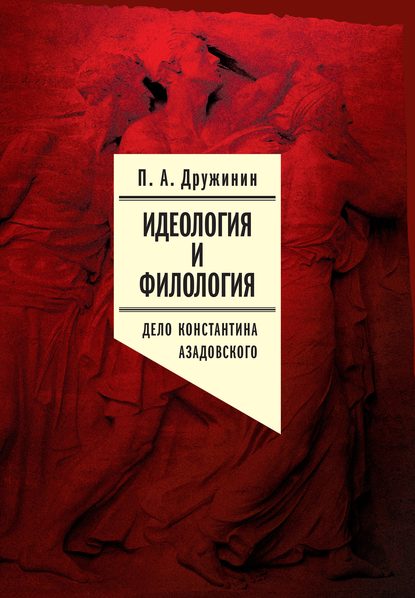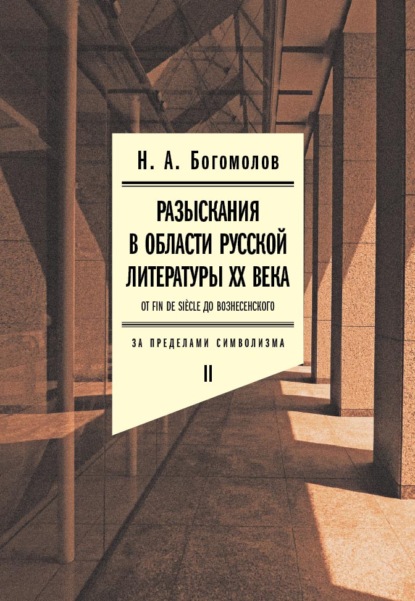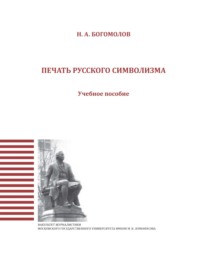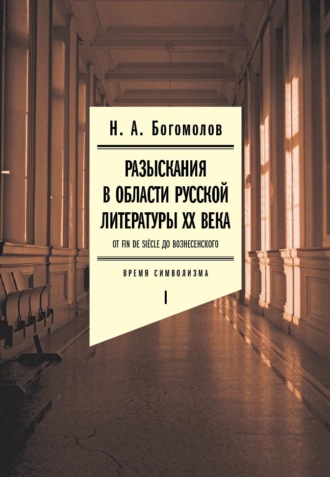
Полная версия
Разыскания в области русской литературы ХХ века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 1: Время символизма
Все петербуржцы в экстазе и страстях: солнце сияет, штандарт скачет, Кареев развевается, кадеты торжествуют342. Отчасти есть какое-то глупое чувство зависти (а может, и не глупое) – и Париж кажется уныл. Но особенно унылы русские, – наша, близкая всем нам братия. Обшарканный мэоно-социалист Минский, ждущий амнистии (и кой черт он из нее получит?) и не знающий, что ему делать «со своей девой», которую никто замуж не берет – философией мэонизма343. Склонный с горя (или по легкомыслию) начать сызнова ухаживать за мной. Бела, впавшая уже в кретинизм от страха ко мне, назначающая напрасные свидания Дм. С-чу в Café Soufflet344. Бальмонт, серый и злобный, без всякой игры (cтоит быть Бальмонтом, чтобы ютиться все-таки со своей седой и унылой Екатериной345, а «метреску-Елену» – как говорит жена – селить в пансионе рядом!). Наконец, Бенуа, у которого мы с Димой были в прошлое воскресенье. Сегодня он у нас обедает между каким-то концертом с Нуроком346 (сего не видали!) и лекцией Бальмонта «О мертвых костях»347. Ну, мы на эти кости не пойдем. У Бенуа такая миквища348, что мы к концу визита почти сознание потеряли. Что от него требовать после этого? Кишение детей в крошечной квартирке, среди пыли, беспорядка и грязи обезьяны, которая непрерывно пищит, непрерывно мучимая детьми, как ни зычно кричит Анна Карловна349, «вполне посвятившая себя детям». В столовой же и брачная постель, накрытая турецкой шалью; постель, пожалуй, достаточно широкая для поцелуя, но отнюдь не для сна двух индивидуумов. Вашего возлюбленного Смирнова (он там) я не видала, но он «друг детей» Бенуиных. По-моему – мертвая собака350! Извините.
У нас чудесное «хозяйство». Ничего нет, в салоне – только ящики, но просторно, чисто, культурно и светло. Целыми днями не видаемся. Чтобы пройти к Дм. С. – мне нужно победить массу пустого пространства. Вообще живем в наивысочайшей роскоши. Мебель (minimum) только салонная. Под балконами платаны, совсем еще весенние. Но при этом романтизма в нашей жизни никакого; я и ненавижу его351.
Вас, кажется, Бердяев возлюбил, Валичка? Правда ли? А вы его, тоже? Или нет?
Простите… или нет, извините это сплетническое письмо. Что Бакст? Он все зовет Белу «на родину». Не стал ли кадетом? Ну, довольно, однако. Все-таки жду поощрения.
Зиночка.17<Печатный адрес>19 Июля <19>06.«Дима совсем перестал писать. Напишите, пожалуйста».
Ах, Валичка! Вы знаете, как я уважаю ваш верный интерес к Диме, но все же я не могу согласиться не существовать, – даже и для вас. В данном случае вы погрешили против Канта: сделали меня средством, а я человек. Следовало бы наказать вас, написать вам длинное метафизическое письмо о собственных моих отвлеченностях… но я не зла и сострадательна. Да и письмо ваше такое забавное и остроумное, что я объективно прочла его с удовольствием. Дима не с меньшим, я думаю. Послезавтра мы едем в Бретань, в какую-то дыру352, откуда пришлю вам карточку с адресом, даже если бы Дима не прислал. Я уж верная, и вы это отлично знаете. За неимением непосредственных известий – все-таки и я могу служить.
Никого из вам известных людей не видим, да и вообще последнее время мало кого видим. Париж пустеет. Особенно русских мало. Но мы (главным образом, Дима) заняты анархистами-либертэрами353. Кроме Армана и его кружка (эти наши общие и бывают у нас) – Дима ходит во все отъявленные <так!> редакции и грызет Жанов Гравов и т.п.354 Д.С. пишет статью для сборника355, а мы с Димой ругаемся и спорим о синдикализме, причем он мне доказывает, что я ничего не знаю, а я ему – что он ничего не понимает. Часто после столь плодотворно проведенного дня мы вместе отправляемся – кто в Marigny, кто в иного сорта «притон», кто просто на бульвары. Меня один раз Д.С. поймал на бульваре в непоказанный час и долго бранил, что я попаду в участок и «опозорю его имя». Но я твердо верю, что мой дух парализует мою юбку – раз, и что даже если бы и не для всех, то и с «женщиной» беды не случится, если она к ней не стремится.
Ах! Видели Сержа Волконского356, Дима встретил его на бульваре, а потом он у нас был (М<ожет> б<ыть>, Дима вам писал уже?). Ходячий ужас. Заживо разлагается, равно плотью и духом. Этот не из «ничтожных», как вы (помните мою терминологию «научную»?), а из «несчастных». Не первый он разлагается на моих глазах. Но – извините, Валичка, – по науке выходит, что и «ничтожные» недалеко уехали. Страшно много любопытного я тут узнала через Мечникова357 и моего доктора, который лечит мою съехавшую с места почку.
Чулкова не читала, но буду читать и даже ругать в «Весах»358.
Раньше времени не злорадствуйте, Валичка, читая описание нашей парижской жизни. Сначала подумайте, может быть, что это я все просто для вашего утешения написала, из жалости. Я ведь добренькая!
Зин. Г.18<Печатный адрес>4.9.<19>06.Милый мой Валичка, я вам не отвечала долго, потому что не хотелось. А не хотелось, потому что как-то очень мне не нравится тон ваших писем. Может быть, больше – может быть, весь тон нашей переписки не нравится. Видите, я беспристрастна. И менее всего хочу обвинять вас.
Но виноваты ли мы оба или никто не виноват, – факт налицо, и я думаю о том, что бы тут сделать. Есть, конечно, лишь два средства: или изменить тон, или прекратить переписку. Которое вам больше по душе? Я, с своей стороны, готова попытаться сделать первое, и в случае неудачи перейти ко второму. Я не предполагаю непременной неудачи. Ведь все-таки мы с вами люди неглупые, да и простоты в нас, ей-Богу, больше, чем это иногда кажется. А в тоне нашей переписки есть какая-то дурного тона непростота, которая, может быть, какими-нибудь отношениями, или положениями, или временами, или возрастами и бывает оправдана, но только не нашими. Никаких у нас таких оправданий нет, а потому мы и могли бы, уж если переписываться, то с бόльшим умом, грацией и пользой, нежели делаем это.
По-моему, вы согласитесь со мной. Сами, я думаю, видите, что «не того».
А что вам революция сделала, что вы пишете о ней с таким старательным презрением? Ведь нельзя же презирать безумие за то, что оно цельное и круглое, а не «благоразумное полубезумие»359? Я знаю, хорошо знаю, помню, что вы не «презираете» ни безумия, ни смерти. Так зачем вам понадобились эти лишние слова, – которые, впрочем, меня не огорчили. Просто лишние, в самом совершенном смысле.
Напишите, Валичка, (если напишется) обо всех людях, которых видите (ну, конечно, не обо всех – это преувеличение). Но о некоторых. И неужели, вообще говоря, у вас нет ничего, что бы вы могли сказать только мне, только мне бы подходило? – Думаю, есть ли у меня такое, что бы вам только подходило? Размышляю… нахожу. Но для этого надо тон писем изменить. И признáюсь, что на это потребуется труд. Однако не пожалею труда. А вы?
Зин. Г.Такая африканская жара, что мы сидим 4 дня в плену, ни шагу из дому. Даже уехать нельзя.
19<Печатный адрес>14.9.<19>06 г.360Милый Валичка. Какой вы смешной! Ведь «учить» это и значит «давать». (Надо знать, как учить-давать, но это уж другой вопрос. Я никогда не стану бескорыстной, всегда буду стремиться «получать» – но я не вижу, почему должен наступить момент, когда никто мне ничего не будет давать, никто не захочет меня учить? Или не сможет, хотите вы сказать? Не думаю, чтобы я дожила до этого. Пока, во всяком случае, даже и вы очень щедры ко мне. И оказались на этот раз даже в положении для вас хоть и не «самом худшем», но все-таки мучительном: вы даете (учите), а сами не хотите получать, да и действительно не получаете, должно быть, потому что я готова, по всей доброй воле.
Я не обижаюсь вашей жалостью, ведь это я же вам первая и сказала, что для вас вместо любви – есть жалость. И это хорошо, пусть тот, кто не знает любви, хоть жалостью дышит. Все-таки дыханье. Жалость, обращенная ко мне, не спасает меня, но и не вредит мне; я просто не чувствую ее; но вам, конечно, этот цветок в душе всегда должен давать кой-какую радость лишнюю.
Что касается стремления к неодиночеству – то ведь это стремление всечеловеческое, вечное и бесспорное. И оно же – и ваша тоже сущность. Разница лишь в силе устремления, а затем в средствах, к которым прибегаешь. Кроме того – я еще требовательна. Я хочу не-одиночества <так!>, обусловленного известным одиночеством, т.е. сохранением личности. Иные, отчаявшись, идут на эту уступку – ну и получают легче и скорее меня. Я знаю, что цель моя в полноте недостижима. Что из этого? Есть более и менее. И мою надежду на более я не отдала бы за вашу всю уже имеемую вами радость. – Вот вчера на лекции Минского361 видела Смирнова. Подошел к нам с Димой и сказал: «Здравствуйте, я здесь не бываю, я не занимаюсь социальными вопросами, я работаю и очень счастлив, я так счастлив, как даже в СПб не бывал. Ну, до свидания». И ушел, страшный, с мертвым лицом (как никогда даже в СПб), с мертвым голосом. Нам сделалось холодно и больно. А ведь это из области «вашего счастья», Валичка! Я вас не люблю, но так как умею любить вообще, то и не жалею вас; но просто иногда делается по человечеству больно, – от этого чужого «счастья». Тем более, что знаешь вашу исступленную стыдливость насчет не счастья и червонность истинную, не ту, в которую вы наряжаетесь. Вам кажется, что необходимо показывать радость, быть счастливым, до такой степени въелось в вас декадентство и беспомощность. Вы так боитесь жалости, что даже если б и не умели обманывать себя – обманывали бы других. Смирнов обманывает себя, но слишком неискусен, чтобы обмануть других, и мертвая маска его сразу обличает его. А вы, конечно, готовы ради себя верить и в смирновское счастье. Вы уже требуете от всякого непрерывное (надрывное) исповедание «счастья». Мое трезвое спокойствие вы принимаете за «беспросветность» и советуете мне резиньяцию с таким жаром, как будто вы тут чего-то касались собственным опытом… Нет, я революционерка и на резиньяцию не пойду, что бы она мне ни сулила. И мое средство для достижения не-одиночества – я считаю единственно верным. Не усумнюсь в том, если и не успею сама пройти весь курс лечения и не вылечусь. Рецепт оставлю. Другие успеют больше меня.
Жалость, по-моему, ожесточает человека à la longue362. В вашем письме чувствуется, хотите не хотите, ожесточение. А какая уж радость при жесткости.
Нет, не заражайте меня. Вот Смирнова заразили… нет, нет, не дай Бог эдакого счастья. Право, он очень страшный. В заключение скажу, что я не хвалюсь знанием вас вполне, но лишь кое-что знаю, и знаю, что оно – хорошее.
Ваша Зин. Г.20Дорогой Валичка!
Вы так близко – и так до сих пор недостижимы! Неужели не приедете на денек – на два? Погода дивная, а что здесь дивно – вы знаете.
Я не сомневаюсь, что все равно скоро вас увижу, может быть, раньше даже, чем Дима (ведь он едет отсюда в Амьен363) – но мне хотелось бы скорее, да и «на земле» я вас ни разу не видала. Может, совсем иначе на вас посмотрится – и не забудется.
Не пишу вам больше, во-первых, потому, что всякие письма – прах и тлен, а во-вторых – рука не ворочается, кончаю мучительную и отвратительную статью, которая мне самой опротивела до чертиков364.
Вот кончу – тогда на день влюблюсь в нее.
Что же, надеяться нам на явление ваше или покориться? Черкните открыточку.
Еще вот что: хотя я и не предполагаю серьезно, что на выставке будет мой портрет Бакста en Mlle de Maupin, однако на всякий случай передайте ему (где он?), что у меня определенное и незыблемое желание этого портрета больше ни на какой выставке не знать 365. Не правда ли – вы ему это скажете?
А засим прощайте, и еще раз – приезжайте. Я понимаю, что свидевшись со Смирновым после столь долгой разлуки, вам трудно и на день от него оторваться, но принесите все же эту жертву нам, если сможете!
Ваша Зин. Г.Pierefonds
1.10.<19>06.
21[Штемпель:] 8.10.<19>06.Понед<ельник>Валичка, жду строчки, завтра веч<ером> на Th. Gautier, о том, когда, в какой час можете прийти к нам в среду, послезавтра. Выбирайте, что удобнее вам: к завтраку (в 1 ч.), в 4–5 дня, обедать (в 7) или вечером. Мне одинаково, только известите. Если вы «лежите в постели», – я приду к вам, как Смирнов366. Объяснюсь!
Дима уехал в Амьен. На всякий случай просил вам передать одну вещь.
Итак – до среды.
Ваша Зин. Г.Открытка.
22<Печатный адрес>13 Ноября <19>06.Валичка, милый, не только я не «сержусь» на ваше письмо, а даже оно меня радует и утверждает. «Маврушка» дала вам именно те мысли, которые я вполне с вами разделяю, которые я в эту повесть и заключила367. Только вы их мне преподносите в виде возражения – тут, может, и моя вина: хорошо выразила, да не в совершенстве ясно. Это я готова признать.
Так вот вам «послесловие».
Вы говорите, что у Влади не мужская, а женская психология. Это как раз то, о чем я наиболее думала, чего наиболее сознательно желала достигнуть. До чистоты, до схематичности; которой, конечно, не бывает в природе, – я и тут с вами согласна; и даже ваше предположение, что один, может быть, найдется, – отвергаю. Ни одного такого нет, наверно. Вы, Валичка, как-то не так на литературу смотрите, как я. Спорить, кто смотрит вернее, можно, но это уж второе; признать же, что возможно существование другого, – моего, – взгляда и понять его – вам все-таки надо. А я смотрю так, что в литературе я даю в чистом виде то, чего никогда в жизни в чистом виде не бывает, и не бывало, да и не может, вероятно, быть, а потому литература всегда – жизненная невозможность. Она очень нужна для человека, ибо по ней очень ясно, что известные точки в жизни есть, и однако литература одно, а жизнь совсем другое, и хорошо, что так. На что мне литература как отражение жизни! Уж лучше тогда одна, сама жизнь, и никакого ее подобия рядом (литературы) не надо. И не мечтанья даже о жизни, ибо я отнюдь не хочу, чтобы жизнь стала подобной какой-нибудь литературе, моей или чьей другой, – отнюдь! литература просто сопутствующий указатель, уяснитель, схематизатор того, что часто без схемы трудно видеть, а надо видеть, что оно есть. Понятно ли я пишу? Повторяю, вы можете не соглашаться, я только хочу, чтобы вы поняли мой взгляд и ощущение.
Теперь далее. Вы опять совершенно правы, утверждая, что половое чувство уничтожается благодаря совместной жизни с детства брата и сестры. Вы даже формулируете точно и сжато далее одну из главных мыслей, которую я определенно и старалась выразить в «Маврушке»: «Большинство педерастов росли в детстве вместе с девочками» (пассивных, прибавим мы, схематизируя). Я, Валичка, поцеловать вас готова за то, что вы это поняли. Да ведь я же и хотела показать, что росли они «как склеенные» (тоже схематично взято, чисто, как не бывает), и оттого-то и – не сестра ему стала женщина, а «женщина» ему стала сестра! Сестра Вера не могла и отнюдь не возбуждает в нем полового чувства, отнюдь! Но Маврушка ему сестра, вот что хотела я сказать! С его «женской» психологией» – соединение с женщиной ему должно казаться физиологически столь же чудовищным, как «нормальному» мужчине с мужчиной. – Конечно, сто раз конечно – этого всего нет в жизни, ибо это «чистый вид», схема, а жизнь не схема (и не литература). А что это схема существующего – вы отрицать потому не можете, что сами это же говорите; почему не увидели нашего согласия в «Маврушке», через нее – я не знаю, готова, пожалуй, и думать, что плохо выразила, неярко, неясно. Но мне казалось – намека довольно для того, кто уже сам в тех же мыслях.
Может быть, «слог» вас спутал, не «понравился»? Часто многое просто «не нравится», и тут уж какие же споры, это область «несказанных» убеждений, внутренних «вкусов» души – или темперамента. А что лежит в области разума, мыслей и построений – то я вам, как могла, изъяснила, и наше тут «согласие» нисколько не страдает и не может пострадать от вашего «не нравится».
Веру, сестру героя, я совсем не делала; я к ней еще, может быть, вернусь. Вернусь когда-нибудь и к схеме обратного раздвоения – т.е. когда не в одном человеке два «я» (что мы уже наблюдали, и в жизни, смешанно – и в литературе, вполне), но когда в двух людях одно «я». Я кончаю «Маврушку» намеком на это.
Не стою я, Валичка, за мою фактическую литературу, но за мое отношение к ней – очень. Если оно неверное – все равно оно имеет же свое raison d’être368.
Ауслендеру напишу, с удовольствием, но сначала вы скажите, что вы там насплетничали, что я чту? И сколько, определенно, ему лет? И какой он, определенно? Как Бакст, как вы или как Сергей Волконский? Или еще «?»369
Я, Валичка, больна (чахотка моя обыкновенная), злюсь на себя неимоверно, упираюсь жить и думаю, что непременно выживу. Я ведь как кошка: сбрось ее с 5 этажа – покашляет, почахнет, взъерошенная – и опять такая же. Вы мне тоже стали милее после нашего свидания, прозрачнее как-то, и письма ваши хорошие. Напишите поскорее.
Во многом вашаЗин. Г.«Бедный город» усиливаюсь не отвергать ожесточенно, но, кажется, скоро скажу: «пас»: сил никаких не хватает370.
23<Печатный адрес>5 Ноября… Тьфу, декабря! – <19>06.……………………Вера
– И я тебе противна?
– Ужасно, – признался Владя.
«Маврушка»Эпиграф мой, милый Валичка, – для краткого возражения на ваши слова, что отношение брата у меня «недостаточно ясно выражено». А затем сразу перейдем, с этим покончив, далее.
В каких мы ни хороших отношениях, – а ведь я могу рассердиться. Я всегда сержусь, когда Нувель начинает меня угощать банальностями и общими местами. Я испокон веков считаю, что это ему не пристало. И не то мне жалко, не то сержусь. Будем мы еще с вами «об искусстве» рассуждать, о его «трепете жизни и бытия», – может быть, о его «святости»? Нет, нет, я не согласна об искусстве. Да и не умею я, да и не решусь: я слишком знаю, что я, будь хоть семи пядей во лбу, непременно ýже искусства. Наверно знаю, что есть и настоящее какое-нибудь, но которого я не вмещу – а другой вместит371. Кроме случаев несомненной бездарности и последовательной, – я никогда нейду дальше «нравится» и «не нравится» – о чем, как я вам писала, не спорят.
Итак, вопроса «об искусстве» и о том, что «литература первым делом искусство», – я не поднимаю. Я, признаться, думала, что и вы не сомневаетесь в моем естественном соединении «литературы» с искусством. А вот о «схеме» вы, должно быть, оттого не поняли, что я взяла неудачное слово. И чуть не вышло у вас, что «это тенденция», а «тенденциозное искусство – не искусство, ибо мертво» и т.д. Нет уж, я вам лучше на грубом примере объясню, что я называю «моей схемой» в искусстве. Помните мое вам стихотворение – «Грех»? «Полубезумие – полуничтожность»… Ну, не так, кажется, да я забыла, – вроде. Я описывала нечто в вас, подлинно существующее, но не как нечто в вас, – а как вас. В реальности вы не такой, никогда им не были и не будете. Но эта черта ваша, смешанная, умягченная, усложненная другими, часто ими заслоненная, – очень важна. И никто ее, может быть, в смешении и не разобрал бы (что она есть), – а теперь, благодаря моему «искусному» схематизированию, ее двое или трое увидели и запомнили, и вы сами могли бы увидеть, и это, пожалуй, было бы нужно. Не для «исправления» даже, а просто как нужное нам, радостно-желанное, ясные очи. Чтобы не останавливаться на вас – было у меня и другое стихотворенье «Она», напечатанное в «Весах», кажется. «В своей бессовестной и жалкой низости она как пыль сера……»372 И там все в таком роде, а кончается тем, что это «моя душа». Ну очевидно же, что моя душа вовсе не такая, и не была такою ни секунды. И однако все это она же, все это в ней есть, и очень хорошо, что я на минуту искусственно, посредством искусства очистила подлинно существующее от смешения. Увидела яснее. А так как я предполагаю, что есть и другие, на меня похожие (не одна же я на всем свете), то и для других душ кое-что пояснеет. Вот вам мой «принцип», осознание моего чувственного устремления. Когда я этого достигаю, когда нет – вопрос другой. Вам ведь взгляд, принцип казался непонятным.
Понятно теперь?
Насчет женщин и мужчин…. Я, Валичка, разве возражала вам, что в таком случае женская психология непонятна мужчинам? Я и против вашего утверждения, что мужская недоступна женщинам, ничего не возражала. Это потому, что я тут смотрю гораздо проще и немножко шире, чем вы. Главное – проще. Я как-то не могу с вашей определенной резкостью разделять всех людей на чистых мужчин и чистых женщин, принимая к тому же за определяющий факт телесную половую организацию. Признаться, от вас особенно странно это слышать и не указать вам на противоречия. Вы могли бы знать, что пол столько же, если не больше, зависит от организации мозга, сколько от устройства тела. Больше потому, что часто пол определяется именно мозгом, в противоречии с телом. Тогда происходит выверт, более или менее полный, никогда абсолютный, конечно (жизнь не схематична, а в смешениях, в оттенках). Другое дело – если мы будем говорить о наиболее крайних типах, которые, в общем, редки (а потому и неинтересны): о мужчине с почти неуловимым женским началом, и обратно – о такой же женщине373. Тут я с вами соглашусь, что психология такой женщины скорее доступна такому мужчине, но только потому, что в среднем мужчины имеют гораздо больше творчества; вернее и точнее – только мужское начало – творческое, а женского творчества вовсе нет. Если и были фактические женщины (полом телесным женщины) творческими – то все же творило их мужское начало, а не женское. Этим и объясняется, что так мало и плохо творимое женщинами: мало еще в них мужского начала. Я в поле ставлю разделения начала мужского и женского; физиологи кладут пол в мозг, а вы, Валичка… в половые органы! Это, ей-Богу, примитивно, и жизнь на каждом шагу должна вам доказывать, что она сложнее, запутаннее и загадочнее.
Я вам не навязываю ни своих теорий, ни своих выводов. Вы только попробуйте взглянуть более объективно, более свободно от личных ваших вкусов, на которые никто не посягает, – да и зачем вам оправдывать их мыслями? – и вы увидите, что дела мира еще не так просто определились.
Если абсолютная женщина «низшее существо» (а есть ли, много ли абсолютных женщин?), если в «женском начале» нет творчества, – то зачем это женское начало? Уничтожить его, и дело в шляпе. Но, Валичка, я не знаю, зачем оно, а только знаю, что в нем своя, неизъяснимая, божественная прелесть, и знаю еще, что без него нет пола да и нет мира, ибо нет полюсов, антиномий, которые и суть жизнь мира, и даже все творчество в нем. Может быть, захотите вы тогда уничтожить лишь женщин, оставив женское начало в мужчинах? Но этим вы оскорбляете всю плоть мира вообще, не давая ей участия в жизни духа с его антиномиями и полярностями, не позволяете им тоже воплощаться, тоже искать своей последней гармонии. Дайте миру быть во всех его переливах и недоконченностях, не однородным внешне – ибо это влечет за собою внутренний хаос. «Непринятие» мира не должно быть комично и бесцельно, с такого-то числа и целиком и навсегда (Г.Чулков и мистический анархизм374) – но лучше принимать сегодняшний во имя завтрашнего. Так оно и веселее – и серьезнее. И понемножку яснее все делается, а это большая радость, хотя и обвитая глубоким страданием.
Видите, Валичка, ничего бы я вам не писала, если бы вы были действительно
…без радости – и без страдания…а вот пишу, значит, верю, что вы не такой, как в моем «Грехе». Но и грех – правда; только он – схема, т.е. то, чего реально не было, нет и не должно быть.
Может быть, впрочем, вы не любите «ясные очи». В них – риск: вдруг увидишь такое, что в себе не понравится, а изменить не сможешь. Оправданья же при «ясных очах» нет. И лишишься без него легкой радости ради бесцельных страданий. Это, конечно, не расчет. Я сама это отлично понимаю. Но что касается меня лично – тут я ничего не могу сделать. Люблю органически ясность взора, чего бы это мне ни стоило, хотя бы потери самого себя.
Вы отлично нарисовали портрет Ауслендера. Я так живо его себе представила, что потеряла всякую возможность ему писать. Нет уж, Валичка, лучше вы пока воспитывайте эту молодежь, вас ведь давно влекла педагогическая деятельность, а я не буду. Ко всякому воспитанию надо относиться серьезно. А я слишком смешлива, я чересчур чувствительна к комическим чертам, до слабости. Я бы над этими вашими юношами прежде всего стала так хохотать, что ничего, кроме глупого, из наших отношений бы не вышло – к обоюдному неудовольствию. Я все признаю: и серьезность искусства, и даровитость, и молодые творческие силы, и всяческие искания, а вот отсюда вижу, как смущал бы меня бес хохота над «изнеженным» Ауслендером и его гомосексуальными аспирациями, – и пусть это грубо и неблагодарно, сама знаю, – а вот хохочу375. И над Кузьминым бы стала хохотать при всем искреннем признании его таланта. О Гофмане, которого немножко знаю, и говорить нечего376. А какой уж воспитатель – смех! Нет, я для вашей молодежи не гожусь. Меня она не переделает – я уж стара для вольтов, а я ее сейчас динамической не признаю. Да и нет у меня исключительного влечения к юности, как у вас. Мне подавай равных, я, вон, и на вас сержусь, когда вы меня заставляете какие-то заржавленные вопросы поднимать и повторять четыре правила арифметики. Пусть поучатся у вас, пройдут ваш опыт (чем скорее, тем лучше) – и уж потом либо поборемся, либо поучимся друг у друга. А пока им еще нежно и на диванах валяться – что я могу?