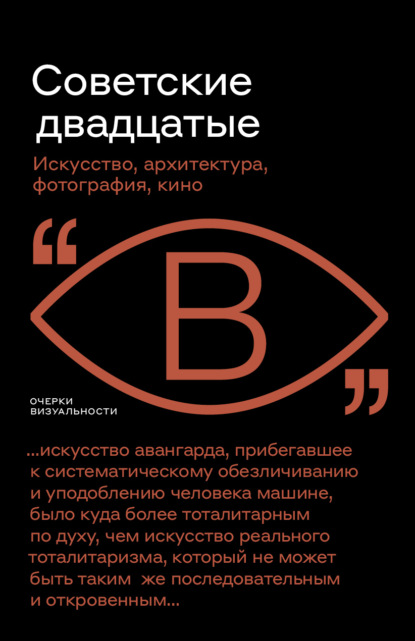Полная версия
Очерки поэтики и риторики архитектуры
У зиккурата иные отношения с небом, нежели у кромлеха. Грани Этеменнигуру наклонены внутрь и усилены широкими равномерно распределенными вертикальными ребрами – контрфорсами, которые придали им физическую и визуальную жесткость (сравните гладкий лист бумаги с гофрированным) и покрыли их вертикальными тенями, границы которых ведут взор вверх, к Нанне. Если человеку, стоящему посредине кромлеха, каменное кольцо могло представляться ротондой, покрытой каменным куполом, центр которого находится в недосягаемой выси, то зиккурат сам устремлен в небо, располагаясь под его центром и словно бы соприкасаясь с ним. Имя Вавилонской башни «Этеменанки» означает «Дом, где сходятся небеса с землею».
Зиккурат Этеменнигуру стоял в почти прямоугольном священном дворе размером 110 на 85 метров в ограде, обращенной длинной стороной на северо-восток, со входом в восточном углу. Двор был приподнят на метр над уровнем священного квартала, где при раскопках обнаружены отдельный двор Нанны, его большой храм, храм его жены Нингал и царский дворец. Был еще ход к зиккурату через двор Нанны.
Все было устроено так, что, откуда бы вы ни шли к зиккурату, исключалось постепенное его увеличение в поле зрения: его видели издали, потом он на время исчезал за зданиями и оградами, а когда человек входил в священный двор, взгляд внезапно упирался в черную громаду нижнего яруса зиккурата, возвышающуюся на расстоянии пятидесяти-шестидесяти шагов. Сразу становилось ясно, что фасад Этеменнигуру обращен на северо-восток, потому что именно с этой стороны к нему примыкали три лестницы по сто ступеней каждая: одна – перпендикулярная фасаду и две других, поднимающихся вдоль фасада от углов. Все три сходились в павильоне, стоявшем на высоте первой платформы, от которого ответвлялись вверх и в стороны другие лестничные марши.
Эти лестницы – чрезвычайно плодотворная идея. Что мешало снабдить зиккурат гладкими пандусами, построить которые было бы проще? Дело в том, что на равномерно наклоненную дорогу невозможно прочно встать обеими ногами ни чтобы передохнуть, ни для церемониального приветствия или выстраивания почетного караула. Лестницы зиккурата – не просто вертикальные коммуникации. Они были важнейшими архитектурными средствами оформления торжественного ритуального церемониала, вводя в переживание архитектуры особым образом оформленную длительность шествия, которой не существовало в Стоунхендже. Назову эту модель шествия «восхождением». «Когда Иакову в Бетеле якобы приснилась ведущая на небо лестница с поднимающимися и спускающимися по ней ангелами, он просто бессознательно пересказал то, что слышал от своего прадеда о великой башне Ура. Там лестница тоже вела на „Небеса“, именно так и назывался храм Нанна, и там жрецы по праздникам торжественно сносили вниз по лестнице и поднимали обратно статую бога, чтобы год был урожайным, чтобы приумножились стада и не оскудевал род человеческий»36.
Потомки не забудут находки зодчих зиккуратов. Выступающие из стены ребра-контрфорсы будут использоваться всякий раз, когда надо придать зданию величественность, даже если оно возведено на не нуждающемся в контрфорсах стальном или железобетонном каркасе. Лестницы станут любимым приемом архитекторов эпохи барокко, оформлявших выход государя к посетителям и их восхождение к нему как политический перформанс.
Храм Амона-Ра в Карнаке
Принципиально другая архитектурная модель торжественного ритуального шествия представлена древнеегипетскими храмами. Каменные развалины величайшего из них, посвященного Амону-Ра, стоят на восточном берегу Нила, рядом с нынешним арабским селением Карнак на месте главного центра почитания Амона – древних «стовратных», как называли их греки, Фив в семистах километрах от устья Нила.
«Для Египта раньше и острее, чем для других стран, встала проблема замены дерева каким-то другим материалом, – писал Людвиг Курциус. – Страна Нила бедна деревом, зато богата превосходным строительным камнем. С тех пор как архитектура взялась за большие задачи, старых строительных средств – нильского ила, тростника, кирпича, дерева – больше не хватало или они не могли дать требуемого впечатления величия и роскоши. (…) Архитектура Передней Азии никогда не освободилась от кирпича, греческие и римские храмы долго строились тоже из необожженного кирпича, и даже северная архитектура осталась бы деревянной, если бы не римское, а затем романское каменное зодчество, воздействовавшее на нее. При исследовании оказывается, что движущей силой мировой архитектуры, внедрившей каменное строительство, был Египет, оказавший влияние сначала на Крит и Переднюю Азию, а затем и на Грецию»37.
Карнакский храм Амона-Ра строили более тысячи лет, продвигаясь с востока на запад вслед за отступавшим берегом Нила, нанизывая на прямую ось, направленную на восход солнца в день зимнего солнцестояния, всё новые звенья комплекса, протянувшегося в итоге на четыреста метров. Жрецам было важно, чтобы вход в храм не удалялся от берега: близость Нила гарантировала их храму благополучие.
Участники религиозных празднеств, приплыв по Нилу, высаживались на гранитной пристани и входили в храм через западный пилон, поэтому пилоны нынешнего комплекса пронумерованы египтологами с запада на восток. Но нынешний первый пилон – не древнейший. Во времена царицы Хатшепсут и фараона Тутмоса III, когда начался период наиболее активного строительства храма, пристань находилась в шестидесяти шагах от третьего пилона – самого древнего, так что место, на котором впоследствии вырос Большой многоколонный (гипостильный) зал, было на треть под водой. Ко времени Тутанхамона Нил отошел более чем на двести метров, однако храм обзавелся огромным бассейном на месте нынешнего первого двора, соединенным с Нилом широким каналом. К VIII веку до н. э., когда Нил освободил всю территорию, занятую ныне храмовым комплексом, бассейн перестал существовать, благо первый пилон находился в ста метрах от берега, остававшегося в течение последующих четырехсот лет неподвижным38. Ныне Нил ушел от этого пилона более чем на полкилометра.
Задолго до того, как пришвартоваться к храмовой пристани, посетители видели на фоне далеких скалистых обрывов, за прибрежными пальмами гигантские трапециевидные грани пилонов и иглы обелисков со сверкающими остриями. Постепенно панорама строений поворачивалась к ним фронтально, обелиски исчезали за пилонами, и, когда прибывшие ступали на пристань, все поле зрения занимал самый грандиозный пилон высотой сорок пять и шириной сто тринадцать метров. Аллея сфинксов с бараньими головами вела к проему, зажатому между двумя колоссальными каменными трапециями. Десятки сфинксов слева и справа различались только тем, что у левых головы освещены, а у правых оставались в тени, – и от этого посетителю могло показаться, будто не он приближался к пилону, а пилон надвигался на него всей своей непомерной высью и ширью. Флаги на прикрепленных к пилону мачтах, гигантские ярко раскрашенные фигуры и иероглифические надписи на необъятных стенах создавали торжественное настроение. В отличие от привычных нам выпуклых рельефов, у египтян плоскость стены не являлась фоном изображений – напротив, она выступает вперед, и это заставляло воспринимать стену как цельное, нерасчленимое каменное тело, которое сохраняет изображения несравненно дольше, чем выпуклый рельеф.
Врата храма в сравнении с громадой пилона казались щелью, хотя на самом деле в них десять шагов ширины при утроенной высоте. В обширном квадратном дворе, окаймленном по сторонам портиками десятиметровой высоты, внимание сразу захватывала аллея шириной в двадцать метров, образованная дюжиной симметрично стоящих колонн двадцатиметрового роста с капителями, изображающими распустившийся цветок лотоса. Утром левая, а около полудня правая колоннада отбрасывали сплошную тень. Каменная аллея вела ко вторым вратам, таким же, как первые, однако в их проеме сгущалась темнота. Обрамляющий их пилон, равный первому, из‐за небольшого расстояния казался твердокаменной беспредельностью.
Миновав вторые врата, прибывшие оказывались в Большом гипостильном зале, где надо было дать время глазам, чтобы увидеть что-либо после залитого светом двора. Вырисовывалась аллея колонн такой же высоты и с такими же капителями, как во дворе, но более массивных. Но ширина ее уступала той втрое. Из-под каменного перекрытия пробивался справа, через решетки, свет, косых полос которого хватало, чтобы высветить только верх левой колоннады. По сторонам – исчезающее во все более плотном сумраке множество мощных десятиметровых колонн, несущих на себе плоское каменное небо. Привыкшие к сумраку глаза могли читать колонны как свитки, исписанные врезанными и раскрашенными иероглифами.
Оказаться в этом окаменевшем лесу, находясь на самом деле в долине реки, протекающей сквозь великие пустыни, значило перенестись силой архитектуры в мир иной, где нет ни немилосердно палящего солнца, ни песчаных бурь. Чтобы лучше представить переживания участников празднества, вспомним, что прежде, чем фиванские жрецы объединили своего бога с гелиопольским богом Солнца Ра, Амон (в переводе «сокровенный») был олицетворявшим плодородие богом ночного неба, отцом бога Луны. Искусно используя контрасты тьмы и света, архитектура храма Амона-Ра могла напоминать об исходно противоположной сущности объединившихся богов. Если аллея сфинксов под открытым небом воспринималась как область владычества Солнца-Ра, которому подчинялась бараньеголовая свита Амона; если во дворе Ра делился властью с Амоном, чьими представителями выступали защищавшие от солнца колонны, то в Большом гипостильном зале Амон царствовал. Его имя, согласно одной из этимологических гипотез, восходит к слову «вода»; лотос же, чьи распустившиеся цветы изображены капителями главных колонн этого зала, – растение водяное. Балки перекрытия опираются не на капители, а на невидимые снизу кубические блоки меньшего размера. Поэтому казалась, что окрашенный в голубой цвет потолок распростерт над аллеей колонн, как небо над Нилом.
На оси среднего нефа Большого гипостильного зала светился в сумраке проем такой же ширины, что предшествовавшие, но не столь высокий – врата третьего (древнейшего) пилона, почти столь же грандиозного, как первые два. Миновав его, шествующие неожиданно оказывались в поперечном каменном ущелье стометровой длины между третьим и четвертым пилонами. В нескольких шагах по сторонам от процессионного пути устремлялись в далекое узкое небо четыре обелиска. Между четвертым и пятым пилонами, размеры которых значительно уступают первым трем, процессия снова вступала из света в темноту, в узкий поперечный Малый гипостильный зал с тесно поставленными семью парами колонн. Пронизывая перекрытие этого зала, устремлялись в небо два тридцатиметровых обелиска Хатшепсут39. Выйдя из этого зала, пройдя сквозь сравнительно небольшой шестой пилон и миновав Зал анналов, на стенах которого изображены военные триумфы фараонов, жрецы останавливались в четырехколонном святилище. Здесь на алтаре стояла священная золотая ладья Солнца.
22 декабря через проем в заалтарной стене луч восходящего солнца проникал в храм, представляя рождение Солнца и начало солнечного года. Горизонтальный луч пронизывал врата, залы, дворы, скользя мимо колонн и обелисков. Священную ладью со статуей сидящего в ней Амона несли из святилища к Нилу, спускали на воду, и фараон совершал в ней торжественное плавание по реке, после чего ладью возвращали в святилище.
Многократно повторяя идентичные архитектурные формы, направляя ритуальное шествие сквозь симметричные анфилады, остро противопоставляя простор и тесноту, свет и тьму, резко сменяя продольную ориентацию поперечной, варьируя без постепенных переходов высокие и низкие перекрытия, египетские зодчие умело настраивали человеческую душу на мистическое предвосхищение богоявления. В этой драме пилоны играли роль завес, до определенного момента скрывавших очередную фазу священнодействия и тем самым повышавших степень его эмоционального воздействия.
Несмотря на значительные разрушения, очень сильное впечатление производят до сих пор колоннады Карнака. К началу строительства храма Амона-Ра колонны были знакомы египетским зодчим свыше тысячи лет, однако прежде они не использовали колоннады с такой изобретательностью, так многообразно. В этом храме мы видим колонны в различных вариантах, которые впоследствии будут встречаться в архитектуре различных эпох, разных стран: в качестве ограждения галерей, в свободно стоящих рядах, в многоколонных залах с верхним освещением, разделенных на продольные и поперечные нефы, как в христианских базиликах. Изобретенный египтянами гипостильный зал найдет применение в сооружениях различного назначения: в константинопольской подземной цистерне Базилика, в персепольском дворце Ападана, в мечетях дворового типа, в читальных залах библиотек, в залах ожидания транспортных терминалов.
Поэтика колонны
«Колонна – это наиболее чистое выражение поэтической сущности архитектуры. В обыденной жизни она не нужна. Но повсюду, где ищут форму выражения величие и роскошь, жизнерадостность и фантастика, колонна является главной выразительницей праздничного мироощущения»40.
Впервые мы видим колонны в ансамбле пирамиды Джосера, и нам даже известно, кто их придумал. «Вес тяжелых каменных балок кровли Южного дворца Имхотеп [главный архитектор фараона. – А. С.] передал на мощные пилоны, но их углы обработал трехчетвертными каннелированными колоннами, создав ощущение, что именно они держат вес перекрытия». Такого же типа полуколонны – как бы имитация деревянных – обнаружены на одном из фасадов Северного дворца. На стене другого здания сохранились полуколонны высотой около четырех метров, изображающие стебли папируса с распустившимися венчиками цветков41. В глазах египтолога колонна – атрибут важного общественного сооружения: дворца или храма.
Однако подлинный триумф колонны празднуют не в восточной, а в западной архитектурной традиции, где «они считаются основанием эстетической стороны проекта»42. «Целесообразно выяснить, откуда происходит эта страсть ставить колонны, продолжающаяся по крайней мере 3000 лет, поскольку именно это может привести нас к пониманию происхождения архитектуры», – заметил сэр Кристофер Рен43 задолго до того, как находки в Египте отодвинули время появления колонн на полторы тысячи лет назад. Попробуем найти ответ в архитектуре Древней Греции.
«Греческое слово для колонны stylos является источником английского слова style (стиль). (…) Здание без колонн называется astylar – „без стиля“», – напоминает Эндрю Бэллентайн44. Происхождение эллинской «страсти ставить колонны» (как и у египтян, в значимых постройках – прежде всего в храмах) надо видеть не в слепом подражании египетским образцам, а в своевольном стремлении утверждать художественными средствами победу вертикали над горизонталью, торжество человеческого искусства над силой тяжести. Характерно, что исходным размером для вычисления нижнего диаметра колонны, то есть модуля, относительно которого рассчитывались все параметры здания, являлась у греков заранее принятая ее высота – «та высота, на которую архитектор считает себя способным поднять конструкции крыши и антаблемент». Этот метод расчета, принятый в классическую эпоху, принципиально отличается от эллинистического метода, когда тот же модуль стали определять исходя из протяженности портика и расстояния между колоннами. «Эллины, таким образом, видят смысл архитектурного поиска в возведении конструкции, в утверждении вертикали, а в эллинистическом сооружении главным оказывается функциональный замысел, размещение в пространстве». Не ограничиваясь вертикальностью как конструктивным принципом, греки придавали очертанию ствола колонны легкую выпуклость, как бы упругость, чтобы обострить чувственное переживание эффекта преодоления гравитации45.
Витрувий, рассказывая о происхождении дорической, ионической и коринфской колонн, раскрывает их поэтику через принятые у эллинов аналогии между колонной и телом человека. А коль скоро заходит речь о человеке, неминуемо встают вопросы о достоинстве и уместности – о моральных нормах, обусловленных культурой. Риторическая природа «страсти ставить колонны» раскрывается у Витрувия в понятии «композиции» (compositio), которым он характеризует способность архитектора «соединять нечто для последующего запланированного взаимодействия». «При этом для каждой из соединяемых частей предусмотрена собственная линия поведения, собственная форма, из‐за чего возможность их сосуществования является проблематичной, требует от того, кто осуществляет операцию соединения, определенного хитроумия, реализующегося в приеме соединения». Мера независимости частей в бытии целого варьируется в широком диапазоне: от почти полного слияния соединяемых частей до, напротив, «соревновательной их борьбы, нацеленной на взаимное устранение или даже уничтожение». Таким образом, по Витрувию, «действие композиции несет в себе смысл целенаправленного переустройства мира человеком, соединения – прилаживания, примирения или столкновения несоединимого». Противоположностью композиции – насильственному соединению частей вопреки естественному ходу событий – является у Витрувия «совмещение» (conlocatio), получающееся как бы само собой46. Это противопоставление, которое во времена Витрувия, надо думать, ни для кого не было новостью, говорит о том, что над композицией работали там, где стремились произвести публичный эффект. Поскольку большинство теоретических терминов Витрувий заимствовал из философских и риторических сочинений47, осмелюсь предположить, что он обдумывал работу зодчего над композицией по модели сочинения речи риториком. Compositio относится к conlocatio примерно так же, как выступление оратора – к обыденной речи.
Ствол и капитель колонны столь же непохожи друг на друга, как туловище и голова человека. Это различие закреплено в самом слове «капитель», происходящем, как известно, от латинского caput – «голова». Возможно, во времена фараона Джосера сочетание в колонне стеблей и цветков претендовало на естественность и по-витрувиански это можно было бы назвать конлокацией. Но благодаря своей двойственной природе – одновременно конструктивной и изобразительной – колонна уже тогда обзавелась противоестественными, озадачивающими (по Витрувию – композиционными) свойствами: балки не могут лежать на цветах, не уничтожая их, цветы не бывают каменными, камень не может расти вверх – и тем не менее колонна с цветочной капителью как бы освобождалась от воздействия силы тяжести (как кажутся свободными от нее настоящие цветы и даже деревья) и, вопреки природе, не просто покорно несла тяжесть балок, а столь активно ей противодействовала, что, кажется, убери их – и колонна пойдет в рост.
Всем этим колонна отличается от столба – существа цельного, неделимого, нечленораздельного. Материал столба сопротивляется нагрузке, но в его форме это не выражено. Можно подумать, что нагрузка просто стекает по нему вниз, как вода по трубе. Столб – честный труженик, колонна – искусная обманщица. Она «создает ощущение», «имитирует», «изображает», то есть не может оставаться в нашем сознании только столбом. Мало того, что у дорической колонны мужской характер, а у ионической и коринфской – женский. Существует гипотеза, что первая известная греческая колонна коринфского ордера была установлена около 400 года до н. э. в храме Аполлона в Бассах, «на месте культовой статуи, так что сама колонна могла быть предметом почитания»48.
И все же в подавляющем большинстве случаев колоннам тоже приходится работать – и они почти всегда делают это вдвоем или коллективно, образуя прямые или изогнутые колоннады. Оттого что на протяжении жизни нам встречается неисчислимое множество колонн, поддерживающих плоские и арочные перемычки, мы и свободно стоящую колонну невольно воспринимаем так, как если бы она, не утрачивая присущего ей устремления ввысь, не была, однако, столь же свободна от воображаемой нагрузки, как менгир или обелиск.
Парфенон
Витрувий в триаде целей, которые архитектор должен иметь в виду, за какое бы сооружение он ни взялся, сначала упоминает прочность, затем пользу и, наконец, красоту. Но по количеству упоминаний (вместе с производными словами от ключевого термина) в его трактате решительно лидирует польза (119 упоминаний), от которой сильно отстает прочность (41 упоминание), а красота замыкает триаду (24 упоминания), причем чаще всего это архитектурное достоинство встречается в первых трех главах книги IV, где речь идет о колоннах49. Делаю несколько рискованный, ибо недоказуемый, вывод: для римлян красота не была желаемым свойством всякого утилитарно необходимого и прочного сооружения; она вообще была не столько собственным свойством сооружений, сколько украшением, которым архитекторы наделяли или не наделяли их, исходя из соображений декорума, то есть благопристойности; при этом главным средством украшения были колонны.
В Древней Греции господствующим типом здания с колоннами на протяжении четырех столетий (VII–IV веков до н. э.) был периптер – храм, прямоугольное помещение которого, замкнутое глухими стенами (так называемый «наос» – слово, означавшее одновременно и храм и жилище), обнесено со всех четырех сторон колоннадой. «Устройство наружной колоннады и навеса вокруг храма первоначально могло быть вызвано практическими целями – необходимостью защитить недолговечные сырцовые стены от косого дождя, укрыть собравшихся от солнца или непогоды; под навесом наружной колоннады, быть может, хранилось храмовое имущество и т. д.», – перечисляют причины возникновения периптера авторы капитального труда «Архитектура Древней Греции»50. Аналогичный довод приводит мимоходом и Борис Виппер51. Меня эти объяснения не убеждают. Для защиты стен и укрытия людей достаточно было бы навеса на выпущенных наружу деревянных балках перекрытия. Предположение о хранении храмового имущества под открытым небом нелепо: в храмах специально для этого существовал «опистодом» – небольшое помещение с отдельным входом, примыкавшее к наосу со стороны, противоположной главному входу. Красноречивое «и т. д.» убеждает в том, что выдумывать практические цели возникновения колоннады периптера – дело неблагодатное.
Наос Парфенона обнесен со всех сторон сорока шестью колоннами десятиметровой высоты. Колоссальный труд! А ведь без этих колонн ритуалы, связанные с Парфеноном, и прежде всего Панафинейские шествия, совершались бы неукоснительно без ущерба для сакрального смысла. Мало того, не будь колонн, участники процессий могли бы хорошо видеть (увы, скрытый колоннами) фриз, изображающий как раз то, ради чего они поднимались на Акрополь к храму Афины-Девы. Чем был бы хуже Парфенона храм, который получился бы, если бы Иктин (допустим, с согласия Перикла и санкции народного собрания) не стал ограждать наос колоннами, требовавшими колоссальных затрат труда и денег?
Элементарный недостаток такого храма заключался бы в том, что, будучи гораздо меньше Парфенона, он был бы малозаметен при взгляде на Акрополь снизу, из города, и не смог бы играть роль символа общегражданского единства Афин. Эта роль Парфенона была неотделима от его религиозно-культового назначения. Насколько она была важна для политического самосознания афинян, видно из того, что уже тиран Писистрат, правивший городом за сто лет до Перикла, стал понимать Акрополь не как укрепленную резиденцию светской власти (так было в микенский период, когда на неприступной скале стояла твердыня царского дворца), а как священный холм покровительницы города – Афины. Фортификационные преимущества Акрополя отходили на второй план, и вместо того, чтобы властно противостоять городу, он стал гигантским алтарем – медиатором между гражданами полиса и их божественной защитницей. Перестав быть цитаделью мужского владычества, Акрополь стал афинским местообиталищем богини-девы. В Гомерову эпоху это место было окраиной города – теперь же разросшийся город окружал его со всех сторон. Главный афинский храм (при Писистрате – Гекатомпедон, при Перикле – Парфенон) обязан был быть виден отовсюду52.
Сделать Парфенон внушительнее, не прибегая к схеме периптера, можно было бы, увеличив параллелепипед наоса, но не расширяя его, чтобы не усложнить задачу перекрытия. Получилась бы длинная, узкая, высокая нечленораздельная глыба с портиками спереди и сзади. Взойдя на Акрополь и направляясь к расположенному с противоположной стороны входу в Парфенон, Панафинейская процессия тянулась бы мимо его теневой северной стены – огромной глухой преграды, поднятой на три монументальные ступени и оживляемой только фризом. Однако малый размер его фигур еще усиливал бы сверхчеловеческую мощь неприступной стены. Это было бы серьезным испытанием для праздничного настроения участников шествия.
Я не хочу сказать, что Иктин думал: с колоннами строить или без? С тех пор как был изобретен периптер, сама возможность такого выбора была исключена. Чем же так привлекала эллинов периптеральная композиция? Тем, что торцевые стороны храма раздаются вширь, не осложняя конструкцию перекрытия. Вырастают фронтоны. Жилище бога, полускрытое ребристой колоннадой, воспринимается, как вещь в футляре, изяществу которого сообразна ценность самой вещи. Укрытое многоскладчатым каменным хитоном, жилище бога приобретает существенные свойства святыни – величественность и таинственность. Таковы преимущества периптера при восприятии издали.