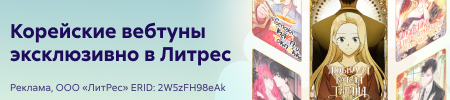Полная версия
Если честно

Майкл Левитон
Если честно
Посвящается маме, папе, «Еве» и всем тем, кто умудрялся любить меня даже в те моменты, когда я сам себе был противен
Michael Leviton
To Be Honest
Публикуется с разрешения Elyse Cheney Literary Associates LLC и The Van Lear Agency LLC.
Copyright © Michael Leviton, 2021
© Максим Череповский, перевод на русский язык, 2021
© Livebook Publishing, 2021
«Если честно» читается как ужастик про отношения. У меня все внутри сжималось от страха и одновременно я хохотал в голос!
Харрисон Скотт Ки,лауреат премии для юмористов Thurber Prize,автор книги «Самый большой человек в мире»Я не могла отложить эту книгу! Хотя, подождите, я только что солгала: мне же нужно было поспать и все такое. Но правда в том, что «Если честно» – поразительно смешной и душераздирающе трогательный текст. Майкл Левитон изложил такой бескомпромиссный взгляд на то, что значит быть правдивым и любить кого-то, что, прочитав эту книгу, вы обязательно задумаетесь о всей той лжи, которую произносили сами или выслушивали от других, лишь бы быть среди людей.
Сали Фэйт,американская журналистка, писательница,актриса, комик, теле- и радиоведущаяЕсли хочешь от кого-то честности, это надо заслужить. Мы не произносим этой фразы ни вслух, ни про себя, но чувствуем это на каком-то бессознательном уровне. Майклу Левитону потребовалось больше 30 лет, чтобы это осознать. Пожалуй, здесь и лежит важный, хотя и парадоксальный вывод, который можно вынести из опыта суперчестности.
ReminderПролог
Честные деньки подошли к концу. Всю свою жизнь я держался за правду, но пора наконец и мне сдаться и начать лгать. Я совершенно не был уверен в том, что у меня получится; три мои предыдущих опыта вранья – в пять лет, затем в восемнадцать и в двадцать шесть, по одной лжи на декаду – дались мне с большим трудом и отвращением, но я должен был хотя бы попробовать. Настал мой момент истины – то есть момент лжи.
Я плюхнулся на диван в тускло освещенной квартире в Бруклине, которую мы еще каких-то пару месяцев назад делили с Евой. Причем я специально оставил включенной только одну неяркую лампочку – я привык гордиться своей способностью с достоинством переносить любые лишения и несчастья, но мне все равно было невыносимо больно смотреть на кусочки того мира, который мы строили вместе с Евой на протяжении последних семи лет. Подаренный мною винтажный туалетный столик, у которого она прихорашивалась по утрам, ее мольберт, картины, рисунки, музыкальные инструменты, обеденный стол, который мы смастерили, приладив столешницу из орешника к кованым ножкам швейной машинки «Зингер» 1930-х годов – я физически не мог все это видеть, а потому сидел в темноте.
Моя естественность, по идее, должна была привлекать ко мне тех немногих людей, которые ценили бы меня таким, какой я есть. Именно так, как мне казалось, было с Евой. Но в итоге именно эта неукротимая искренность и подорвала наши с ней отношения – как, в общем-то, и все остальное в моей жизни.
Не существует никаких кружков помощи и поддержки для людей, страдающих от чрезмерной честности. Вся психотерапия основана на постулатах искренности и на лозунге «скажи как есть», а не «заткнись и помолчи хоть раз в жизни». Мне были необходимы советы ровно противоположные тем, что обычно дают психологи.
Я взял ручку и листок бумаги, сел за стол из швейной машинки и составил новый список правил для самого себя:
✓ Скрывай свои чувства.
✓ Избегай ответов на вопросы – они все равно никому не нужны.
✓ Не верь тем, кто якобы ценит искренность – у них иное понимание этого слова.
✓ НЕ будь самим собой.
Эти строчки мне самому сразу показались до смешного дурацкими – более нелепые и вредные советы сложно было придумать. Я уже хотел было позвонить Еве и спросить ее мнения, но вовремя напомнил себе, что звонок бывшей с целью известить ее о том, как поживает мое душевное здоровье после нашего расставания, есть типичное проявление как раз тех качеств, которые мне необходимо было в себе душить.
Несмотря на то, что благодаря своей искренности я насмотрелся на тысячи скривленных лиц, косых взглядов и неловких побегов от разговора, меня все еще не переставала удивлять реакция людей на честность. Даже сжимая в руке ручку и мысленно готовясь приучать себя ко лжи, я автоматически перебирал в уме десятки цитат известных людей о том, сколь приятно и легко говорить правду. Ведь многие так и не смогли выразить то, что хотели бы. Одна девушка как-то раз даже сказала мне, что хотела бы как по волшебству получить один день, который никто, кроме нее, не запомнил бы – лишь для того, чтобы иметь возможность высказать всем окружающим свое истинное мнение. В моей жизни каждый день был именно таким. Говорить правду для меня было не сложнее, чем петь. Правда, у большей части окружающих это вызывало подспудное желание меня придушить.
Казалось, все вокруг были прекрасно осведомлены о бессчетном количестве причин иногда затыкать уши и почаще держать язык за зубами; все, кроме меня. Я один никак не мог этого постичь. Каким образом кому-то может не хотеться услышать мнение окружающих? Как может не хотеться поделиться с ними своим? Такое отношение к миру было мне абсолютно неблизким и казалось до безысходности грустным. Люди на каждом углу расхваливают правду, а сами тем временем лгут или подталкивают других ко лжи десятки, а то и сотни раз на дню. Знакомясь с людьми, я часто открыто приглашал их быть честными в разговоре, но никто из них ни разу не принял это предложение. И чем больше я упирал на искренность, тем больше они начинали лгать и раздражаться, а это в свою очередь раздражало уже меня. И никто так и не смог или не захотел объяснить мне, чем вызывается такое поведение.
Дрожащей от досады рукой я дописал в свой список еще несколько правил:
✓ Не относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе – им это не понравится.
✓ Учись говорить ни о чем.
✓ Вместо того, чтобы искать людей, которые ценили бы тебя таким, какой ты есть, приучи себя быть таким, каким тебя хочет видеть собеседник.
По моему опыту неискренность радовала окружающих. Они словно знали что-то очень важное об этой жизни, чего не знал я. Иначе с какой бы стати всему миру столь упорно принуждать меня лгать? Почти все убеждали меня в том, что то, что я мнил неискренностью, на деле таковой не является, что я был смешон, буднично называя совершенно нормальное человеческое поведение фальшивкой. Казалось, пришло время снять наконец свои розовые очки искренности и взглянуть правде в глаза.
Когда я рассказываю людям о своем честном периоде и нечестном периоде, они обыкновенно либо злятся на меня, либо начинают жалеть. Ревнителям искренности не нравятся мои суждения о разрушительном влиянии честности и самовыражения на человеческую жизнь. Сторонники лжи и масок приходят в негодование от того, сколь поздно я осознал, что ставить окружающих в неловкое положение неправильно и некультурно. Некоторые даже говорили, что «все уважают честность», а уже через пару минут советовали мне не рассказывать людям мою историю. Кто-то утверждает, что сам факт написания этой книги доказывает, что я недостаточно посрамлен, что я не сделал выводов и не усвоил урока, а то и вовсе принципиально отказываюсь учиться на своих ошибках. Их точка зрения мне понятна: я вроде как согласился не рубить правду-матку, а тут взял и написал такую исповедь. Быть может, эта книга есть лишь оправдание рецидива, попытка разжечь старый огонь наших отношений с правдой. Хоть такое и не приветствуется в нашем обществе, я все же расскажу вам несколько историй из моей жизни, пусть и рискуя навлечь на себя немилость читателя или вызвать ненужную жалость. Обычно, когда просишь кого-то быть с тобой честным, можно смело рассчитывать на то, что собеседник не воспримет эту просьбу всерьез. С этой книгой все немного иначе. Переворачивая страницу, ты, мой читатель, просишь меня быть с тобой честным. Я не откажу тебе.
Часть первая
Просто быть искренним
Глава 1
Большинство людей
Родители старались заранее подготовить меня к неизбежным жизненным тяготам (таким как смерть, отвержение и прочие неудачи). В четыре года я уже был наслышан о многих подобных ужасах, однако особое место среди них занимали прививки. Я лежал в постели и со страхом представлял себе гигантские мультяшные шприцы с капающей с кончика иглы жидкостью. И вот в августе 1984 случилось страшное – мама сказала, что завтра меня ведут на прививку.
Мы тогда жили в часе езды от Лос-Анджелеса, в зеленом студенческом городке под названием Клермонт, с небольшими парками через каждые пару кварталов. Родители осели там от безысходности: у них так и не получилось устроиться на работу после колледжа – они слишком плохо умели врать на собеседованиях – так что в какой-то момент мама сопоставила энциклопедические познания отца в музыке с тем фактом, что в Клермонте не было на тот момент ни одного магазина с пластинками, и предложила это исправить. В общем, они честным трудом зарабатывали на хлеб.
Детский сад, в который меня собирались отдать, организовал вакцинацию своих будущих воспитанников в большой палатке через дорогу, прямо на краю парка. Дорога туда в целом напоминала обыкновенную семейную прогулку, только с щепоткой ужаса. Жар от раскаленного асфальта беспрепятственно проникал сквозь легкие парусиновые туфли, а яркое летнее солнце делало мои веснушки темнее и еще заметнее. Я был домашним ребенком и всегда жаловался на жару, выходя на улицу.
Мы зашли в парк, и перед моим взором предстала та самая адская палатка из синего брезента. Я оглянулся на маму с папой, почесал стриженую под горшок башку и заявил:
– Багз Банни так шел на расстрел.
Мама засмеялась так сильно, что с нее чуть не слетели ее здоровенные корректирующие очки.
– Какой же ты забавный, Майкл, – сказала она. – Даже когда ты напуган, ты совершенно уморителен!
Я даже забеспокоился, что из-за безудержного хохота мамы мой грудной брат Джош может ненароком вывалиться из слинга. Но в целом мамин смех радовал, поскольку все утро она только хмурилась и теребила свои наручные часы[1].
Вокруг палатки уже собралась целая толпа моих сверстников со своими родителями. Они сидели на заботливо принесенных заранее подстилках и шезлонгах, качались на качелях, играли в песочнице и развлекались на всю катушку без тени страха или волнения. Внезапно у папы загорелись глаза.
– Предсказываю, – начал он. Отец частенько развлекался предугадыванием поведения окружающих. Причем он практически никогда не ошибался, как будто наверняка знал, что в той или иной ситуации люди вокруг будут делать или говорить. Мне это казалось самой настоящей магией.
Для драматической паузы папа поскреб свою короткую каштановую бородку.
– Бьюсь об заклад, – продолжил он, подняв кустистую темную бровь, – что большая часть этих родителей не рассказала своим детям про уколы.
Предсказания отца всегда касались не всех людей, а «большей части» или «многих». Он учил меня не слушать тех, кто говорит про всех людей вообще, поскольку общей правды для всех не бывает.
Отец предсказывал лишь обыкновенное поведение людей. Как-то раз, когда он повел меня на мой первый концерт, он сказал:
– Гляди: сейчас Ринго спросит зрителей о том, как у них дела, и большинство начнет свистеть и аплодировать.
В другой раз, когда я ходил с ним по магазинам, он сказал:
– Сейчас я скажу продавцу, сколько готов потратить, и он тут же покажет мне вещи подороже.
Когда я спросил, как ему удается читать мысли и предсказывать будущее, он ответил мне так:
– Большинство людей подражают окружающим. Они идут по накатанной дорожке, следуя определенному сценарию, и зачитывают написанные за них реплики, которые все уже сто раз слышали.
Когда я спросил, почему они не придумывают вместо этого что-то новое, он ответил:
– Потому что боятся. А вдруг они кому-то не понравятся, если начнут свободно самовыражаться? А они до жути боятся кому-то не понравиться.
Он покачал головой и добавил:
– Просто смешно.
Сделав свое новое предсказание, отец усмехнулся, взял небольшую драматическую паузу и пояснил:
– Думаю, большая часть этих детишек думают, что отправились на обычную прогулку в парк.
– Получается, родители их обманули? – спросил я в ужасе[2].
– Большинство людей почему-то считают это неотъемлемой частью правильного воспитания, – ответил папа со своей фирменной ухмылкой, которая всегда появлялась на его лице вместе с «гусиными лапками» у глаз, когда он насмехался над «большинством людей».
Сойдя с тротуара, мы сели на траву. Отец с наслаждением вытянул свои длинные волосатые ноги. Во всех моих детских воспоминаниях он всегда носил одно и то же: видавшая виды крашеная вручную футболка с названием какой-то группы и бежевые шорты. В одежде мамы, сколько помню, было больше разнообразия – иногда она надевала футболки оверсайз и джинсы, а иногда просторные черные платья, развевавшиеся у нее за спиной.
Я смотрел на собравшиеся в парке семьи и пытался сосчитать детей. В какой-то момент из синей палатки показалась красная лицом мать, тащившая за руку своего всхлипывавшего сына. Внимание всех детей вокруг тут же переключилось на эту парочку. Сидевший рядом с нами на покрывале коротко стриженный мальчик заерзал, ткнул пальцем в вышедшего из палатки ребенка и спросил своего отца:
– Почему он расстроился?
Тот потер шею и ответил:
– Да все в порядке.
Я хорошо запомнил этого лжеца: гладко выбритый блондин в наглухо застегнутой рубашке с подвернутыми на мускулистых предплечьях рукавами. Сына его ответ явно не устроил.
– А почему он тогда плачет?
На это отец ему уже ничего не ответил. Его сын смотрел на него широко раскрытыми глазами. Мне было жаль его.
Папа как-то удрученно прошептал:
– Смехотворно.
Дети, случайно или намеренно подслушавшие разговоры соседей, со всех сторон задавали те же самые вопросы своим родителям. Упорно не желая говорить правду, их родители либо утверждали, что сделать укол будет совсем не больно, либо вообще отказывались обсуждать эту тему. Одна мать сказала своему ребенку: «Я никому не дам сделать тебе больно». Один за другим, все дети в парке впадали в различные формы истерики.
Я точно знал, что будет больно, но не знал, насколько, поэтому спросил у мамы: – А как это, когда делают укол?
– Как будто ужалили, – ответила она. – Или как боль от занозы. Но очень быстро проходит.
На тот момент воспоминания о случае, когда я занозил себе ногу, были, пожалуй, самыми болезненными в моей короткой жизни. Так что мысль о том, что я пережил и не такое, меня успокоила. Я более чем доверял маминому описанию предстоявшей боли. Помню, что думал тогда о том, как ужасно было бы, если бы я не доверял своим родителям и не имел возможности получить у них ответы на волновавшие меня вопросы, почувствовать некую твердую опору.
В один прекрасный момент из палатки высунулась медсестра и назвала мое имя. По ней сразу было видно, что она относилась к «большинству людей». Мы с родителями вошли в палатку. Внутри было достаточно просторно, царил полумрак; вместо пола под ногами была трава. Я приметил висевший на стене одинокий плакат, с которого мне показывал большой палец подмигивающий кролик.
Кресло для пациентов было детским, так что я, сидя в нем, доставал ногами до земли. Медсестра окинула меня взглядом, мысленно явно готовясь к новой истерике очередного дерганого пацана. Игла на распечатанном ею шприце оказалась куда тоньше и короче, чем в мультиках. Изогнув шею, я наблюдал за тем, как медсестра подносит шприц к тому месту на моем плече, где кончался рукав футболки.
– Смотри вон туда, – произнесла она, указывая на стену палатки, – на кролика.
– Я хочу видеть укол, – возразил я.
– Смотри на кролика, – повторила она.
Медсестра замешкалась и взглянула на моих родителей, потрясенно наблюдавших за происходящим. Она пожала плечами, а я сказал:
– Говорю же, я хочу смотреть. Вы мне не верите, что ли?
Прищур медсестры превратился в хмурую озадаченность. Очевидно, она сочла мои слова хамскими, но до меня ей явно никто не говорил подобного[3].
Она ввела иглу мне в руку, и я буквально разинул рот в немом благоговении. Жалящая боль от укола заставила меня вздрогнуть и сжаться, но в целом она была терпимой и быстро прошла, как и обещала мама. Я даже улыбнулся, радуясь маминой меткой оценке. Выражение моего лица ощутимо смутило медсестру. Она склонилась ко мне, тепло пожала мою маленькую руку и сказала:
– Ты самый храбрый мальчик из всех, что я видела.
Меня буквально распирала гордость – она явно делала уколы многим детям, так что из ее уст эти слова что-то да значили. В принципе, мне вполне верилось, что мало какой ребенок улыбался при уколе, особенно при первом в своей жизни. Я нежился в лучах мнимой славы – слова медсестры официально доказывали, что был самым храбрым пареньком в мире[4]. Я чувствовал себя победителем на некоем престижном соревновании. Я уже собирался толкнуть целую речь о том, что это все благодаря моим родителям, но отец успел первым.
– Все детишки могли бы быть храбрыми, если бы им давали такую возможность, – сказал папа. – Их родители даже про само существование уколов боятся им рассказывать.
Мама, у которой снова съехали очки, радостно улыбнулась.
– Они же плачут вовсе не из-за уколов, – добавила она, – а из-за предательства родителей[5].
Выслушав папу с мамой, медсестра нахмурилась и вновь обернулась ко мне.
– Я все равно считаю тебя самым храбрым мальчиком из всех, что мне доводилось видеть.
Я еще тогда заподозрил, что она испытывала ко мне жалость из-за того, что поведение моих родителей столь отличалось от прочих, и решила, что они, вероятнее всего, вырастят меня ненормальным[6].
Я гордо вышел из палатки с кусочком ваты и бинтом на руке, думая о блестящем будущем, ожидавшем самого храброго мальчика в мире, о чудесах, которые я увижу там, куда остальные побоятся заглянуть. Я представлял себе других детей, проводящих свою жизнь, глядя на подмигивающего кролика и упуская самое интересное.
Я повернулся, намереваясь поблагодарить маму с папой за то, что сразу сказали мне правду, но не увидел на их лицах и тени прежней гордости. Мама положила голову папе на плечо, а тот приобнял ее за плечи.
– Как же это несправедливо, – сказала она.
Папа вздохнул в ответ.
– Она все видела своими глазами – Майкл не заплакал. Она лжет детям, а мы вывели ее на чистую воду. Естественно, ее это взбесило, и она выместила свою злобу на нас.
Мама уныла поплелась за отцом, прохныкав:
– Мы ей не понравились.
Папа убрал руку с ее плеч и ощутимо напрягся.
– Ее мнение не должно тебя волновать, вообще. Она просто случайный чужой человек[7].
– Мы ведь просто сказали правду[8], – ответила мама, повесив голову.
Я хотел было обнять ее и сказать, что люблю, однако, почувствовав раздражение отца, решил встать на его сторону. Мне тоже хотелось, чтобы мама приняла наконец тот факт, что мы многим не нравимся и что оно того стоит. Что мы не могли быть одновременно нормальными и особенными. Самый храбрый мальчик в мире тоже не мог вот так просто взять и вписаться в свое окружение. Морально я был более чем готов к почетной социальной изоляции праведника.
Мои родители были уверены в том, что все дети рождаются честными, что мы абсолютно свободно самовыражаемся до тех пор, пока родители, учителя и сверстники не выбивают из нас искренность, наказывая и пристыжая за нее. Большей части людей гораздо более естественной и нормальной кажется как раз неспособность ребенка выражать свои чувства и мнения, а также подмена самовыражения мимикрией и имитацией, призванной хоть каким-то образом снискать у окружающих внимание и любовь. Согласно результатам ряда исследований, дети начинают лгать в среднем в возрасте примерно двух лет, за исключением тех, чьи родители обращают на это особое внимание. Так или иначе, мои родители никогда не задавались целью превратить нашу семью в маленький культ искренности – они просто были самими собой. Как и большей части других детей, мозги мне промывали совершенно не специально.
Вежливо – не значит уважительно
Когда я был еще дошкольником, мама каждый день играла со мной в «поделись своими мыслями». Я рассказывал маме всякую всячину, она все это записывала на бумажке, а потом мы по очереди иллюстрировали получавшиеся истории. Смотря какой-нибудь фильм или даже просто телевизор, я по ходу дела постоянно бегал к маме и рассказывал ей об увиденном. Эта часть процесса мне нравилась даже больше, чем, собственно, сам телевизор. Поняв, насколько я люблю разговаривать, мама даже придумала своеобразную игру, начав брать у меня интервью. Иногда она напоминала «Что ты выберешь?»[9], а иногда «правду или действие», только без действий. Определяться со своим мнением по тому или иному вопросу, формулировать и выражать его было моей любимой игрой. К тому моменту, когда мне исполнилось четыре, маме настолько нравились мои высказывания, что она решила их записывать.
Она поставила на мой маленький пластиковый детский столик диктофон и пригласила меня говорить обо всем, что придет в голову. Сама она села неподалеку и стала слушать, робко втянув шею, с застенчивым восторгом преданного фаната, получившего возможность взять интервью у своего кумира.
– Когда я нажму кнопку, просто говори все, о чем думаешь, – сказала она.
Глядя сквозь пластиковое окошко кассеты на крутящиеся катушки, я разразился свободным потоком мыслей, обретшем форму импровизированной философской тирады, причем говорил я без запинок, без всяких «э-э-э» и «м-м-м», и только не выговаривая «р» и заменяя его на «л».
– Если у тебя есть любовь, – выдал я на одной из таких кассет, – то у тебя есть любовь для всех в миле!
Потом я некоторое время рассуждал о «песке на зубах», поскольку слышал в рекламе упоминание зубного камня. Я все говорил и говорил, пока диктофон не выключился. Улыбавшаяся до ушей, вернее, до нижних краев своих гигантских очков, мама вернулась к моему столику и крепко меня обняла. Надо сказать, мамины объятия чаще всего походили на наезд особо любвеобильного грузовика.
– Я тебя люблю, люблю-люблю-люблю! – говорила она. – И люблю все твои мысли!
Кассеты эти я называл «Говорильные записи Майкла». Мама оставляла их в магнитофоне, стоявшем на тумбочке рядом с моей кроватью, чтобы я мог слушать их на ночь, убаюкиваясь звучавшим в темной комнате собственным голосом.
Папино же пристрастие к разговорам было столь велико, что он просто не способен был участвовать в диалоге, не отвечающем некому минимальному стандарту качества и ясности. Он, к примеру, совершенно не умел общаться с маленькими детьми. В четыре года я мог лишь вместе с ним слушать музыку в его фонотеке.
Отец устраивался на маленьком и жестком сером диванчике, окруженном, подобно крепостным стенам, полками высотой до самого потолка, на которых хранились аудиозаписи. Я обычно садился на укрытый серым ковром пол или на невысокую стремянку, на которую папа вставал, чтобы доставать пластинки с самых верхних полок. Иногда я раскачивался в такт музыке или даже танцевал. Папа чаще всего включал то, что, по его мнению, должно было мне понравиться. Моей любимой была «Boris The Spider» группы The Who. Уже тогда я понимал, что когда стану старше, то смогу говорить так же, как папа, и что наше с ним времяпровождение выйдет на новый уровень.
Как-то раз мы с мамой усадили отца впервые послушать одну из «Говорильных записей Майкла»; согласившись, папа устроился рядом с мамой на здоровенном диване, едва помещавшемся в комнате. Он закинул правую ногу на волосатое колено левой и, обернувшись к телевизору, принялся поглаживать покрывавшую его округлый подбородок бороду – именно в такой позе он обыкновенно слушал музыку. Из колонок полился мой голос; мне нравилось слушать его на большой громкости. Я постоянно переводил взгляд с маминого лица на папино, жадно ловя их эмоции. Мама радовалась, улыбалась и смеялась, а отец просто слушал, чуть наморщив лоб; его большие темно-карие глаза не выражали абсолютно ничего. Когда «Говорильная запись Майкла» кончилась, оборвавшись щелчком на середине предложения, отец шевельнулся, опустил обе босые ступни на ковер и сложил руки на коленях, обхватив локти.
– Для начала, – сказал он, – зубной камень не имеет никакого отношения к песку. Это болезнь, повреждающая зубы возле десен – вот этих розовых штук, из которых они растут, – он приподнял пальцами губу, продемонстрировав мне, о чем именно шла речь. – А в остальном я практически ничего не понял.