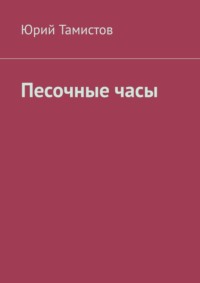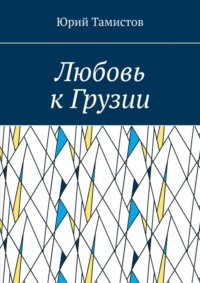Полная версия
Ангел Горный Хрусталь. Избранное
– Ну, Джи-и-идду, миленький, только на полчасика, – не отступала девушка, как ребёнок, капризно поджимая губы, – иначе я погибну от жары! Ведь ты этого не хочешь?
– А… знаешь же, что не хочу. Идите. Умеешь уговаривать. Но прошу, полчаса, не более, – покорился старик. – Элен – племянница старого друга из Бостона, – обратился он ко мне проводив взглядом молодую пару, – тоже без ума от Индии. Медитации, тантра и чудесные сиддхи, заповеданные тайны духовных учений – эти неодолимые чары Южной Азии. В голове – справочник по божествам индуистского пантеона. Видели бы её комнату – не отличить от лавки сувениров в Бомбее.
– Вы сами, похоже, не слишком религиозны? – заметил я.
– Возможно. А откуда у вас эта приверженность личностям или идеям? Как часто они обращают одного человека против другого, да и неверно сформулированное идеальное, зачастую, всего лишь прекрасный, респектабельный побег от реальности. Хотя, уж лучше в меру любить прекрасные иллюзии, чем не к добру уготованный револьвер в кармане… а вот посмотрите, что к доброму – наконец и долгожданная делегация джайнов прибыла из Удайпура. Не близкая путь-дорога от пустыни Тар до Малабарского берега. Вы не бывали в Раджастане?
– Не доводилось.
– Тогда советую романтикам: светлый город Удайпур в сердце пламенеющих песков, рядом в Ришабхдео храм Кесарияджи – замечательные места!
Я взглянул на идущую от ворот ашрама по направлению к главному корпусу группу одетых в белое монахов. Метёлки, марлевые повязки на лицах, осторожная, летящая над землёй походка – такими адептов Джины Махавиры мне и рисовало воображение после прочитанных книг.
– А мы через час отбываем в священный город Вриндаван. Легендарная родина Кришны. Говорят европейцев там сейчас больше, чем индийцев, – с лёгкой иронией продолжил разговор старик. – Элен и Ральф решили, что лучшего места для свадьбы не найти. Разумеется, без скандала с родителями не обошлось, но они настояли на своём. А вы, молодой человек, женаты?
– Нет. Но собираюсь, кажется…
Уверенности в ответе не прозвучало и откуда ей было взяться. Мои колебания не остались не замеченными. Старик внезапно оживился, его поблекшие под немилосердным солнцем глаза опять заблестели.
– Сомневаетесь? И не напрасно! – он энергично повернулся ко мне и немного придвинулся. – С вашего разрешения я объясню. Смотрите, – старик сложил пальцы так, если бы держал волейбольный мяч. – Вы тоже рассматриваете брак, как основу для образования семьи? Тогда пусть будет для вас несомненно – использовать другого, чтобы удовлетворить свои желания и обезопасить себя, – не значит любить. В любви не возникает желания обезопасить себя; любовь – состояние уязвимости, единственное, при котором невозможна отчужденность, вражда и ненависть. На основе такой любви может быть образована семья, которая не будет замкнута на себе и обособлена от всего остального.
Собеседник замолчал, откинулся на спинку скамейки и по прикрытым векам и мечтательной полуулыбке стало ясно – разговор окончен.
Я поднялся и пошел к выходу из ашрама и почти уже миновал старинные, кованые ворота, когда к ним стремительно подкатил видавший виды «Мустанг» неопределенного цвета. От резкого торможения он уткнулся носом в землю, облако бурой пыли наконец-то настигло и злорадно накрыло его, дверца открылась и из машины выпорхнула Элен.
– Эй, едем! – радостно крикнула она, из-за ограды помахав рукой старику.
За ней вышел Ральф и, очевидно, господин Робинсон, грузный, краснолицый человек. Он обливался потом, с раздражением вытирая его со лба и шеи платком. Когда они поравнялись со мной, я спросил у девушки:
– Извини, Элен. Тот, кого вы называете Джидду – кто он?
– Как, ты не знаешь!? Это же Кришнамурти! Разве ты не читал его книг? – брови ее удивленно взлетели, она молитвенно соединила ладони и, устремив ввысь укоризненный взгляд, покачала головой. – Нет, о небо, он не знает!
Серьезности ей хватило не надолго, она тут же звонко рассмеялась: «О Маугли то хоть слыхал?» – и побежала догонять своих спутников.
– Зато я читал Кама сутру и знаю, как «ночью достигается цель бытия»! – запоздало и невпопад выпалил я следом.
– Дурак! – не оборачиваясь парировала Элен.
Девичья насмешливая стрела не достала меня, а тропинка уже вела к морю.
Глава четвёртая
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
Аравийское море шумело и плескалось в десяти минутах ходьбы от ашрама.
С какой вестью спешат ко мне его волны?
О чем поют его белые птицы?
Зачем в глубинах теряются смыслы?
Зачем воленье его сокрыто?
И серебра зачем трепетанье?
И водных брызг кому бриллианты?
Я разулся и пошёл босиком вдоль кромки воды. Горячий песок обжигал ноги. У старенькой лодки с грязным, дырявым парусом вяло переругивались рыбаки. Летели облака, летели чайки и мысли мои летели гонимые полдневным бризом.
Идиллия закончилась внезапно. В один миг, объятые враждебной серостью, поблекли краски вокруг. Зло, по змеиному зашипел прибой и вода стала быстро отступать от берега. Резкий порыв ветра, едва не сбив с ног, с пренебрежением швырнул в лицо соленую пену. Испуганно закричали и побежали прочь от моря рыбаки, потому как ожесточённо вздыбясь, с нарастающим жутким гулом катилась на город достающая до небес волна.
Не понимаю, каким образом, но ноги сами вынесли меня на прибрежный откос, и я влетел в первый же попавшийся на пути домик. Захлопнулась дверь, душа обреченно застыла, ожидая рокового удара. Но ничего не происходило. Рев страшной волны исчез. Было тихо, только пение птиц, стрекотание кузнечиков и где-то сзади нежный звук флейты, играющей необычную мелодию.
Я медленно обернулся и увидел – сияющий лазурью небосвод, беззаботно застывшие в вышине чуть розовые облака. У самого горизонта, в зыбком мареве сухого, знойного воздуха плыли громадины лилово-синих гор и волнующая, как праздничный наряд красавицы, вся в цветущих абрикосовых садах, холмистая долина простиралась неоглядным зеленым океаном. Каменистая дорога бежала меж холмов по бурой, точно обожженной пламенем печи гончара земле, исчезая в густых зарослях манго и баньяна.
Неподалёку, под кроной «золотого дерева», склонив голову к правому плечу, сидел молодой флейтист. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, весело выводили на его тёмной коже световые узоры и чуть только легкий ветерок касался ветвей, прерывая покой их причудливых арабесок, пятна света, подобно застоявшимся в долгом ожидании танцорам, срывались в озорную круговерть неистовых плясок.
Деревенское стадо послушно стояло возле играющего пастушка. Зебу преданно смотрели на него большими, проникновенными глазами, очарованно вслушивались в голос флейты, покачивая в такт ей головами, позабыв о надоедливых мухах, траве…
Природа дышала благословенными ароматами весны, невинностью утра и таким пленительным умиротворением, что сладкая нега вдруг непреклонно и всецело сковала мое существо. Не хотелось двигаться, думать, казалось, нет большей услады, чем вот так просто стоять, вбирать в себя запахи цветов, прислушиваться к щебетаниям птиц, тихому говору колосков и, растворяясь в завораживающей красоте, бесконечно внимать волшебной флейте.
С трудом преодолев счастливое оцепенение я подошел к пастуху. Тот на мгновение прервал игру.
– Не спрашивай ни о чем, – глядя на вершины гор, предупредил он мой вопрос. – Мудрецы, зрящие истину, пришли к выводу, что несуществующее преходяще, а существующее неизменно. Ещё видят они, что твоя дорога свободна. Возвращайся домой с миром.
Его руки с длинными пальцами музыканта поднесли флейту к губам и она опять зазвучала.
Мне только и оставалось, как вернуться назад к маленькой хижине с оранжевыми стенами и крышей из пальмовых листьев. Влево от нее тянулась длинная череда таких же домов, утопающих в изумрудных акварелях тропической зелени. На деревенской улице, почти пустынной и скучной, еще инертной, не вполне освободившейся от томной утренней лени, вздымая пыль носились, как джины, невесть откуда возникающие вихри и лишь в самом дальнем конце ее дети бегали наперегонки с поросенком; женщина в голубом шла с корзиной на голове да две старухи, сидя скрестив ноги прямо на земле у стены дома, молчаливо глядели ей, как проходящей жизни, вслед.
Открыв дверь, я шагнул за порог в темноту, во множество поглотивших меня иллюзий. Их них память не сохранила ничего, кроме привидевшихся мне тонких, радужных паутинок, настойчиво и упорно тянущих в никуда, пахнущих то ли корицей, а может кардамоном, и также шумной ватаги небесных танцовщиц апсар, нежданно явившихся из пустоты и подхвативших меня, увлекая ввысь, в умопомрачительное пиршество красок своего колдовского хоровода. Сколько лет минуло, но до сих пор отчётливо слышу их гортанные голоса, пение и веселый смех, вижу разлёты пышных, чёрных волос, блеск жемчугов, драгоценных камней, мерцание чудных очей и ниспадающих с плеч полупрозрачных нарядов. Помню упоительно-тревожащие, осторожные прикосновение к моему лицу и плечам одной их них – божественной девы неземной красоты и её призывающий возглас: «Оставь сомнения и следуй за мной!»
Я не успел протянуть ей руку. Вслед за противным звуком лопнувшей струны свет, до боли жгучий и резкий, обрушил вращение тьмы и ударил в глаза.
Pause
Профессор без объяснений прервал рассказ. Задумался. Между тем поезд стал замедлять ход и остановился в ночи на одном из бесчисленных российских полустанков. Наш вагон оказался напротив освещенного парой тусклых фонарей низкого, доживающего свой век вокзальчика прятавшегося от осеннего ненастья под кровлей из некогда красной черепицы. Осыпающаяся кое-где по углам штукатурка, извечный скрип вдрызг раздолбанных дубовых дверей. Седой, погружённый в своё прошлое старик, без всякого интереса из-под каменных ресниц смотрел он на нас жёлтыми глазами зала ожидания
Зачем, скорый поезд, ты остановился здесь?
За слегка приоткрытым мною окном купе хозяйничал хлесткий осенний дождь успокаивая на перроне ветреную кутерьму опавших листьев. Капли барабанили по стеклу, змеились прозрачными струями стекая вниз. Я с наслаждением вдохнул в себя вместе с брызгами летучей влаги свежую прохладность воздуха, запахи N-ского городка и сырых полей.
– Погодка… в такую хороший хозяин собаку из дома не выгонит, – заметил мой визави. – Вот он, настоящий октябрьский декаданс, амальгама золотой поры увядания и этой старенькой архитектуры, но нам ли грустить?
Николай Иванович разлил по стаканам остатки французского вина:
– Хвала тебе, терпкое «Шато Лафит», что согреваешь в непогоду, за напоминание о далёкой Франции, о обласканных солнцем красных виноградниках Арля и Бордо! Merci beaucoup! – он приподнял стакан любуясь игрой гранатовых оттенков цвета. – Вам слышны нотки фиалки и миндаля? Кстати, о вине. Меня научил правильно радоваться ему давний приятель Гога Брегвадзе, широкой души человек, а какой тамада, вах! Непревзойдённые, восхитительные тосты говорил он на дружеских застольях в «Цисквили»! Поэмы…
– Так, может, и вы чего произнесёте, Николай Иванович?
Я потянулся за своей порцией.
– Тост? Пожалуй, произнесу, – он слегка привстал, поправил очки, за серо-дымчатыми линзами которых мне никак не удавалось разгадать выражение его глаз:
– Полагаете, Саша, судьба ни с того, ни с сего, неведомо зачем или, попросту говоря, случайно свела нас в последний день октября? Если нет, то кто ведает сокровенные пути её? Кто минует её, если он уже здесь? Кто не запрашивает о ней, потому как знает – он и она одно? Так давайте дружно поднимем бокалы и выпьем за наш прекрасный и непостижимый мир, в котором ничего не начинается и ничего не заканчивается, где многое проходит, так и не начавшись, и где смерть придает прелесть застолью…
На первом же глотке я поперхнулся и неловко закашлялся. Профессор участливо похлопал меня по спине.
– Всё в порядке, генацвале? – спросил он с приятным кавказским акцентом. – Э, погоди, уважаемый – я еще не закончил…
Гудок тепловоза не дал ему договорить. Зябко кутаясь в мокрый плащ, полусонная дежурная по вокзалу на прощанье равнодушно махнула нам рукой. Состав вздрогнул, клацнул сцепками и тронулся в путь, оставляя позади навеявший воспоминания детства уголок провинциального захолустья. Размытые очертания обветшалого братства станционных стен, скованного холодной сыростью, мелькнули напоследок сюрреалистичным виденьем и растворились в темноте.
– Вот, вспомнилась молодость, – продолжил профессор, когда исчезли в ночи огни маленького городка. – Тогда, по общему мнению моих родных и близких свои двадцать два года я неожиданно оказался не столько обладателем, сколько пленником не самого лучшего хобби – увлечения философией и, естественно, благодаря её безмерному и бессистемному изучению, страдал от кажущейся собственной неполноценности, логического тупика несовершенной мысли, уязвлённой гордости раба, овцы, которую пасут, ничтожной значимости личности в чудовищном круговороте космических сил… и прочих подобных глупостей. Общем, цветущий весенний сад, изрядно напуганный лёгким утренним заморозком.
Такое чересчур затянувшееся, неприятное состояние юношеской мировоззренческой рефлексии не могло продолжаться бесконечно. Что-то должно было измениться. Это что-то ждало своего часа, чтобы измениться. И оно изменилось. Я написал об этом книгу. Но разве я один? Разве долгими вечерами над ней трудился я один и разве не трудились со мною вместе они – мои друзья? А радостный и беспечный май, то игривый, то задумчиво меланхоличный, с дивным взором наивных, голубых глаз ребёнка свято верующего во исполнение всех своих сокровенных мечтаний; май, месяц светлых надежд, разве не он сказал мне: «Садись и пиши!»?
Слушая складные, хоть и туманные речи попутчика, я потянулся к висевшей куртке и достал из кармана пачку сигарет.
– Дайте, дайте-ка её мне! – Николай Иванович нежданно забрал пачку у меня из рук. Нарочито тщательно он с раздумчивой улыбкой несколько раз пересчитал сигареты. – Так, так… семь pitillos? Если до восхода солнца выкурю их вместо вас и ради вас, то, можете не сомневаться – вы навсегда забудете эту способную погубить прихоть. Желаете пари? Ваша ставка? Договорились? Вот и славно! Но, однако, мы отвлеклись от главного и, если позволите, Саша, я продолжу.
Глава пятая
СЕНЕКА
Мучительно жгучий и яркий свет ударил в глаза.
– Сенека приветствует тебя, благородный юноша! Откуда ты? Кто ты? Посланец богов? Нет, вижу ты удивлен не менее моего.
Болезненно морщась, я стоял, ошеломлённо разглядывая стоящего передо мной в светлой тунике пожилого человека.
– Что же молчишь? Как имя твое? – спросил тот, стараясь казаться спокойным
– Николай.
Мне никак не удавалось сосредоточиться оттого, что в голове неотступно и громко звучала монотонная мелодия флейты пастушка. Но именно она успокаивала меня, придавая оттенок скучной обыденности невероятному происходящему.
– Где я?
– Ты в усадьбе Луция Аннея Сенеки, римского всадника. А вон там, – незнакомец показал на виднеющиеся вдали на холмах строения, – хранимый перстами судьбы Рим.
– Неужели вы тот самый Сенека, что написал «Нравственные письма Луцилию»?
– Тот, не сомневайся и великий Нерон наш император.
– Не везло вам с императорами.
– Ты знаешь?
– Да, изучал историю Древнего Рима в университете.
– Древнего?
– Ну, да, ведь Сенека жил 20 веков тому назад.
– Жил… вот как…
Что-то случилось с ним. Он переменился в лице – от растерянности не осталось и следа:
– Всё же боги послали тебя ко мне. Две тысячи лет… И ты знаешь каков мой последний день? Нет, не говори. Чтобы ни произошло, не обрадую недруга печальным и хмурым лицом и не стану уже сегодня мучаться от предстоящего завтра. Дурная привычка засылать свои помыслы далеко вперед. Так предвиденье, величайшее из данных человеку благ, оборачивается во зло… Но прости, Николай, что же, что же мы стоим? Смею ли назвать тебя своим гостем, почтенный? Корнелия, – окликнул он женщину, которая стояла поодаль и с интересом разглядывала меня, – прикажи Гектору готовить угощение. Да пусть не забудет фрукты и холодный мульсум.
– Предчувствую ты исчезнешь столь же внезапно, как и появился. Будь великодушен, поговори со мной!
Он жестом пригласил следовать за ним.
– Этот медлительный смертный век – только пролог к лучшей и долгой жизни… За весь срок, что простирается от младенчества до старости, мы зреем для нового рождения. Нас ждет новое появление на свет и новый порядок вещей. Поэтому и скажу тебе: привязывайся к самым дорогим и близким не больше, чем чужой человек; уже здесь помышляй о более высоком и величавом.
Шествуя за философом и витая в эмпиреях, я слушал его речь рассеяно, поглядывал вдаль, поверх холмов, приютивших Вечный Город, на чуждое небо в лучезарно-дымчатой синеве, на тревожный разлёт облаков…
Мы остановились под сенью раскидистого платана. Сенека встряхнул плечами отгоняя печаль, затем снял с руки перстень и протянул его мне:
– Прими, будешь помнить гражданина Рима.
Я не посмел отказаться и пока примерял подарок он говорил чуть торопливо, чуть взволнованно то ли мне, то ли себе:
– Жизнь – как пьеса: не важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. К делу не относится, тут ли оборвешь ее или там и как хорошо пройти весь путь жизни раньше смертного часа, а потом безмятежно ждать, пока минует остаток дней, ничего для себя не желая, ибо ты достиг блаженства и жизнь твоя не станет блаженнее, если продлится еще.
Перстень оказался в самый раз, плотно сел на палец и уже не хотел сниматься.
– Что молодым, до стариковских ворчаний. Прости мне надоедливые сентенции и расскажи о своем времени. Что-нибудь изменилось за двадцать веков к лучшему? Чем живёте, чем дышите?
Я поблагодарил за подарок и высказал банальное: что, мол, поменялось лишь внешнее, так же ищут счастья, а власть и роскошь по-прежнему для многих главные мерила успеха.
– Удивительны слова твои. Неужели гордыня, зависть, жадность – дети глупости и скудного ума еще не покинули вас? Неужели все так же заблуждаются люди, когда желают счастливой жизни и принимают средства к ней за нее самое и чем больше стремятся к ней, тем дальше от нее оказываются. Ведь начало и конец блаженства в жизни – безмятежность и непоколебимая уверенность, а люди копят причины для тревог и не то что несут, а волокут свой груз по жизненному пути, полному засад. Так они все дальше уходят от цели.
Флейта в моей голова наконец умолкла. Я спросил:
– К чему же стремиться?
– Счастье… – лукавое слово. Когда-то я писал Луцилию: «Что не желать, что иметь – одно и тоже. Все зависит от мнения. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным, самый счастливый – тот, кому не нужно счастье, самый полновластный – тот, кто властвует собой. Считай себя блаженным тогда, когда среди всего, что люди похищают, стерегут, чего жаждут, ты не найдешь не только, что бы предпочесть, но и чего бы захотеть».
– Тогда скажите и о противоположном. Чего избегать?
– Избегай незнания, как зла… и вот этого, – Сенека напряжённо прислушался и я тоже уловил доносящийся издали резвый цокот копыт. Через пару минут конный отряд из десяти всадников со знаками принадлежности их к преторианской гвардии шумно ворвался во двор усадьбы. Трое из них спешились и подошли к нам.
– Улыбаешься? – не поприветствовав, нагло и высокомерно начал офицер. – Рад мне?
– Конечно рад, Аврелий. Не имеющий багажа путник поёт даже и повстречав разбойника. Но не мешкай, приступай сразу к делу – привез мне белых грибов от отца Отечества?
Сенека кивнул на мешок, притороченный к седлу одного из жеребцов.
– Собачье красноречие еще не покинуло тебя, ритор. Никак не наговоришься, – ответил Аврелий, – Но все, acta est fabula – пьеса сыграна. Сенат высказался, и дело кончено.
– Сенат… осёл трется об осла.
Солдат сзади захохотал.
– Прикрой рот, Лентул! Ты меня сегодня с утра раздражаешь!
Дорогие доспехи с позолотой яростно сверкнули на солнце.
– Не жарко в железе скакать, префект? Опасаешься немощного старца? – усмехнулся Сенека. – Ты бы и пару центурий прихватил.
Преторианец недовольно сдвинул брови:
– Не твое дело, в какой форме и кого назначаю в сопровождение, – позаботься вернее о себе. Наш величайший и всемилостивейший император дарует тебе еще три дня, чтобы достойно уйти. Хочешь публичного позора? Нет? Так почему тянешь? Другого не будет.
– Тебе ли учить о достоинстве, Аврелий? Чин предполагает? Да, сегодня ты на коне, но представь, как слепой случай меняет всё – возможно завтра за твои уроки благочестия не дадут и сестерция!
– Завтра… Завтра и посмотрим, а ты говори, говори – тебе уже ничто не повредит, но вот выслушивать твой бред, философ, у меня нет ни желания, ни времени. У тебя всего-навсего три дня! Максимум! Ты меня услышал!? Три! – внезапно зло выкрикнул последние слова офицер так, что любопытствующая дворовая челядь испуганно прижалась к стенам дома. Его настроение окончательно испортилось. Гвардеец, наконец, обратил внимание и на меня. От тяжёлого взгляда у меня едва не дрогнули коленки.
– Это кто? Как странно одет, – спросил он Сенеку, но тот не ответил. – Молчишь. Хорошо, дай сам угадаю – твой раб, банщик? О, да у него на пальце твой перстень! За какие заслуги награда? Неужто перед нашими очами твой любимый юноша? Ты ещё можешь, старик?
Солдаты понимающе заухмылялись.
– Назови своё имя? – подступил он ко мне. – Твоя рожа мне кажется знакомой. Не из людей ли ты нечестивого Пизона? Не соизволишь говорить? Желанна участь Эпихариды? Так… тогда поедешь с нами, дознаватель скоро развяжет тебе язык!
– Не трожь его, Аврелий! Это мой гость, – Сенека встал между мной и префектом. – Клянусь всеми богами – он не имеет отношения к заговорщикам! Прошу тебя…
– Отойди в сторону, – префект бесцеремонно оттолкнул старика и указал на меня солдату. – Марк, свяжи его.
«Как связать? Ведь тот, с флейтой пообещал, что дорога домой свободна» – я попятился, оглядываясь на двери дома инстинктивно чувствуя за ними свое спасение. Но солдат предугадал намерение и с руганью кинулся ко мне. Он догнал меня на ступеньках дома. От удара кулаком в спину я потерял равновесие и со всего маху ткнулся лбом в мраморную колону.
Прохлада кафельной плитки помогла очнуться. Ни Рима, ни преторианцев, ни философа в светлой тунике – тягостная музейная тишина и картины вокруг. Кружилась и разламывалась от тупой боли голова, слегка подташнивало. Я поднялся с пола и вопреки слабости в ногах, немедля ни секунды, под подозрительными взглядами пенсионерок смотрительниц заторопился к выходу из музея, лишь в вестибюле остановился у огромного зеркала, чтобы привести себя в порядок. И что же – с той стороны на меня смотрел довольно испуганный, молодой парень с беспокойно бегающим взглядом, взъерошенной прической, огромной ссадиной на лбу. Я поднес ладонь к лицу смахнуть запёкшуюся кровь и замер, пораженный увиденным – на среднем пальце левой руки, на массивном перстне два серебряных льва цепко держали в лапах пронзительно красный рубин в оправе из золотых листьев лавра.
Глава шестая
ПРОБУЖДЕНИЕ
С глубоким вздохом облегчения, хромым лисом, едва не затравленным сворой гончих и благою волею судьбы оторвавшимся от погони, я без оглядки покинул художественный музей, неведомо зачем вернулся к кафе, с которого и началась эта, только что не лишившая меня рассудка вереница событий; покрутился на смотровой площадке у самолётика Нестерова, тщетно пытаясь обдумать произошедшее, привести в порядок скачущие мысли и, немного погодя, медленно побрел вдоль чугунного ажура перил Верхне-Волжской набережной к площади Минина. Там сел в автобус и через полчаса стоял на лестничной площадке дома №16, перед дверью своей квартиры… и перед своей соседкой.
Клавдия Антоновна Кашина держала на поводке свою постоянную спутницу и любимицу и, как обычно, была не в духе. Муська тоже была не в настроении и с лаем кинулась мне под ноги, делая вид, что собирается в клочья изорвать джинсы. Желание двинуть гнусной дворняге под бок я еле сдержал, поскольку и сам находился в плачевном состоянии, на грани нервного срыва.
– Антоновна, будь добра, заткни пасть своей шавке!
– Муся? Шавка? Хамло молодое! – возмутилась соседка.
– Так сразу и хамло? Опять набралась с утра пораньше, уважаемая?
– Набралась? Ты к чему это белебенишь, недоросль? Как с пожилой женщиной разговариваешь? Мало ужо тебе по башке-то настучали.
Не имело смысла выяснять отношения с одинокой пенсионеркой – звездой местного эпатажа и непревзойдённой сочинительницей скандальных либретто, но сойти со сцены не успел – от её громкого драматического сопрано дверь напротив распахнулась и на подмостках появились супруги: Ева и Жорж Бадаевы – давние оппоненты Антоновны.