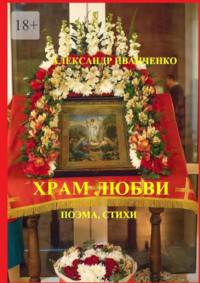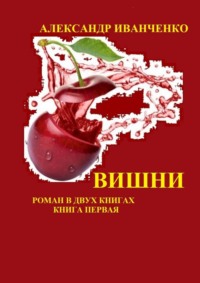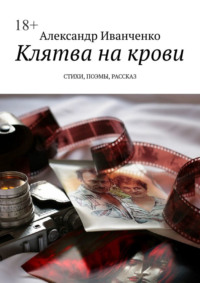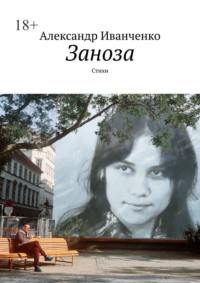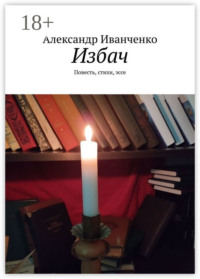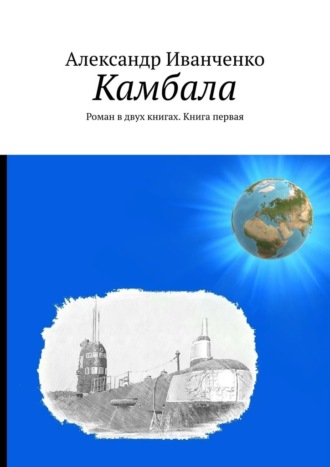
Полная версия
Камбала. Роман в двух книгах. Книга первая
Действительно, мне за этот месяц, узнав многое из-того, что не было доступно из средств массовой информации, отражающих нашу действительность пафосно и многое замалчивая, я узнал даже то, что другие люди узнали только ещё через 15—20 лет, с приходом «эпохи гласности» в нашу повседневную жизнь, а не в жизнь с разговором в полголоса на кухне, с зашторенными окнами.
Не дождавшись ответа, председатель комиссии повторил вопрос:
– Уважаемый, время, – машинально показав пальцем на наручные часы, – за дверью с нетерпением ждут твои товарищи, с большой благодарностью и желанием занявшие бы твоё место, если…, – и не досказав, умолк, посчитав досказанность излишней.
Я тоже это прекрасно понял, не мог не понять:
– Нет, спасибо за предложение! Я не хочу ехать в Ульяновск и военным тоже не буду. Видимо, мне предписано, – машинально вскинув голову вверх и с удивлением понял, что я постепенно начинаю из атеиста превращаться, хоть пока ещё не в верующего, но с убеждениями, явно противоположными тех, которые нам все эти годы внушали в школе и обществе, продолжил, – найти себя на гражданке. Я люблю технику, люблю земля и свою глубинку, с её бескрайними просторами.
Возможно, я передал свою речь не дословно, кто может это сделать, по истечению почти 50 лет, но, по сути, правильно, а по убеждениям, которые мало изменились с тех пор, точно абсолютно.
Члены комиссии переглянулись, они явно ожидали другой ответ, да и, наверняка, другой на моём месте крепко бы ухватился за такую возможность. А я был в глубокой душевной прострации и, если бы меня сейчас приговорили и повели на расстрел, я бы безвольно, пошел без сопротивления и протеста. Видимо и до меня дошло, что я поступил так, как не следовало бы. Но, что сделано, то сделано, назад дороги нет, я её только-что отрубил своим ответом. Значит, такая моя судьба. Как не сопротивляйся и не юли, от неё не уйти.
– Постановление. Решением мандатной комиссии, кандидат в курсанты Новочеркасского высшего военного краснознаменного командного училища связи, Иванченко Александр Иванович, отчислен из списка поступивших, за поведение, порочащее честь будущего защитника Родины. Число. Подписи членов мандатной аттестационной комиссии, – зачитал тот же, приставших с места подполковник и после прочтения, уже уставший за пару часов работы комиссии, плюхнулся на стул.
– Можете идти. Мы вас больше не задерживаем, – сказал кто-то, но я уже не видел кто и не было желания видеть. Кто-то из младших офицеров направился к двери приглашать следующего кандидата в курсанты.
На меня посыпался град вопросов, как только я вышел к толпе тех, с кем недавно были в равных правах и имели одну и ту же цель – стать военным.
Говорить не хотелось, но не ответить было бы неуважением к тем, кто от души переживал за меня и принимали утомительные попытки найти меня живого и здорового на прилегающих к лагерям территориях, просто тем, кому было любопытно узнать, накажут меня или нет.
– Исключили. Не моё это. Не буду я военным, – ответил я кратко.
И от меня все отстали, потому что понимали причины моей неразговорчивости, чего, конечно, раньше не наблюдалось. Но, то, что было раньше, кануло в лету или в ту, небольшую речушку, под названием Грушевка, что петляла сразу за ограждением из колючей проволоки, которая, как мне стало казаться в последние дни обвило грудь и голову, как терновый венец на голове нашего спасителя и вонзается в мой рассудок и в мою душу, делая мне больно и заставляя меня принять то решение, которое я принял.
До свидания Казачьи лагери, прощай мечта стать военным!
Забирая документы, мне было отказано в выдаче, положенной уже в то время к выдаче по требованию поступающего, справки о результатах вступительных экзаменов. «Против военных не попрёшь», – подумал я и поехал домой ожидать приезда с отдыха на море родителей.
Но мне этого не дал сделать брат, опять наседающий с тем, чтобы пока не поздно, ехать и пробовать поступать в другой ВУЗ, куда угодно, чтобы год не пропал или, потом, армия.
Приехав в Ростов и остановившись у родных, в доме тети Лиды, я, долго не раздумывая, быстро сфотографировался и сдал документы не в ВУЗ, а в техникум связи, из-за того, что всё-таки эта профессия была постоянно у меня в мыслях и на слуху и я от нее не мог освободиться. Успел в аккурат ко второму потоку поступающим.
На первый экзамен шёл, как подневольный, только с одним словом в голове «надо». Меня отец с детства приучил к такому понятию, что «нет слова «нет», есть слово «надо». Видимо сказались все неординарные события последних дней и та «каша» в голове, которая не давала сосредоточиться, но письменный экзамен по математике я сдал на «хорошо», без особого старания и напряги.
А тем временем приехали родители и мать, не разбирая сумок, сразу приехала в Ростов.
– Что ты делаешь? Какой техникум? Ты способен на большее, – пыталась переубедить меня мама, услышав всю историю о моих пережитых злоключениях, сначала от старшего сына дома и затем уже от меня. Еще, будучи на море, они успели там получить от меня пару писем, с результатами первых двух экзаменов и были уверены в том, что я поступлю. Спокойно отдыхали, пользуясь первой возможностью оторваться от деревенских хлопот и работы без выходных и отпусков, за долгие годы труда в сельском хозяйстве.
– Только институт! – подытожила разговор мама.
Вступительные экзамены в институтах закончились. И нам не оставалось ничего больше, как ехать в Новочеркасск. Только сейчас я смог хоть немного рассмотреть город, а до этого знал только автовокзал и железнодорожный вокзал, где мне приходилось делать пересадки. На этот раз ехать в Казачьи лагери нам не пришлось.
Остановились мы у троюродного брата мамы, работающего прорабом где-то в строительной организации. У него был автомобиль «Москвич-400» или «401», я точно не помню. Главное, что я знал, что отец еще до моего рождения имел в далеком с 1951 или 1952 года такое чудо послевоенного автопрома. Он купил его в Ростове у военного, какого-то полковника. И действительно, я заметил, что в городе было столько таких автомобилей, что я больше в жизни никогда не видел столько одновременно в одном месте.
Он любезно согласился нас познакомить с городом, показать основные его достопримечательности, которые располагались как раз в шаговой доступности от училища. Училище располагалось на площади, рядом с центральным универмагом (ЦУМ), а в квартале отсюда площадь Ермака с памятнику знаменитому казаку и с не менее знаменитым казачьим собором, Новочеркасским Вознесенским кафедральным собором, вторым в то время по величине в стране, после Исаакиевского собора в Ленинграде тогда и сейчас, после строительства храма Христа Спасителя в Москве, был сдвинут на третью позицию.
На КПП у ворот училища нас внутрь не пустили, и дежурный офицер тоже отмахнулся дежурной фразой «распоряжения на поступало». Информации о просьбе встречи с начальником училища или заместителями не давали, игнорировав наши просьбы.
– Будем ждать генерала утром здесь, – сказала мама, уверенная в своих стремлениях, во что бы то не стало поговорить с генералом.
Не зря говорят, «смелость города берёт», утром, когда мы заблаговременно, часов с семи уже дежурили возле проходной, ближе к восьми часам, заметили уверенно приближавшуюся к воротам чёрную «Волгу». Выбежал из помещения КПП вахтенный, для того, чтобы быстро открыть ворота и автомобиль генерала без остановки смог въехал во двор училища, но стремительно бросившаяся под колеса «Волги» женщина, сбила его намерения от ранее отработанного движения, он изменил направление и бросился теперь уже вдогонку за женщиной, моей мамой, чтобы успеть её остановить.
Машина затормозила, остановилась. Из нее вышел знакомый мне генерал и дал отмашку курсанту со словами «Всё нормально!» Тот остановился там, где стоял.
– Что Вы хотели, гражданка? – спросил генерал строго и одновременно душевно, как и подобает, так думаю, генералу, не допускавшего панибратства и грубости в обращении с гражданским населением.
Мама поспешно объяснила суть нашего обращения, кивнув в мою сторону. Я стоял чуть в сторонке неподвижно, в ожидании очередного вердикта. Генерал, узнав во мне, кандидата в курсанты, недавно стоявшего «на ковре» перед ним и всеми членами комиссии и всячески противился здравому смыслу, прозвучавших из его уст слов делового предложения.
Мне он ничего не сказал – достаточно было сказано неделей раньше, подозвал дежурного по КПП офицера и приказал выписать нам пропуск то ли в отдел кадров, толи в учебный отдел (за давностью событий подзабыл совсем). Курсант, опомнившись, побежал открывать ворота. Чёрная «Волга», тронувшись, въехала в арку ворот и повернув во дворе, скрылась из зоны видимости.
Получив пропуск на одного человека, и проследовав, согласно объяснениям дежурного по КПП на второй этаж административного корпуса, я обратился к штабному офицеру. Который попросил подождать, потом долго пытался мне объяснить, то, что и сам не мог понять, но звучало это примерно так, что обычную справку с результатами он дать не мог (видимо из-за того, что где-то возникнет вопрос – «с такими результатами и не прошёл по конкурсу?»), потому необходима формулировка, оправдывающая в первую очередь их самих.
Где-то, что-то, у кого-то спрашивал и звонил по телефону и… И выдал мне академическую справку установленного образца с припиской внизу причины отчисления, на которую я сразу и внимания особого не обратил.
Я поблагодарил этого капитана-штабиста, а когда вышел в просторный двор училища, глубоко и с неким облегчением вдохнул свежего, но уже прогретого августовскими лучами утреннего солнца, воздуха и развернул справку, то опешил, надпись, просто, кричала – «за аморальное поведение»…
Мне лучше нужно была где-то найти спиртного, хотя я тогда не знал, как его пьют, потому мне его много не понадобилось, выпив и после этого хорошо кому-то «начистить» лицо, чтоб не сказать рыло. Второй вариант, можно было избежать этой позорной формулировки, просто не сдав экзамены или сдав на «троечки», тогда бы тот же капитан не ломал голову, как меня «опустить», а себе при том не замарать.
Не хочется даже рассказывать, как в приемных комиссиях тех вузов, куда мы обращались с этой справкой брезгливо смотрели на справку и на меня. Если бы я кого-то «замочил» при разборках в пьяной драке, то со мной, думаю, почтительней бы общались и, хотя бы, из-за боязни, прежде чем отказать подумали не раз «как бы чего после этого не вышло». Ну, что тут поделаешь, никудышний я был «аморал».
В единственный институт я ехал с желанием и не терял надежды поступить, это был тот, к профессии инженера-механика сельского хозяйства, которую я мог иметь, в случае его окончания был моей с детства тягой. И, если бы меня брат не «обработал» умело своей агитацией, могло быть несколько проще и не пришлось проходить, не через «круги ада», конечно, но много крови попортить, в первую очередь родным и понервничать, как минимум самому, пройдя через слом убеждений, которые до Казачий лагерей были непоколебимы.
Меня приняли с одним условием, как и ещё нескольких студентов и назывались мы «кандидаты в студенты». Скажу я вам, чувства неполноценности зашкаливали. Таким образом деканат старался подстраховать себя, в случае большого отсева в первую сессию, мы могли, как «запасные игроки» выйти на «ринг» борьбы за знания, а кто просто ради получения диплома, как штатные студенты. Как мы потом поняли, это было незаконная махинация деканата факультета или ректората всего института, эта разница не столь важна.
Началась другая, интересная глава моей студенческой жизни. И эту главу своей жизни, как и моего повествования о ней, я без раздумий назвал «Дядя Саша». А почему именно так, вы сможете узнать, окунувшись вместе с моими воспоминаниями в пучину студенческой жизни.
***
Если подвести промежуточные итоги месячного периода пребывания в палаточном лагере и всех событий, что со мной произошли серьезные изменения в самом стержне сознания. Что-то придало мне синусоидальные колебания, наподобие колебаний звука неправильного камертона, с убывающей и возрастающей тональностью. И, анализируя многие годы, прожитые после, жизненной стабильности, даже в спокойные «застойные годы». Взлёты и падения, погружения и всплытия. Может быть потому, при очередном «погружении» я оказался на службе в ВМФ, где мне пришлось отдать всё-таки Родине долг и это было лично моё решение. И служил, как вы уже догадались моряком-подводником.
Но это уже другая история, которую, может быть я расскажу, но, хоть и во время трёх лет службы я совершил несколько погружений, не в плане в подводное положение на подводной лодке, а именно по принципу синусоиды, плавно переходя из «положительной четверти» через «ноль» или «ватерлинию», погружаясь в отрицательную, на предельную глубину, из которой была всё-таки реальная возможность всплыть, иногда даже «критически опасная, но мне удавалось всплывать снова и снова.
Это моя жизнь, моя судьба. Что было в жизни больше, плохого или хорошего? Бесспорно, хорошего. Даже если хорошего были всего «крохи», они так сластили жизнь, что её горечи были нипочём.
Я люблю жизнь. Благодарен Господу за то, что он мне даровал это счастье жить. Любите жизнь и будьте счастливы, друзья!
Глава VI. «Кандидат»
Начало 80-х годов, ушедшего в лету, но оставшегося навсегда в памяти нас, людей той эпохи, как говорится, «когда «кирпичик» серого хлеба стоил 16 копеек, колбаса «Докторская» в натуральной оболочке по 2 рубля 80 копеек, вода газированная из автомата с сиропом 3 копеечки, а пачка «пролетарских» сигарет «Прима» – 14 копеек, я имел счастье быть в рядах студентов и «терпеть тяготы и лишения» и одновременно наслаждаться всеми прелестями этой, незабываемой, для всех студентов, уверен, поры.
Учился я в молодом, во всех отношениях, студенческом городке, одном из научных центров сельскохозяйственного производства. Город и одновременно являющийся сельским районным центром, с населением около 20 тысяч человек. Градообразующими предприятиями и организациями были, в первую очередь, АЧИМСХ – Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, который был основан в 1930 г. на базе Учебно-опытного зерносовхоза №2 (в апреле этого года было принято более полутысячи студентов, большей частью из г. Москвы и Ленинграда. Не могу понять до сих пор – городские жители и сельскохозяйственный профиль. Но партия сказала – «Надо!», комсомол ответил – «Есть!»), затем уже построенной НИМИС – научно-испытательной станции, завода гидроагрегатов и научного института «Сорго».
Но не об этом я хотел вам поведать. Кстати, когда у меня спрашивали, «где учишься?» – никто не знал такого города, но все кивали, когда называл «станция Верблюд». Именно так назывался будущий город в степи в 1929 году, когда туда проложили железную дорогу и построили первые бараки.
Большинство домов центральной части города представляли собой глинобитные общежития студентов и гражданские коммуналки. Кто не знает, это сооружение из деревянных брусков, сбитых в каркас по типу солнцезащитной решетки беседки и набитые глиняно-соломенным раствором. В них нужно было пожить, чтобы понять, что московские коммуналки отдыхают, по сути – это бараки.
Крыши напоминаю западный, даже американский стиль. Говорят, что в 30-е и 40-е годы их американцы и строили. Кто знает студенческую жизнь в те годы, тот улыбнется по-доброму и подтвердит мною сказанное. Общага – это своеобразная коммуна, в отдельно взятом здании, с ее правила и законами гласными и негласными. В отличие от проживания в квартире частного сектора, где цены «кусались», в общаге можно было за полтора рубля жить месяц, если… А вот под «если» понимается то, что могли за нарушение правил, просто «попросить». Для этого систематически проводились обходы в составе коменданта и представителей «студсовета», привлекались к этой работе и кураторы учебных групп и представители деканата. А так, как говорится, «От сессии до сессии живут студенты весело. А сессия всего два раза в год».
Многие те, кто был студентом, со мной согласятся, что самыми тяжелыми являются первые годы обучения в ВУЗе, или СУЗе. Особенно тяжело пройти психологический барьер, первую сессию. Получилось так, что я познакомиться смог со своими одногруппниками, не с «трудфака» – «трудовым» факультетом мы называли подготовительное факультет, где в течение полугода те, кто поступал не сразу со школьной скамьи, а через год или несколько лет, из-за воинской службы или вынужденные работать, а потом решивших посягнуть на «вышку».
Немного перескочу и скажу, что я сейчас работаю преподавателем и у нас два года назад защищался дипломник в 56-летнем возрасте, сейчас обучается и срок его защиты совпадет с возрастной планкой, с 55-летним юбилеем. Всё верно, учиться никогда не поздно, тем более что им, бедолагам, до пенсии, как говорили у нас на службе, «как медным котелкам», пахать и пахать. И даже не с абитуриентами, с «горячими» аттестатами, не успевшими запылиться, а так уж получилось, что я сдавал экзамены в военное училище и с результатами сдачи в виде «академической справки», поступил потом в институт. Сейчас вообще общепринятая практика, можно одновременно пробовать поступить сразу в пять ВУЗов. Тогда же это было новшество.
Познакомился я со своими одногруппниками в августе месяце, когда, по принятым тогда правилам, поступившие проходили, как можно назвать «курс молодого бойца» перед присягой, трудовую закалку на подшефных производствах. Чаще всего, работа была связана с уборкой урожая овощей или плодов. Нам повезло, мы работали на сборе яблок и винограда в садах питомника, как его величали и там же располагался консервный завод, для переработки фруктов и овощей. Хочется сказать, что в то, «застойное», как его оскорбительно или иронично называют, время, в области работали и в больших объёмах производили свою продукцию, кроме Зерноградского консервного завода, подобные предприятия: на моей родине, Сад-Базовсий завод, заводы в Семикаракорске, Аксае и др. И эта продукция распространялась по всему необъятному Союзу. Проходя службу на Балтике, в г. Рига, мне не раз на глаза попадались банки с соками, произведенными на моей малой родине, в Сад-Базе, как своеобразная весточка из дому.
Так как я вскочил на подножку зачисления на факультет механизации в самый последний момент, то мест в общежитии свободный не было, и мы подыскали в непосредственной близости по «шпаргалке» на вахте у вахтенной дежурной главного входа в институт, квартиру.
Моя хозяйка, оказалась моей тезкой, звали её Александрой Федоровной, а фамилия, при первом упоминании вызывала у меня легкую дрожь по коже и не только на спине. Не столько даже фамилия – Махно, сколько её вид, который я попробую по истечению почти полувека описать. Высокая, стройная, бесспорно красивая в молодости и привлекательная своей стройностью и отточенностью черт, уже немолодого лица женщины пенсионного возраста и в те годы, имела голос звонкий, как удар молотка-ручника, при помощи которого, кузнецом указывается направление удара кувалдой, который наносил его помощник – молотобоец, и в тоже время хлесткий, как звук при ударе кнута или даже не ударе, а когда пастух создавал хлесткий звук, профессиональным движением в воздухе, чтобы направить или подогнать стадо – одним словом, Махно. Честно скажу, я ее слегка побаивался, она была строгая, но, толи из-за моей покладистости, толи из-за внутренней мягкости души её, у нас не было за два месяца, пока я у нее жил, ни одного неприятного, скандального инцидента.
Комната в общежитии барачного типа была однокомнатная, удобства, конечно, общие. В доме проживали, как одинокие, так и семейные люди. Передняя часть комнаты с окном, выходящим во двор и с видом со второго этажа, через просветы между такими же бараками на чуть видимую крышу главного корпуса института. Справедливости ради, хочу сказать, что архитектура того, как в последствии его назовем «старого» учебного и административного корпуса, меня впечатляла. Мне нравилось там всё: просторный вестибюль, справа располагалось небольшое почтовое отделение, рядом огромный актовый зал, служивший вечером и залом для просмотра кинофильмов, как «кинотеатр АЧИМСХа». По сути, все три кинотеатра располагались в одном квартале, большую часть которого занимала, конечно, территория института и его строений.
Трехэтажное здание со «скворечником» на четвертом, только над центральной частью корпуса, где располагалась кафедра начертательной геометрии и машиностроительного черчения. Что есть еще и подвальные или полуподвальные помещения, мы узнали чуть позже, там установлено было в учебных классах и лабораториях модели, натуральные образцы двигателей и прочее, что нам предстояло изучать уже на военной кафедре.
Но я отвлёкся. Хоть меня привез на квартиру старший брат на колхозном грузовике, с провиантами и вещами на первый случай, хоть мать и договаривалась с хозяйкой, чтобы та, по возможности готовила мне завтраки, меня устраивали вполне буфеты утром и студенческая столовая в обед и вечером. Да, что тут темнить – стеснялся я просто, было неудобно, не барин какой, чтобы мне готовили и подавали со словами «ваша овсянка, сер!»
Комнату разделяла на две половины, мужскую и женскую, шторка, которой хозяйка зашторивала свое спальное место, в левом от входа углу. Моя кровать располагалась в левом дальнем углу комнаты, напротив окна, посередине наружной стены располагалось окно, в которое я любил наблюдать, скучая, при подготовке к занятиям или в дождливую погоду.
На выходные из близлежащего села к ней приезжала племянница. Также, как и тётя, добротная девица, скажем, без особых, надолго западающих в душу примет. По просьбе хозяйки сходил с ней в кино, благо кинотеатр в сотне метрах от дома. Во благо или нет, но наши прогулки после фильма заканчивались сравнительно быстро. Ухажёр из меня в те годы был никакой. Да и предстоящий разговор хозяйки, если что, меня не радовал.
Намного мучительнее мне было притворяться, что я сплю, когда школьница-старшеклассница, готовилась ко сну. Этот процесс для меня казался бесконечным. Прищуренным глазом я следил за колебания шторки в углу хозяйки, они спали на одной кровати. Может быть, из-за того, что спать на узкой кровати было неудобно, только боком, они шушукались до полуночи и даже далеко за… На следующее утро я свежестью не отличался.
Какое-то время нам пришлось пожить в еще более стесненных условиях уже втроем. Вторым квартирантом стал мой однокурсник, который невероятным образом ухитрялся нелегально проживать в разных комнатах своих же и моих, соответственно, одногруппников до тех пор, когда его не «накрыли» и не выставили «персоной нон грата». Звали «эту персону» Вова, его судьба была схожа с моей, он «запрыгивал на подножку учебного локомотива института» тоже, после неудачного поступления в Краснодарское военное летное училище. Возможно, что после этих похождений «нелегала» (не раз, при проверках комнат комендантом совместно со студсоветом, ему приходилось выпрыгивать через окно, ему дали стойкую кликуху «Поль». Как говорится, в тесноте, да не в обиде.
В общежитие, а по сути, в бараке, я ни с кем не смог сблизиться, познакомившись по общим интересам, хотя, как приучен был еще с детства здороваться со всеми, знакомыми или незнакомыми людьми, с которыми приходилось встречаться. Эта добрая привычка до сих пор сохранилась ещё в российской глубинке.
Только с одной пожилой сухонькой и маленькой, как «божий одуванчик» женщиной, проживающей по одному коридору наискосок у меня, по её инициативе были деловые отношения. Они заключались в том, что я дважды в месяц писал письма её сыну, служившему на самом юге нашего необъятного Союза, в п. Кушка, Туркменской ССР и один раз месяц посылочку с не хитростными домашними, а по сути купленными припасами на рынке, типа сала, чеснока и кое-каких вещей, собранных заботливыми материнскими руками. Я содержимое не видел, но заботливая мама офицера-пограничника, охраняющего южные рубежи нашей, тогда еще большой Родины добродушно об этом рассказывала.
За мою помощь она меня от души благодарила шоколадкой и что было под рукой, конфетами, печеньем или яблоками. Я выполнял ответственную работу, писал на посылке адреса мест отправки и назначения.
В субботу святым делом было посещение городской бани, расположенной в аккурат на этой же ул. Чкалова в сторону «Военведа». Военное ведомство – я так понимаю расшифровку этого сокращения. Это поселок, представляющий собой военный городок военных авиаторов, с ее инфраструктурой, квартирами, конечно, аэродромом и с пропускным режимом. В воскресенье я любил просто «убивать» время прогулками по городу и его окраинам – поселкам, имеющих свои названия: Старый, Новый, Тимирязева, Дубки, Военвед я уже назвал и «Питомник» выпадал из общего контура города, расположением в непосредственной близости к садам и виноградникам.